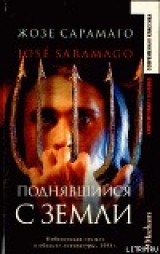
Текст книги "Поднявшийся с земли"
Автор книги: Жозе Сарамаго
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Растет семья, растет, несмотря на то, что мрут детишки от детских своих болезней, от неудержимого поноса, растекаются ангелочки жидким дерьмом, гаснут как свечки, опухают у них руки и ноги, вздуваются животы, и так страдают они день за днем, до тех пор, пока не придет их час: тогда они раскрывают глаза, чтобы увидеть напоследок солнечный свет; ну, а не повезло – так умирают в потемках и в тишине спящего барака, а когда утром мать проснется и увидит, что ребеночка уж нет, тогда и начнутся крики и вопли – всегда одни и те же, потому что матери, у которых умирают дети, ничего нового придумать не в силах. Отцы же… нет, отцы не плачут, отцы на следующий день идут в таверну, и вид у них такой, что они сейчас убьют кого-нибудь – не попадайся под руку. Возвращаются они по домам пьяные, никого они не убили – никого и ничего.
Мужчины далеко уходят на заработки, ищут, кто бы заплатил побольше. В глубине души все они – бродяги, носит их по всей округе неделями и месяцами, и домой они возвращаются для того только, чтобы сделать жене еще одного ребенка. А остальное время они работают на расчищенных от дубовых рощ землях, а ведь с точки зрения пахаря, каждая капля пота – что капля пролитой крови, эти же несчастные работают как каторжные, целый божий День, иногда и ночь прихватывают, пальцев обеих рук не хватит, чтобы подсчитать рабочие часы, круглые сутки не просыхает на них от пота рубаха и так – две недели кряду. Когда приходит время отдыха – не знаю, уместно ли здесь это выражение, – они валятся на охапку соломы, грязные, измочаленные, и всю ночь напролет стонут и бредят – ох, плохо тогда верится в слова падре Агамедеса, который возвращается домой, отобедав, как всегда по воскресеньям, у Флориберто, и хорошо отобедав, судя по тому, как звучно, на всю округу, он отрыгивает.
История, запомните, часто повторяется. И вот они, изученные усталостью, пластом лежат в бараке, кто спит не раздеваясь, а кто и заснуть не может, и вдруг сквозь щели в тростниковых стенах пробивается никогда прежде не виданное сияние; а ведь до утра еще далеко, это не заря, и один из них выходит наружу и цепенеет от ужаса, потому что с неба падают, как светляки, дождем сыплются звезды, и вся земля озарена так ярко, как никакая луна не озарит. Тут и остальные выходят посмотреть, и многие трясутся со страху, а звезды беззвучно падают и падают – и видно, конец света, а может, начало. Один, по общему мнению, самый умный, говорит: К переменам… Люди стоят, сбившись в кучу, и смотрят на небо, и горло у них перехвачено от волнения, и они обирают с грязных щек светящуюся пыль падающих звезд, капли этого ни на что не похожего дождя, после которого земля станет жаждать еще сильней, чем прежде, и по-другому – не так, как прежде. А один полоумный бродяга, который появился в здешних местах на следующий день, душою матери своей – мать-то еще жива-здорова – клялся: это небесное знамение предвещает, мол, что в полуразрушенном хлеву в трех легуа отсюда родился – от другой, правда, матери, и к тому же не девы – самый настоящий Иисус Христос, разве что зовут его иначе. Никто бродяге не поверил, и недоверчивость эта облегчила задачу падре Агамедеса, который, произнося воскресную проповедь в битком, против обыкновения, набитой взволнованными прихожанами церкви, высмеял дураков, верящих, что Иисус Христос вернется в мир именно так, как рассказал бродяга: Я – ваш падре, и я здесь для того, чтобы моими устами говорил Господь, у меня есть инструкция и приказы, я уполномочен нашей матерью, святой римской апостольской церковью, все слышали? А тому, кто не расслышал, я во лбу пробью дырку для третьего уха.
Но прав все же оказался тот мудрец, что предрекал перемены на небе и земле: слова его подтвердили абиссинцы, а за ними испанцы, а еще чуть погодя – еще полмира. Ну, а в наших краях все как спокон веку. Приходит суббота, приносит отдых, но такой он краткий и жалкий, что пролетает в один миг, и опять надо думать, где взять мужу провизии на следующую неделю, и озноб бьет человека, хотя на дворе и тепло. И женщина идет к лавочнику и говорит ему так: Сделайте милость, поверьте мне еще раз в долг, эта неделя уж такая была неудачная – погода, сами знаете… Или так: Сделайте милость, поверьте мне еще раз в долг, на прошлой неделе муж мой никакой работы не нашел, ничего не заработал… Или так, упершись от стыда взглядом в прилавок: Сеньор, к лету мужу моему обещали прибавить жалованье, он вам все сполна отдаст и заплатит за то, что мы просрочили… А лавочник, стукнув кулаком по приходной книге, отвечает: Я это все слышал уже сто раз. Лето придет, а собака-то лаять будет по-прежнему – долги как собаки, – интересно, кто первый это придумал: в наших краях народ наделен скудным воображением, вот вы представьте себе список должников у лавочника или булочника: карандашом жирно выведены цифры: этот должен столько-то, этот – столько-то, у этого долг – как маленький пушистый щеночек, пусть себе растет, а у того долг – здоровенный пес, зубы как у волка, это долг еще с прошлого года: Плати, а то закрою кредит. Дети голодные, болеют, а муж без работы, неоткуда нам денег взять. Знать ничего не хочу, заплати сперва, а потом уж проси… По всему нашему краю лают у дверей эти псы, гоняются за теми, кто не платит, кусают их за икры, кусают сердце, а бакалейщик идет на улицу и говорит всякому, кто захочет его слушать: Скажи своему мужу… остальное известно. И многие выглядывают из дверей, смотрят, кого это там честят-позорят: бедняки – народ жестокий, умри ты сегодня, а я завтра, не судите их строго.
Когда человек жалуется, значит, что-то у него болит. Ну, а мы жалуемся на эту жестокость, которой нет названия, и жалко, что нет: Что же с нами будет, денег-то всего ничего, а недели тянутся так медленно, а лавочник больше не хочет верить в долг, каждый раз, как я прихожу, грозится закрыть кредит, ни на грош, говорит, не отпустит товару. Поди, жена, попробуй еще разок, а ведь у мужа в груди не камень, а сердце, хоть он и произносит эти слова. Одна не пойду, я со стыда сгорю, пойдем вместе. И они идут вместе, но мужчина не больно-то годится для таких дел, его дело – зарабатывать и отдавать долги, а молить об отсрочке – дело жены, женщины к этому привыкли, они клянутся, божатся, негодуют, торгуются, могут и слезу пустить, могут и на пол хлопнуться – дайте бедняжке воды, ей дурно, – но все-таки идет мужчина, идет, хоть и дрожит, потому что должен зарабатывать, а он не зарабатывает; потому что должен семью кормить, а он не кормит. Сеньор падре Агамедес, как могу я исполнить то, в чем обещался, когда брал ее в жены?… И вот входим мы в лавку, а там покупатели взад-вперед, взад-вперед, торг идет, иногда и ругань слышится, а мы стоим в сторонке, в углу, возле мешка с фасолью, только не подумал бы хозяин, что мы украсть чего-то хотим. И вот опустела лавка, надо пользоваться, пока нет никого, и я делаю шаг вперед, я ведь мужчина, но руки у меня дрожат, когда я говорю: Сеньор Жозе, очень вас прошу, отпустите мне припасов, только на этой неделе не смогу я вам заплатить всего долга, я совсем почти ничего не заработал, но скоро мне прибавят жалованья и уж тогда, будьте покойны, я с вами расплачусь, ничего должен не останусь. Сейчас мне скажут, что это не ново, что эти слова уже произносились на предыдущей странице и не раз уже звуча-
ли в книге о латифундии – ну так и не ждите, что ответ на них будет иной: Нет, не отпущу в долг, но, прежде чем ответить, бакалейщик проворно смахивает в ящик те деньги, что я положил на прилавок. И тогда я, собрав всю свою выдержку – один господь знает, откуда взялась она у меня, – говорю: Сеньор Жозе, нельзя же так, мне нечем кормить детей, сжальтесь надо мной. А он отвечает: Слушать ничего не хочу, в кредит больше не отпущу, ты мне и так очень много должен. А я говорю: Сеньор Жозе, отпустите мне хоть что-нибудь в счет тех денег, что я вам вернул, нам бы хоть чуть-чуть продержаться, детей накормить, пока я где-нибудь не разживусь. А он отвечает: Нет, не дам, то, что ты мне вернул, не покроет и четверти твоего долга, и он стучит кулаком по прилавку, а я сейчас ударю его, изобью, зарежу ножом, бритвой, кривым мавританским кинжалом… Ты что, с ума сошел, несчастья хочешь, о детях бы вспомнил, сеньор Жозе, не обижайтесь на него, он обезумел, – и жена отталкивает меня к дверям. Пусти меня, я убью эту сволочь, и тут я вдруг понимаю, что не убью, я не умею убивать, а лавочник кричит мне из глубины: Если я стану верить в долг, а мне не вернут Долга, что будет со мной? И он прав, этот лавочник, но ведь и я прав…
И вот по причине того, что жизнь наша скудная и трудная, мы сами сочиняем истории о кладах или рассказываем те, что сочинили до нас: видно, и в старину велика была в них нужда. Много есть разных примет, и следует относиться к ним очень внимательно: чуть-чуть нарушим закон, и станет золото смолой, а серебро – дымом или ослепнет человек, бывали такие случаи. Вот иные говорят, что снам верить нельзя, но если тебе три ночи подряд снился клад и если ты никому про это не сказал – ни про клад, ни про то, где он спрятан, – значит, обязательно достанется тебе сокровище. А если проболтаешься – ничего не получишь, потому как у клада – своя судьба и человек по своей воле распорядиться им не может. Давным-давно одна девица три ночи кряду видела во сне, что в ветвях дерева спрятаны четырнадцать винтеней, а под корнями зарыт глиняный горшок, доверху полный золотыми монетами. В такие истории нужно верить, даже если это чистая выдумка. Девочка рассказала свой сон бабушке с дедушкой, и пошли они втроем к тому дереву. Полена сбылось: в ветвях они нашли четырнадцать винтеней, а под корнями копать не стали – пожалели дерево, больно красивое, а оголишь корни – засохнет. Неведомо как распространилось известие о сокровище, и когда они, сокрушаясь о своей жалостливости, вернулись к дереву, оно уже лежало на земле, под корнями – ямка, а в ямке, кроме разбитого глиняного горшка, ничего нет. То ли по волшебству исчезло золото, то ли кто-то бессовестный и безжалостный выкопал его и затаился. Все может быть.
Ну, а с теми каменными ларцами, в один из которых мавры спрятали золото, а в другой – чуму, дело обстоит иначе. Говорят, что ни у кого не хватило смелости приняться за поиски, потому что все боялись открыть по ошибке не тот ларец. Но мне все же думается, что, если бы ларец с чумой так и остался закрыт и закопан, жилось бы нам в этом мире полегче: меньше было бы всякой заразы.
* * *
Жоан Мау-Темпо и Фаустина поженились; законным браком завершилось романтическое приключение, которое в ту дождливую, грозовую январскую ночь, когда не светила луна и молчали соловьи, сквозь путаницу торопливо расстегнутой одежды привело их к исполнению желания. Теперь у них уже трое детей. Старшего мальчика зовут Антонио, лицом и выходкой он похож на отца, только ростом будет повыше, а вот синих его глаз он не унаследовал – в каком поколении снова появятся теперь синие глаза?… Двое других детей – девочки; они такие же застенчивые и добрые, как была их мать Фаустина – была и есть. Антонио уже работает: помогает пасти свиней – для чего-либо более ответственного он еще слишком мал и слаб. Пастух не очень-то нежничает с ним: в наше время, в нашем крае это принято, не стоит негодовать из-за таких пустяков. В соответствии с другим обычаем котомка, в которой лежит обед Антонио, не оттягивает ему плечо: все угощение – ломоть кукурузного хлеба и пол-окунька. Окунек съедается тут же, за порогом, потому что голод не тетка и есть хочется всегда, а ломоть кукурузного хлеба Антонио растягивает на весь день: тут отщипнет, там отломит, внимательно следя, чтобы ни крошки не досталось принюхивающимся, как собаки, муравьям, которые благодаря такой небрежной щедрости заполнили бы свой амбар доверху. Пастух – как пастуху и положено – стоит на пустоши и кричит: Антонио, заходи с того краю, Антонио, сгони их в кучу, а мальчик, словно овчарка, носится вокруг стада. Потом пастух отдыхает от трудов праведных: он сшибает с сосен шишки, жарит их на костре, потом разламывает, достает орешки, тщательно высушивает и кладет себе в мешок – все это происходит в сельской тиши, на лоне природы. Раскаляются угли, лопаются от жара истекающие смолой шишки, и Антонио глотает слюну, а если его страдальческий взгляд заметит невдалеке посланную судьбой шишку, то мальчик тут же спрячет ее, чтобы не умножать чужого достояния, как уже не раз, к прискорбию, бывало; детям свойственна мстительность. Однажды пастух, как всегда, поджаривал шишки на костре – дело было неподалеку от засеянного поля – и приказал Антонио: Смотри, чтобы свиньи не потравили посевы, словом, отдал обычное распоряжение. В тот день дул резкий, до костей пронизывающий ветер – закоченеешь на таком ветру, особенно в такой одежонке, как у Антонио, и потому – все на свете можно объяснить – он дал свиньям полную волю, а сам укрылся за машуко… А что такое «машуко»? Машуко, сеньор, – это молодой шапарро, в наших краях это всякий знает. А что такое «шапарро»? А шапарро – это пробковый дубок. Выходит, «машуко» – это молодой пробковый дуб? Точно.
Вот я и говорю, спрятался Антонио, завернулся в мешковину, которая укрывала его от любой непогоды, хоть от снега, хоть от града, – хорошая вещь – мешок из-под гуано, Господь соразмеряет стужу с одеждой. И вот наступило всеобщее умиротворение: свиньи забрались в поле, пастух жарит шишки, Антонио Мау-Темпо, удобно устроившись, грызет корку – кто скажет, что плохо жить в поместье? Да нет, в поместье, конечно, жить хорошо, а плохо то, что у пастуха была собака, умное животное, она удивилась позиции, которую занял Антонио, и подняла дикий лай. Конечно, собака – друг человека, но Антонио, как видно, она другом не была; на шум прибежал пастух, увидел мальчика: Ах, ты дрыхнешь, и швырнул в него своей дубинкой, да так, что, возьми он чуть правей, не жить бы на свете Антонио Мау-Темпо. Глупо было бы ждать продолжения, и мальчик схватил дубинку и кинул ее в поле – ищи теперь, – а сам бросился наутек. Недолго, выходит, свиньи блаженствовали? Счастье долго не длится, дело известное.
Это эпизод из пастушеской жизни, безмятежные детские радости. Посмотрите и убедитесь сами, что быть счастливым в латифундии совсем не трудно. Воздух-то какой, где еще такой найдешь – премию тому, кто найдет. А птички, что щебечут над головой, когда мы наклоняемся сорвать цветок или понаблюдать за поведением муравьев или жука-рогача, черного и медлительного, ничего не боящегося, бесстрашно пересекающего на своих длинных лапках тропинку и гибнущего под нашим башмаком – это в том случае, если мы настроены беспощадно; бывают дни, когда мы признаем, что жизнь любой твари священна, и щадим даже сколопендру… А когда пастух придет жаловаться, Антонио уже будет под надежной защитой отца: Не смей его бить, мне отлично известно, что ты день-деньской жаришь шишки и болтаешь со всеми встречными-поперечными а мальчишка – вроде овчарки, носится и сгоняет стадо Мальчишка не жук-рогач, чтоб раздавить его, как захотел. Пастух найдет себе другого подпаска, а Антонио наймется сторожить свиней к другому хозяину, пока не подрастет.
А видов работ в деревне великое множество. О некоторых уже было сказано, о прочих мы скажем сейчас, чтобы вы получили о них общее представление: ведь городские по невежеству своему полагают, что сельское хозяйство – это только сев и уборка; они очень ошибаются и должны понять, что значит научиться правильно произносить: жать, вязать снопы, косить, молотить, провеивать, метать стога, сушить сено или солому, вносить удобрения, пахать, поднимать пар, пробивать отверстия в подкове, клепать ободья, срезать грозди, высаживать рассаду в огородах, сбивать маслины с деревьев, давить из них масло, сдирать пробку, стричь овец, засыпать водомоины и овраги, печь хлеб, колоть и правильно укладывать дрова или хворост, окапывать, окучивать, опылять, – вот сколько замечательных слов, которые очень обогатят вашу лексику – блаженны работающие, – а что, если мы примемся объяснять, как именно совершается каждая из этих работ, как и когда и каким инструментом или орудием и кто ее совершает – мужчина или женщина?
И вот работает где-нибудь человек, и хорошо ему работается, или лучше так: сидит человек у себя дома, уже отработав, и открывается дверь, и входит к нему легавый – это ничего, что он на двух ногах, что имя у него человеческое, – он пес, он зверь, – входит и говорит: Я тут бумагу принес, надо подписать, это насчет того, чтобы в воскресенье съездить в Эвору на митинг в поддержку испанских националистов, ну, против коммунистов, проезд бесплатный, за счет хозяев или правительства, это одно и то же, на грузовике поедете. Очень хочется сказать «нет», однако, как известно, молчание – золото, и хозяин сидит, жует, притворяется, что не расслышал, но это не помогает, и вошедший говорит теперь уже по-другому, с угрозой. Жоан Мау-Темпо смотрит на жену – она тоже здесь, – а Фаустина смотрит на мужа – вот ему-то вовсе не хочется здесь быть, – а легавый с бумагой в руке ждет ответа – что ж мне ему сказать, не разбираюсь я в этих делах, не знаю я ничего про коммунистов, хотя нет, кое-что знаю, на прошлой неделе видел какие-то бумажки под камнями – краешек торчит, словно знак подает, и я притиснулся к тем камням и незаметно бумажки достал, никто не видел, а случись иначе, легавый тут же показал бы зубы, а может, сказали, вот он и пришел проверить, отважусь ли я отказаться от этого митинга, не подписать, этот пес не отвяжется, услышит и расскажет, мало ли из-за него народу пострадало, надо что-нибудь придумать: скажу – нездоровится, скажу – надо стену в крольчатнике подправить, ох, не поверит, а потом могут и забрать меня. Ладно, давай бумагу, подпишу.
Жоан Мау-Темпо поставил свою подпись на листе, где уже стояли подписи других и фамилии тех, за кого подписались «по просьбе» – таких, неграмотных, было большинство. И когда Лягаш ушел дальше собирать подписи, нюхая воздух, как гончая, – ах, подлец! – Жоану Мау-Темпо страшно захотелось пить, и он стал пить прямо из кувшина, пытаясь залить водой внезапно вспыхнувшее в нем пламя – пламя непонятного стыда: кто-нибудь другой на его месте выпил бы вина. Фаустина что-то поняла, и ей не понравилось то, что произошло, но она попыталась подбодрить мужа: Зато съездишь в Эвору, развлечешься – и ведь бесплатно: привезут-увезут, жалко, нельзя Антонио взять, вот бы порадовался. Фаустина говорила что-то еще, сама не понимая, что бормочет, но Жоан Мау-Темпо очень хорошо знал, что слова в конце концов как прохладная рука на лбу больного, ее движения не спасают, но приносят облегчение, и все-таки… И все-таки нехорошо принуждать человека, а ведь они принуждают, я хотел притвориться больным. Брось, сказала ему Фаустина, прокатишься в Эвору, отца с матерью этим не опозоришь, правительство дурного не делает. Не делает, повторил Жоан, а тот, кто, услышав этот диалог, закричал бы, что народ погиб, тот опять же ничего не понимает: пора сказать, что народ живет в глуши, что до него не доходят известия о творящемся в мире, а если и доходят, то он их не понимает, ибо только ему одному ведомо, что стоит сводить концы с концами.
И вот приходит день, настает условленный час, люди собрались на повороте шоссе, а иные, пока не пришел грузовик, направились в таверну и там на все наличные вспенили вином трехсотграммовые стаканы, вытянули губы трубочкой, чтобы ощутить аромат и вкус лопающихся пузырьков пены, – ах, вино, дай бог здоровья тому, кто тебя выдумал!
А некоторые – люди более разборчивые или сведущие – в таверну не пошли, крепились до Эворы в предвкушении тамошних чудес, нагуливали аппетит, а в итоге суждено им будет оказаться в дураках: в Эворе всех высадят из грузовика прямо у ворот арены для боя быков, а по окончании празднества оттуда же и увезут. За морем телушка – полушка, лучше синица в руках, чем журавль в небе, – такими поговорками утешаются многие, по этой науке они живут и счастливы бывают, и на этот раз тоже правы оказались те, кто к приходу грузовиков уже блаженно растянулся на обочине: животы благодарно урчат, несет благородным винным перегаром, во рту еще чувствуется чудесная терпкость – все как в раю.
И вот они едут. На поворотах, даже если скорость невелика, грузовик накреняется, и люди должны цепляться друг за друга, чтобы не вылететь от толчков, ноги скользят, ветер срывает шапки – держи, снесет! Эй, куманек, не гони так, вывалишь кого-нибудь в лужу, говорит самый веселый, хорошо, что нашелся такой, без шутки жизнь совсем печальная. В Форосе подсадили в кузов еще народу, а оттуда все вправо и вправо – вон уже виден Монтемор – нам с тобой, читатель, туда еще рано, – а вон Санта-Софиа и Сан-Матиас. Я здесь никогда не бывал, но у меня тут родня: двоюродный брат моей свояченицы, он парикмахер, хорошо устроился – бороду-то каждому надо брить, не будь бороды – зачем брадобреи, не будь у нас охоты – на что тогда бабы? – я с тех пор, как в армии отслужил, к девкам не ходил. Мужские шуточки. Человечество постаралось изо всех сил усовершенствовать общение такого рода – в латифундии теперь есть грузовики. Вон уже и Эвора видна, а Лягаш – тоже едет, собака, – объявляет: Как вылезем, всем идти за мной, не разбредаться, – и от этих роковых слов скукоживаются мечты о вине и бабах – о вожделенной воображаемой женщине, о долгой ночи с нею, – от мечты проку мало.
А площадь перед ареной полна. Крестьяне идут организованно, по деревням, их ведут, как стадо, иногда и сам хозяин подойдет, пошутит с ними, и обязательно найдется подлиза, который так и расстелется перед ним к стыду тех, кто поехал сюда, только боясь лишиться работы. Но, по правде говоря, каждый старается выглядеть веселым. Народ добродушен – от нас ждут веселья, так будем, значит, веселиться, хотя все это мало похоже на праздник, ну так ведь и не похороны – так скажите ж, смеяться мне или плакать, когда буду кричать «ура!» и «долой!»? Одни заполняют ряды скамеек, другие толпятся на арене – а лучше бы все-таки бой быков, – и никто не знает, что тут будет, что такое «митинг». А где ж Лягаш? Не знаешь, когда праздник начнется? Знакомые здороваются, застенчивые стараются пробиться поближе к тем, кто держится уверенно: Сюда, сюда иди, а Лягаш вдруг говорит: Не разбредайтесь, держитесь все вместе и слушайте внимательно, тут речь пойдет о важном: нам скажут, кто нам добра желает, а кто зла, – как было бы хорошо прямо из рук Лягаша получить плоды с древа познания добра и зла, как все, оказывается, просто, ни о чем не думай, упрись задницей в скамейку и все… Эй, друг, а где тут нужник? – это уже признак неуважения, и Лягаш хмурит брови, делает вид, что ничего не слыхал, и вот начинается… Господа, о, вот это здорово, и я в господа попал – и где – на корриде в Эворе, а больше никогда я господином не был, я и сам себе не господин, чего он говорит?… да здравствует Португалия!… не разберу… Мы, породненные единым патриотическим идеалом, собрались здесь, чтобы показать вождю нации: мы – верные продолжатели дела великих сынов португальского народа, открывших миру новые миры, пронесших святую веру и знамя нашей империи до самых отдаленных уголков планеты, и мы заявляем, что в грозный час опасности, как один человек, сплотимся вокруг Салазара, вокруг нашего гениального вождя, вся жизнь которого… – тут все кричат: Салазар, Салазар, Салазар! – вся жизнь которого – пример беззаветного служения отчизне, пример борьбы с варварством Москвы, против проклятых коммунистов, угрожающих нашим семьям, коммунистов, которые хотят убить наших отцов и матерей, надругаться над нашими женами и дочерьми, сослать наших сыновей на каторгу в Сибирь, уничтожить святую церковь, потому что все они атеисты, безбожники, люди без чести и совести, долой коммунизм, смерть коммунистам! Долой! Смерть предателям родины! Смерть! Все покорно кричат вслед за оратором: кто еще не понял, зачем он тут, а кто начинает понимать и мрачнеет, а кого и убедили – или обманули, – речь произносит рабочий, а потом выходит человек из «Португальского легиона» [16][16]
Фашистская военная организация.
[Закрыть], он вскидывает руку и орет: Португальцам – власть! Португальцам – жизнь!… – куда хватил, власть у хозяина, ну, а насчет жизни – уж как получится, но все повторяют жест легионера, и не успел он уйти, как уж разевает пасть новый, и как им не надоест столько говорить, это насчет Испании, – националисты ведут борьбу с красными, на полях сражений в Андалусии и Кастилии отстаивая вечные и священные завоевания западной цивилизации, и долг каждого из нас – помочь нашим братьям по вере, а спасение от коммунизма – в сохранении христианской морали, живым воплощением которой является наш Салазар – о, дьявол, у нас, значит, есть теперь живое воплощение, – мы не пойдем на сделку с врагом, – ох, язык без костей, – а теперь речь пошла про замечательный народ этого края, который собрался здесь, чтобы поблагодарить великого сына Португалии, выдающегося государственного деятеля, посвятившего всю свою жизнь служению родине – дай ему Бог здоровья, – и я расскажу председателю Совета министров о том, что видел здесь, в славном и древнем городе Эвора, и заверю его в том, что тысячи наших сердец всегда будут биться в такт с сердцем отчизны! Вы и есть отчизна, бессмертная, величественная, прекрасная страна, самая замечательная из всех стран, потому что нам выпало счастье иметь правительство, которое ставит интересы нации превыше интересов какого-либо класса, ибо люди уходят, а нация пребудет вечно, смерть коммунизму доло-о-ой, долой коммунизм, до-лой, сме-е-рть! Чего ты кричишь? – а все равно никто не разберет, – и мне хочется напомнить, что жизнь в провинции Алентежо вовсе не благоприятствует, как считают иные, развитию подрывных умонастроений, потому что крестьянин трудится рука об руку с землевладельцем, поровну деля и прибыли и убытки, ох-хо-хо, Лягаш, пусти по нужде, что это за шутки, как ты смеешь в такой ответственный момент, когда родина… Ну, родине-то не надо, а мне невтерпеж, – и хорошо одетый господин на трибуне раскрывает объятия, словно хочет расцеловаться с нами со всеми, но ему не дотянуться, и потому он обнимает всех, кто стоит поблизости: командира легиона и майора, приехавшего из Сетубала, и депутатов национального собрания, и командира пятой кавалерийской роты, и этого типа из НИТОС, – не знаешь, спроси, – Национальный институт по труду и социальному обеспечению, – и всех приехавших из Лиссабона, и все они так похожи на ворон, обсевших ветки оливы, нет, тут ты ошибся: это мы вороны, это мы сидим в ряд на скамейках, хлопаем крыльями и разеваем клюв – гремит музыка, играют гимн, все встают – одни знают, что так полагается, другие – потому что все встают, а Лягаш обводит взглядом своих подопечных: Всем петь, чего захотел, я слов не знаю, это ж не «Марьянита», пошли отсюда, еще нельзя, эх, если б можно было взлететь, расправить крылья и улететь отсюда куда-нибудь подальше, пролететь над полями, над возвращающимися грузовиками, – ох, тоска, ох, как там все было тоскливо, и весь народ вдруг принимается кричать, да так, словно ему заплатили – даже не знаю, что хуже, когда платят за это или когда бесплатно глотку дерешь… Ты не огорчайся, Жоан. Я и не огорчаюсь, Фаустина, погнали нас, как баранов, мы и пошли. Близок вечер, оттого еще грустней, в грузовике кто-то пробует запеть, и еще двое подтягивают, но когда уж очень грустно, то и не поется, и слышен теперь только шум мотора, и на ухабах людей бросает друг на друга – плохо закрепленный груз, швырнули нар в кузов навалом, нет, Жоан Мау-Темпо, это была скверная работа. Крестьян высаживают у въезда в Монте-Лавре – они стоят, сбившись в стаю, как темные птицы, а потом расходятся: одни в таверну – залить жажду и горечь, другие что-то бормочут, словно не в себе, а третьи, самые печальные, идут по домам. Что ж мы – куклы? Привезли – увезли, кто мне возместит этот день, у меня работа была в саду, если б не этот гад легавый, ничего, когда-нибудь с него спросится, – все эти угрозы себе под нос чуть-чуть заглушают боль где-то внутри, а мы ведь не знаем, как об этой боли рассказать, словами ее не определишь, вроде ничего не болит, в всего изуродовали. И Фаустина спрашивает: Ты уж не заболел ли? Жоан отвечает, что нет, не заболел, и все на этом, потому что чувств своих изъяснить он не может. Ты не огорчайся, Жоан. Я и не огорчаюсь, но легче ему станет, только когда он заснет на плече Фаустины. Тогда и снимется камень с души.
Поднимаются хозяева в гору, чтобы солнце светило им одним – это тяжелый такой сон снится Жоану Мау-Темпо, – но у хозяев нет лица, а у горы нет названия, но просыпается ли Жоан Мау-Темпо или снова засыпает, хозяева все идут и идут, а он прокладывает этой процессии дорогу, корчует тяжелым своим заступом деревья, вырывает кустарник руками, и от колючего дрока уже кровоточат ладони, а хозяева веселой компанией идут и смеются и не сердятся, если он слишком долго возится, не понукают его, а терпеливо и кротко ждут, не ругают, не зовут гвардию – ждут, а пока что устраивают пикник, а он машет заступом, из последних сил скребет землю, выдирает корни и видит, как сверху по склону съезжают грузовики с надписью на бортах «Португальские излишки» – они направляются в Испанию, красным – ни вот столько не дадим, все пойдет тем, другим, святым и безгрешным, которые защищают меня, Жоана Мау-Темпо, не дадут мне попасть в ад, «долой», «смерть!», а по моим следам едет теперь какой-то сеньор верхом на лошади, а лошадь ту зовут, я знаю – это единственное, что я знаю, – Бом-Темпо, наконец-то лошади стали долго жить. Просыпайся, Жоан, говорит жена, пора, а ведь на дворе еще глубокая ночь.
* * *
Тем не менее кое-кто уже поднялся – поднялся не в том смысле, какой вкладывают в это слово, когда хотят сказать, что кто-то, вздыхая, вскочил с неудобного топчана – если есть топчан, – а в том особенном значении, когда человек пробуждается и видит, что уже полдень, хотя минуту назад была ночь, ибо истинное время, которому подчиняются люди и от которого зависят их поступки, не управляется восходом солнца или луны, – ведь и солнце, и луна в конце концов только часть пейзажа. Истинно то, что всему на свете – свое время, а то происшествие, о котором мы расскажем, пришлось на время жатвы. Иногда для душевного движения нужно, чтобы телу стало невмоготу: когда мы говорим «душа», то просто хотим назвать то, что названия не имеет – может быть, это и есть тело, скорей всего, тело и имеется в виду. Когда-нибудь, если не будем упрямиться, мы узнаем, что же это все значит, и определим расстояние между самим понятием и словом, которое его определяет. Все это только здесь, на бумаге, кажется сложным, а на самом деле проще простого.








