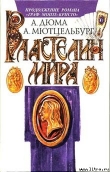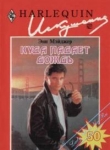Текст книги "[Про]зрение"
Автор книги: Жозе Сарамаго
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Двадцать три погибших и неизвестно еще, сколько осталось под развалинами, двадцать три погибших, по крайней мере, господин министр внутренних дел, повторял премьер, хлопая ладонью по стопке разложенных на столе газет. СМИ практически единодушно возлагают ответственность на некую террористическую группу, тесно связанную с движением белобюллетников. Прежде всего, ради бога, не произносите при мне этого слова, это исключительно вопрос хорошего вкуса, не более того, но все же избавьте меня от этого, а во-вторых, поясните, пожалуйста, какой смысл вы влагаете в понятие практически единодушно.Это значит, что есть только два исключения – две мелкие газетенки не приняли версию и требуют тщательного и глубокого расследования. Любопытно. Вот, господин премьер-министр, полюбуйтесь. Мы Хотим Знать Кто Отдал Приказ, вслух прочел премьер. И вот это тоже, не так прямо, но примерно в том же направлении. Мы Хотим Знать Кому Это Выгодно. Это не вселяет опасений, продолжил министр, беспокоиться, полагаю, не о чем, и это даже хорошо, что появляется некий разнобой, никто не сможет сказать, что все подтягивают хозяину слаженным хором. Вы хотите сказать, что двадцать три трупа – не повод для беспокойства. Это – просчитанный риск. В свете всего произошедшего, сказал бы даже – очень скверно просчитанный. Признаю, что можно рассудить и так. Мы ведь с вами, помнится, говорили о небольшом, не очень мощном устройстве, способном разве что чуть больше, чем напугать. К сожалению, при передаче приказа произошел какой-то сбой. Хотелось бы верить, что это единственная причина. Порукой мое слово, господин премьер-министр, уверяю вас, что приказ был отдан правильный. Ваше слово, господин министр внутренних дел. Иного у меня нет. Вот именно. Так или иначе, мы знали, что убитые – будут. Но не двадцать же три человека. Что двадцать три, что всего три, дело ведь не в количестве. И в количестве тоже. Позвольте вам напомнить, что цель оправдывает средства. Я уже много раз слышал эту фразу. И еще услышите, даже если в следующий раз она прозвучит не из моих уст. Господин министр, прошу немедленно создать комиссию для расследования причин. И к каким же выводам ей надлежит прийти. Пусть идет как идет, а куда придет – будет ясно впоследствии. Слушаюсь. Окажите всю необходимую помощь семьям пострадавших, как тем, кто погиб, так и тем, кто был госпитализирован, распорядитесь, чтобы муниципалитет взял на себя организацию и оплату похорон. Да, кстати, в этой сумятице я совсем забыл информировать вас, что председатель муниципального собрания ушел в отставку. Вот как, и почему же. Точней сказать, оставил свой пост. Ушел или оставил – в данном случае не слишком важно, я спрашиваю, почему он это сделал. Он прибыл к месту катастрофы сразу после взрыва, ну, и, вероятно, не совладал с нервами, не выдержал. Да и кто бы совладал, уж точно – не я, да, полагаю, и не вы, но, вероятно, должны быть более веские резоны для такого внезапного шага. Он, видите ли, посчитал, что в произошедшем виновато правительство, и не только, так сказать, в уме посчитал, но и высказался с полнейшей откровенностью. И вы полагаете, это он подкинул вредную идейку двум газеткам. Сказать откровенно, господин премьер-министр, я в это не верю, хоть мне бы очень хотелось возложить вину на него. И что же он теперь будет делать. Жена у него – врач. Да, я знаком с ней. Значит, с голоду не умрет, покуда не отыщет себе новое поприще. А до тех пор. А до тех пор, если я вас правильно понял, мы возьмем его под очень плотное наблюдение. Что там щелкнуло у него в голове, он мне казался вполне надежным человеком, лояльным членом нашей партии, карьеру сделал прекрасную, мог бы и дальше пойти. Голова у человека не всегда в ладу с окружающим его миром, есть люди, которым трудно примениться к реальной действительности, и они по сути – всего лишь слабодушные путаники, использующие и иногда очень умело – слова, чтобы оправдать свою трусость. Вижу, вы разбираетесь в предмете, не на собственном ли опыте обрели вы эти познания. Да разве бы занял я в правительстве свою должность, разве смог бы я ведать внутренними делами, случись со мной такая неприятность. Да скорей всего нет, но в нашем мире все возможно, и я вполне могу себе представить, что наши лучшие заплечных дел мастера, приходя домой с работы, целуют детей, а иные – чем черт не шутит – пускают слезу в кино, не в том смысле, что разрешают слезе сходить в кино, а, ну, вы поняли. И министр внутренних дел – не исключение, я тоже сентиментален. Рад слышать. Премьер медленно полистал газеты, пересмотрел фотографии, причем лицо его выражало разом и отвращение, и понимание, и сказал так: Вам, наверно, интересно, почему я вас не снимаю с должности. Еще бы, господин премьер-министр, весьма любопытно было бы узнать ваши резоны. Если отправить вас в отставку, граждане обязательно подумают, что либо независимо от степени вины я возложил на вас непосредственную ответственность за происшествие, либо что просто-напросто взыскал с вас за недолжное исполнение своих обязанностей, за то, что не то не предусмотрели, не то проглядели возможный теракт, бросив город на произвол судьбы. Ну да, я так и предполагал, таковы правила игры. А третью причину, самую возможную и самую, как водится, неправдоподобную, не рассматриваете. Какую же. А что откроете тайну этого теракта. Ваше превосходительство, вы же знаете лучше, нежели кто другой, что нигде и никогда, ни в одной стране мира, ни в какие времена ни один министр внутренних дел не распространялся о позоре, о предательствах, о преступлениях, составляющих суть его профессии, и мой случай не исключение, так что не беспокойтесь. Если станет известно, что бомбу подложили мы, белобюллетники окажутся правы. Простите, господин премьер-министр, но, мне кажется, подобный взгляд на вещи оскорбляет логику. Почему. Он противоречит неукоснительной взвешенности ваших суждений. Поясните. Ну, если они окажутся правы, то, стало быть, уже были правы прежде. Премьер отодвинул газеты и сказал: Все это напоминает мне старинную историю про ученика чародея, который умел вызывать нечистую силу, но не знал, как потом справиться с ней. И кто же в сем случае этот самый ученик чародея – мы или они. Да, боюсь, и мы, и они, ибо они пошли по дороге, ведущей в тупик, и не подумали о последствиях. А мы двинулись следом. Именно так, и теперь размышляем, каков должен быть следующий шаг. Что касается правительства – ничего, кроме поддержания давления, само собой разумеется ведь, что после этого происшествия ничего другого не остается. А те. Если предоставленные мне сведения достоверны, готовят манифестацию. И чего хотят этим добиться, манифестации никогда ни к чему не приводили, иначе мы бы их не разрешали. Полагаю, хотят выразить протест, а что касается разрешения министра внутренних дел, то едва ли намерены даже терять время на ходатайство. Господи, кончится это или нет. Когда-нибудь кончится, это, как говорится, к бабке не ходи, господин премьер, даже если бабка эта – с дипломом и лицензией, а вот чем кончится – вопрос другой, а одолеет, как всегда, тот, кто сильней. Тот, кто окажется сильней в решающий момент, а мы до него еще не дошли, а сил, которыми мы располагаем сейчас, может оказаться недостаточно. Уверен, ваше превосходительство, что правильно организованное государство подобное сражение проиграть не может, а иначе это будет конец света. Конец одного, но, быть может, начало другого, а. Не знаю, что и думать об этих ваших словах. Думайте, что хотите, но, по крайней мере, вслух не рассказывайте, что у премьера – пораженческие настроения. Мне бы это и в голову не пришло. И славно. Да и вы, наверно, высказывались чисто теоретически. Разумеется. Если я вам больше не нужен, позвольте откланяться. Президент сказал мне, что на него снизошло вдохновение. Какого рода. Объяснять он не стал, так что остается ждать каких-нибудь событий. Вот и от него, глядишь, какой-то прок будет. Вы говорите о главе государства. Именно об этом я и говорю. Держите меня в курсе дела. Непременно, господин премьер-министр. До свиданья. Всего наилучшего, господин премьер-министр.
Сведения министра соответствовали действительности – город в самом деле готовился к манифестации. Окончательное число погибших от взрыва превысило тридцать четыре человека. Неведомо откуда и как родилась и тотчас была всеми подхвачена идея того, чтобы их погребли не на кладбище, как простых смертных, но – в мемориальном сквере напротив станции в метро, чтобы сохранить память о них на вечные времена. Однако семьи нескольких – немногих, впрочем, – погибших, известные своими правыми взглядами и неколебимо уверенные в том, что взрыв был устроен террористами и направлен против государства правых, отказались предоставить обществу своих ни в чем не повинных родственников. Да, восклицала родня, ни в чем решительно не виноватых, поскольку всю жизнь уважали свое и не зарились на чужое, всю жизнь голосовали так же, как деды их и отцы, превыше всего ставили порядок, а теперь вот стали жертвами и мучениками насилия. Утверждали они также – уже не так зычно и громогласно, чтобы их не осудили за отсутствие гражданской солидарности, – что у них имеются семейные склепы и устоявшаяся традиция после смерти держаться всем вместе, как держались при жизни. И по этой причине земле было предано не тридцать четыре тела, а всего двадцать семь. Тем не менее следует признать, что и это немало. И вот, присланная неведомо кем, но уж точно – не муниципалитетом, оставшимся, как мы знаем, в безначалии до тех пор, пока министр внутренних дел не приищет ему нового главу, – так вот, сказали мы, неведомо кем присланная, появилась в городском саду машина – огромная и снабженная множеством полезных приспособлений, с помощью которых, глазом не успеешь моргнуть, выкорчевала дерево, и тотчас же – скорей, чем сказать аминь, – выкопала бы двадцать семь могил, если бы кладбищенские могильщики, не менее других приверженные традиции, не явились бы туда выполнить эту работу по старинке, вручную, то бишь заступом и лопатой. Так что машине оставалось лишь удалить несколько мешающих деревьев, после чего место захоронения сделалось таким гладким и ровным, что словно бы с самого начала отведено было под кладбище, а потом – это мы уже опять про диковинную машину – посадила неподалеку деревья, отбрасывающие положенную кладбищенскую тень. И через трое суток после теракта, рано поутру, стали горожане выходить из дому – были они молчаливы и серьезны, у многих были в руках белые знамена и у всех без исключения – белые креповые повязки на левом рукаве, и тут мы попросим ревнителей и знатоков протокола не сообщать нам, что в знак траура белые повязки не носят, если нам доподлинно известно, что в описываемой нами стране принят с недавних пор именно этот цвет, а у китайцев, например, такой обычай – с незапамятных времен, не говоря уж про японцев, которые все поголовно вырядились бы в синее, зайди речь о них, но ведь не зашла же, а потому и промолчим. К одиннадцати часам площадь была полна, однако слышалось лишь дыхание толпы, мерное и неимоверное, глуховатый шум, с которым множество грудей вдыхало и выдыхало воздух, втягивало его и выпускало, обогащая кислородом кровь этих выживших людей, вдыхало и выдыхало, вдыхало и выдыхало, пока вдруг, и тут оборвем фразу, потому что миг, ради которого все эти покуда выжившие пришли сюда, еще не настал. Белых цветов было, что называется, море – хризантемы, розы, лилии, львиный зев, прозрачно-белые цветы кактуса, мириады ноготков, которым простили их черные сердцевинки. Гробы, сперва выстроенные в ряд в двадцати шагах отсюда, потом поднятые на плечи родственников и друзей усопших и в медленном темпе похоронной процессии донесенные до могил, теперь с профессиональной неспешной сноровкой были опускаемы туда на веревках, покуда с глухим звуком не коснулись дна. От развалин станции еще шел, казалось, смрад горелого мяса. Многие в толпе сочли необъяснимой дикостью, что такая волнующе трогательная церемония, такой пронзительный час всеобщей скорби не были осенены утешительной благодатью, даруемой ритуальным таинством отпевания, которое исполнили бы служители разных церквей, имеющихся в стране, отчего души усопших, стало быть, лишились последнего и самого надежного благословения, а живые не удостоились наглядной демонстрации экуменизма, а ведь она, глядишь, могла бы внести свой вклад в святое дело да снова направить в овчарню отбившихся от стада столичных жителей. Объяснить это прискорбное отсутствие можно тем лишь, что главы конфессий забоялись обвинений в сговоре и стачке – пусть хоть из тактических соображений, чего уж говорить о стратегических, не в пример более опасных – с белой крамолой. Не обошлось тут, надо полагать, и без нескольких телефонных разговоров, проведенных лично премьер-министром с разными собеседниками, но на одну тему и с ничтожными вариациями: Правительство будет очень огорчено, если представители вашей церкви совершат необдуманный шаг и примут участие в погребении, каковое участие хоть и извинительно с точки зрения духовной, но может быть истолковано, а впоследствии и использовано в качестве политической, пусть и не идеологической, поддержки того упорного и систематического сопротивления, которое значительная часть населения столицы оказывает законно избранной демократической власти. Ну и, стало быть, похороны прошли без отпевания, если не считать, понятно, что в толпе там и сям молились про себя, и возносимые к тем или иным небесам молитвы принимались на них с благожелательным одобрением. Могилы еще не успели забросать землей, как кто-то – из лучших, разумеется, побуждений – собрался произнести надгробное слово, но попытка была тут же подавлена со словами: Никаких речей, здесь у каждого – свое горе, и у всех – одна и та же беда. И прав, прав был высказавшийся таким образом. Кроме того, невозможно ведь – если в том и состоял замысел несостоявшегося оратора – вспомянуть достоинства и добродетели двадцати семи покойников – женщин, мужчин и одного еще толком и не жившего ребеночка. И надо бы признать, что совершенно не нужны имена, которые эти неизвестные солдаты носили при жизни, если бы даже понадобилось воздать им должные и подобающие почести, а погибшие, по большей части неузнаваемо обезображенные – опознать из их числа удалось всего двоих-троих – если сейчас в чем-либо и нуждаются, то лишь в том, чтобы их оставили в покое. В ответ на укоризны дотошных читателей, которые справедливо озабочены плавным и порядливым ходом нашего повествования и теперь наверняка уже спрашивают, почему не провели обязательную в таких случаях и уже привычную генетическую экспертизу, мы можем лишь пожать плечами, и это будет единственный честный ответ, хоть и осмелимся предположить, дав волю воображению, что выражение Наши Павшие, выражение, столь часто встречающееся в патриотических речах, чтобы не сказать избитое, здесь было воспринято буквально, то есть поскольку все без исключения покойники – наши, то ни одного нельзя счесть исключительно нашим, из чего вытекает, что анализ ДНК, учитывающий совокупность всех, а не только биологических факторов, сколько бы ни шарил по спирали, сумеет лишь подтвердить общее достояние, коллективную собственность, а это было известно и безо всяких экспертиз. И, следовательно, веские резоны имел тот – или, может быть, та, – кто произнес вышеприведенные слова насчет горя и беды. Меж тем могилы засыпали землей, забросали равномерно распределенными цветами, тех, у кого были причины горевать, обняли и принялись утешать другие, что едва ли было возможно, учитывая, сколь свежа была боль утраты. У каждого, впрочем, у каждой семьи лежал здесь кто-то близкий, только неведомо, в какой именно могиле – может быть, в этой, а может, и в той, так что лучше поплакать над всеми, и прав был тот пастух, который сказал однажды: Нельзя сильней почтить человека, с которым не был знаком, нежели оплакав его, и бог знает, где постиг он эту премудрость.
Несвоевременность всех этих отступлений, уводящих повествование в сторону, сейчас проявилась наконец, хоть и запоздало, но в полной мере, и, едва лишь мы предрекли, что события ждать нас не станут, а пойдут вперед, как они и пошли, и теперь вместо того, чтобы во исполнение самых элементарных обязанностей уважающего себя рассказчика оповестить, что там будет дальше, ничего нам не остается, как со стесненным сердцем сообщить, что же там произошло. Вопреки нашим предположениям толпа не рассеялась, манифестация продолжается, и теперь вал людей накатывает во всю ширину улицы, направляясь, судя по долетающим до нас выкрикам, ко дворцу главы государства. А на пути у них не больше и не меньше, как резиденция премьер-министра. Журналисты пишущие и снимающие следуют в голове колонны, делают торопливые записи, по телефону извещают свои редакции, выпаливают, задыхаясь от крайнего возбуждения, свои тревоги гражданские и профессиональные: Кажется, будто никто не понимает, что здесь происходит, но у нас есть основания опасаться, что толпа намерена штурмовать резиденцию президента, и не то чтобы нельзя было исключить, а прямо-таки с высокой вероятностью можно предположить, что будут разгромлены и резиденция премьера, и все министерства, какие попадутся по пути, и не подумайте, будто подобные катастрофы рисует нам воспаленное страхом воображение, нет, достаточно взглянуть на искаженные лица демонстрантов, чтобы понять – мы нисколько не преувеличиваем, говоря, что все эти лица жаждут крови и разрушений, и прийти к весьма печальному выводу, который, хоть и не хочется, а приходится делать во всеуслышание и на всю страну, а именно – правительство, в иных обстоятельствах действовавшее с похвальной эффективностью, ныне повело себя с достойной всяческого осуждения опрометчивостью, покинув свою столицу и оставив ее на произвол разнузданных инстинктов остервенелых толп, лишенных отеческого присмотра и попечения сил правопорядка, ударных отрядов полиции, слезоточивого газа, водометов, без узды, одним словом. Информационная истерия и обещания катастрофы взвинтились до наивысшей точки, когда манифестация вышла к резиденции премьера – небольшому дворцу в буржуазном стиле конца восемнадцатого века, и крики журналистов превратились в истошные вопли: Вот сейчас, вот сейчас все это и может произойти, спаси и сохрани нас, божья матерь, да прострет она над нами свой святой покров, да умягчат духи славных предков исполненные ярости души манифестантов. Разумеется, случиться могло бы все, что угодно, но ничего, однако, не случилось, разве что та небольшая часть толпы, которая видна нам отсюда, остановилась на перекрестке, где стоит окруженный садом дворец, а все прочее множество потекло по мостовой дальше, вниз, по улицам, примыкающим к площади, и мастера полицейской арифметики, случись они еще здесь, насчитали бы кругом-бегом не более пятидесяти тысяч, тогда как истинная цифра и подлинное число в десять раз больше, ибо мы-то считаем каждого по отдельности.
И вот в тот миг, когда вся демонстрация застыла и замолкла, некий шустрый телерепортер разглядел в этом море голов человека, которого, хоть он и носил повязку, закрывающую ему пол-лица, все же можно было узнать – и тем легче, что первым же, беглым взглядом посчастливилось ухватить очерк здоровой, неповрежденной щеки, которая, как само собой понятно, столь же подтверждает раненую щеку, сколь и сама ею подтверждается. Волоча за собой оператора с камерой, репортер стал ввинчиваться в толпу, причем на каждом шагу произносил: Позвольте пройти, разрешите, пожалуйста, посторонитесь, виноват, виноват, очень важное дело, а потом, когда уже пролез наконец вплотную: Господин председатель, господин председатель, прошу вас, хотя истинные его мысли, облекись они в слова, звучали бы не так учтиво и примерно так: Какого хрена вас занесло сюда со всем этим сбродом вместе. Репортеры вообще одарены хорошей памятью, а этот не позабыл, какой публичный афронт, невинной жертвой коего сделалось все журналистское сообщество в день, когда взорвалась бомба, устроил председатель. А вот теперь и ему пришла пора узнать, как это бывает неприятно. Репортер подсунул ему микрофон под самый нос, а оператору подал некий тайный, понятный лишь посвященным знак, который можно было понимать как: Снимай, так и: Врежь ему, чтоб мало не показалось, а в данной ситуации означал, вероятно, и то, и другое. Господин председатель, я с вашего разрешения должен сказать, что просто ошеломлен тем обстоятельством, что вижу вас здесь. Отчего же. Да ведь я только что сказал, почему, потому что вижу вас здесь, на демонстрации такого рода. Я такой же гражданин и имею право демонстрировать где и что хочу, тем более сейчас, когда не надо испрашивать на это ничьего позволения. Такой да не такой, вы – председатель муниципального собрания. Ошибаетесь, уже три дня как нет, я думал, вы знаете. Откуда же мне знать, мы до сих пор не получали никакого заявления. Полагаю, вы не ждете, что я устрою пресс-конференцию. Итак, вы уволились. Ушел в отставку. А почему. Единственным подходящим ответом будет мое молчание. Однако население столицы вправе знать, по каким причинам председатель их муниципального собрания. Каковое я, повторяю, уже не возглавляю. Принимает участие в антиправительственном шествии. Оно не против правительства, а в память погибших, люди пришли на похороны своих близких. Погибших уже предали земле, а демонстрация тем не менее продолжается, и чем вы можете это объяснить. Спросите этих людей. В настоящую минуту меня интересует именно ваше мнение. Я иду туда же, куда идут они, вот и все. Вы, стало быть, симпатизируете белобюллетникам. Они проголосовали сообразно своим вкусам, и при чем тут мои симпатии. А как же ваша партия, что скажет она, узнав о вашем участии в манифестации. Вот партию и спросите. Не боитесь, что последуют неприятности и взыскания. Не последуют. Откуда такая уверенность. Причина проста – я не состою в партии. Вас исключили. Я сам ушел, точно так же, как и с поста председателя муниципального собрания. И что же сказал на это министр внутренних дел. Спросите у него. Кто стал или еще станет вашим преемником. Разузнайте. Вы собираетесь участвовать в других акциях. Приходите – сразу увидите. Вы покинули правых, с которыми связана вся ваша политическая карьера, и переметнулись к левым. Надеюсь, что скоро узнаю, куда именно меня метнуло. Господин председатель. Не называйте меня председателем. Ах, простите, это я по привычке, признаюсь вам, что сбит с толку. Берегитесь, это первый шаг, а дальше, как вы все любите повторять, может случиться все, что угодно. Я как-то растерян, не знаю, что и думать, господин председатель. Остановите съемку, вашим хозяевам могут не понравиться эти слова, и еще раз покорнейше прошу вас не называть меня председателем. Да мы уж давно выключили камеру. И хорошо сделали, избавили себя от хлопот. Правда ли, что шествие отсюда направится к президентскому дворцу. Спросите у организаторов. А кто они и где они. Полагаю, что все и никто. Но должен же кто-то возглавлять эту акцию, такие вещи сами собой не происходят, самозарождения не бывает, особенно – при таком-то размахе. Не происходило до сих пор. Хотите сказать, что не верите, будто движение белобюллетников возникло спонтанно. Некорректная попытка вывести одно из другого. У меня создается впечатление, что вы знаете много больше, чем говорите. Непременно настает час, когда мы понимаем, что знаем много больше, чем думали прежде, а теперь оставьте меня, живите своей жизнью, найдите, кому еще задавать ваши вопросы, видите – это людское море пришло в движение. Меня больше всего удивляет, что не слышится ни ура, ни долой, и вообще никаких лозунгов и призывов, по которым можно было бы понять, чего хотят все эти люди, а от этой угрожающей тишины мурашки бегут. Вы как будто пересказываете фильм ужасов, а ведь, может быть, люди просто устали от слов. Когда люди устанут от слов, я останусь без работы. Из всех, произнесенных вами сегодня, эти слова – самые верные. Прощайте, господин председатель. Повторяю в последний раз, запомните навсегда – я не председатель. Голова демонстрации, сделав четверть оборота вокруг себя, проползла по крутому подъему в сторону того длинного и широкого проспекта, в конце которого свернет направо, а там щеки идущих погладит свежий ветерок с реки. Президентский дворец стоит в двух километрах отсюда, и дорога к нему прямая и ровная. Репортеры, получив приказ отделиться от шествия, бросились вперед занимать позиции перед дворцом, однако единодушное мнение профессионалов – и тех, кто работал в поле, и тех, кто сидел в штабах, – сводилось к тому, что с точки зрения информативности освещение события сведется к зряшной трате времени и денег или, если использовать более экспрессивное выражение, – полнейшим обломом, а если более деликатное и изысканное, то – проявлением совершенно незаслуженного неуважения к СМИ. Да какие из них, к слову сказать, демонстранты, они на то только и годны, чтобы камнями швыряться, или сжечь чучело президента, ну или несколько витрин разбить, или попеть революционных песен прежних времен, или вытворить еще чего-нибудь в том же роде, показывая миру, что в отличие от тех, кого только что опустили в могилу, они еще живы. Демонстрация не оправдала их надежд. Люди пришли и заполнили площадь, молча постояли полчаса, глядя на дворец, а потом разошлись и – кто пешком, кто на автобусе, а кто и воспользовавшись любезным предложением незнакомых единомышленников подбросить – отправились по домам.
И то, чего не удалось сделать бомбе, сделала мирная демонстрация. В тревоге и смятении неколебимо верные приверженцы ПП и ПЦ собрались на семейные советы и решили – решал каждый за себя, но вышло единодушно – покинуть город. Они приняли в рассуждение, что новая бомба, которая завтра может рвануть у них под ногами, и улицы, заполненные чернью, заставят правительство пересмотреть чересчур жесткие положения осадного положения, и в особенности в той его части, что предусматривала одинаково суровое наказание и для стойких защитников мира и для закоренелых бунтовщиков. Чтобы не бросаться в эту авантюру очертя голову, кое-кто, имевший связи в высоких сферах, принялись зондировать почву, то бишь по телефону разузнавать, как бы отнеслось правительство к возможности дать разрешение – безразлично, будет ли оно высказано или подразумеваться по умолчанию – на отъезд в свободную зону тех, кто, имея на это достаточные основания, чувствовал себя узником в собственной стране. Полученные же ответы при всей своей расплывчатости и даже противоречивости, не мешавших, впрочем, делать четкие умозаключения относительно общего настроя правительства, позволяли принять как надежную гипотезу, что при соблюдении известных условий и выполнении известной же материальной компенсации успех эвакуации – пусть относительный, пусть не могущий предусмотреть всех последствий – может быть сочтен, по крайней мере, годным для пропитания кое-каких надежд. Целую неделю, в обстановке строжайшей секретности оргкомитет, куда вошло равное число активистов обеих партий, при участии консультантов, призванных из различных морально-нравственно-религиозных организаций столицы, обсуждал и в конце концов одобрил дерзкий план, который в память о достославном отступлении десяти тысяч получил по предложению одного высокоэрудированного эллиниста из ПЦ название ксенофонтова [6]6
Ксенофонт (ок. 430 до н. э. – 355 или 354 до н. э.) – древнегреческий писатель и историк, ученик Сократа. Около 403 г. до н. э. после падения олигархического правительства Тридцати тиранов покинул Афины и принял участие в походе Кира Младшего против его брата, царя Персии Артаксеркса II (401). После гибели Кира в битве при Кунаксе (401) Ксенофонт был избран стратегом и явился одним из руководителей описанного им впоследствии в сочинении «Анабасис» отступления 10 тыс. греческих наемников через всю Малую Азию к побережью Черного моря.
[Закрыть]. Трое суток и ни минуты больше дано было кандидатам в эмиграцию на то, чтобы они со слезами на глазах и с карандашом в руке определили, что взять с собой, а что оставить. И поскольку род человеческий именно таков, каким все мы его знаем, не обойдется в этих подсчетах без себялюбивых прихотей, без притворной рассеянности, без предательского взывания к легко пробуждаемой и неглубоко залегающей сентиментальности, без приемов неискреннего обольщения, хотя, конечно, имели место и поистине восхитительные случаи благородного и бескорыстного самоотречения, которые еще позволяют нам думать, что если пребудут такие и им подобные в высшей степени похвальные душевные движения, мы в конце концов внесем в монументальный проект творца и наш скромный вклад. Ретираду назначили на утро среды, и, скорее всего, в ту ночь хлынет проливной дождь, но это не только не помешает, а скорее наоборот – придаст массовому исходу некий оттенок героичности, заслуживающий благодарной памяти и внесения в семейные анналы в качестве яркого доказательства того, что не все добродетели рода человеческого утеряны. Ибо одно дело – спокойно перемещаться в автомобиле при благоприятной метеорологии, и совсем другое – когда дворники на лобовом стекле мотаются как безумные, силясь справиться с полотнищами дождевой воды, низвергающейся с небес. Серьезную проблему, досконально рассмотренную комиссией, представляло собой отношение к этому массовому бегству тех, кого с недавних пор стали называть белобюллетниками. Следовало ведь помнить, что многие эти озабоченные семьи проживали в тех же домах, что и люди с другого политического берега, которые, обуявшись прискорбно реваншистскими настроениями, могут ведь, очень мягко выражаясь, затруднить выезд, если, грубо говоря, не воспрепятствовать ему вовсе. Нам пропорют шины, говорил один. Забаррикадируют лестничные площадки, сулил второй. Испортят лифты, предрекал третий. Зальют силикону в замочные скважины, гнул свое первый. Разобьют стекла, поддавал жару второй. Нападут на нас, чуть только выйдем на улицу, пророчествовал следующий. Тещу в заложники возьмут, вздыхал еще один, причем с таким видом, что казалось, будто подсознательно он только о том и мечтает. Дискуссия, обостряясь с каждой минутой, продолжалась до тех пор, пока кто-то не вспомнил, что во время недавней манифестации все эти десятки тысяч людей вели себя, как ни погляди, в высшей степени корректно: Я бы даже сказал – безупречно, и, следовательно, нет никаких причин опасаться, что нынешние события будут развиваться иначе. Кроме того, я убежден, что они, освободясь от нас, вздохнут с облегчением. Все это прекрасно, вмешался некто недоверчивый, люди эти просто замечательные, образцы гражданского самосознания и воплощенное благоразумие, но есть тут и еще кое-что, о чем мы позабыли. О чем же. О бомбе. Выше уже сообщалось, что этот комитет – национального спасения, как предложил назвать его кто-то из присутствующих, чье предложение, впрочем, тотчас было отвергнуто по более чем веским идеологическим причинам, – оказался весьма представительным, что в данном случае означает, что состояло в нем добрых два десятка членов, рассевшихся сейчас вокруг стола. И любо-дорого было посмотреть, какое смятение воцарилось после этой фразы. Все присутствующие понуро опустили головы, а вслед за тем один укоризненный взгляд затворил – до самого конца заседания – уста тому дерзецу, который вроде бы забыл, что первое правило поведения в хорошем обществе гласит, что говорить о веревке в доме повешенного есть верх невоспитанности. Впрочем, было у загадочного происшествия и одно несомненное достоинство – оно привело всех к согласию насчет высказанного оптимистического замечания. Последующий ход событий подтвердил их правоту. Ровно в три часа ночи, точно так же, как сделало это правительство, семьи стали выходить из домов со своими чемоданами и баулами, кофрами и ридикюлями, со своими кошками и собаками, кто с грубо разбуженной черепахой, кто с японской рыбкой в аквариуме, кто с птичками в клетке, кто с попугаем на плече. Но не открылись двери других жильцов, и никто, стало быть, не вышел на площадку полюбоваться исходом, не отпустил язвительной шутки, не бросил вдогонку грубой брани, и вовсе не потому, что лило как из ведра, никто не перегнулся через подоконник, провожая отбывающий караван взглядом. Ну и, разумеется, можете себе представить, какой поднялся шум, когда вытаскивали свой скарб на лестницу, когда постоянно гремели лифты, снуя то вверх, то вниз, и постоянно раздавалось: Поаккуратней с пианино, Поаккуратней с сервизом, Поаккуратней с портретом, поаккуратней с бабушкой, разумеется, сказали мы, соседи проснулись, но никто не поднялся с постели, не прильнул к дверному глазку, а только говорили друг другу, барахтаясь меж простыней: Уезжают.