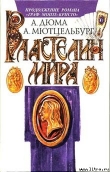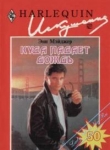Текст книги "[Про]зрение"
Автор книги: Жозе Сарамаго
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поспешное введение чрезвычайного положения, воспринятое как самой судьбой посланный, самим царем Соломоном найденный выход, разрубило тот гордиев узел, который СМИ – и газеты в особенности – давно уж, с того дня, как стали известны злосчастные результаты первых выборов и еще более обескураживающие – вторых, пытались развязать с большим или меньшим хитроумием и с неизменным старанием сделать так, чтобы это не слишком бросалось в глаза. С одной стороны, их долг, столь же элементарный, сколь и очевидный, требовал кипеть гражданственным негодованием как в собственных передовицах, так и в заказанных статьях по поводу неожиданного и безответственного поведения электората, который, по странной и гибельно-извращенной прихоти позабыв о высших интересах нации, уловил политическую жизнь страны в невиданные никогда прежде силки, затолкнул ее в мрачный и темный проулок, обернувшийся тупиком, откуда самый смышленый не сыщет выхода. С другой стороны, надо было тщательно взвешивать, семь раз отмерять каждое слово, обдумывать, как бы кого не обидеть, делать, так сказать, два шага вперед и шаг назад, чтобы, не дай бог, подписчик не принял слишком близко к сердцу, не был задет за живое, не обозлился на газету, которая после стольких лет совершенной гармонии и вдумчивого чтения обозвала его предателем и слабоумным. И введение чрезвычайного положения, позволившее правительству единым росчерком пера приостановить действие конституционных прав и свобод, сняло тяжкое бремя с плеч директоров и редакторов, рассеяло грозную тень, нависшую было над их головами. Теперь, когда свобода слова и распространения информации оказалась урезана, когда из-за плеча журналиста стала вглядываться в его текст цензура, отыскалось наилучшее из оправданий и убедительнейшая из отговорок: Мы бы очень хотели способствовать тому, чтобы наши уважаемые читатели имели возможность, являющуюся одновременно и правом, доступа к информации и к мнениям, свободным от назойливого постороннего вмешательства и от нетерпимых ограничений, тем паче – сейчас, в столь сложный период, который мы переживаем, однако дело обстоит именно так, а не иначе, и тот, кто всегда был связан с почтенным ремеслом журналиста, знает, как трудно работать под круглосуточным наблюдением, а кроме того, значительную часть ответственности за случившееся несут избиратели столичные, а не те, другие, которые в провинции, и, к несчастью, в довершение бед, невзирая на все наши просьбы, власти не позволили нам делать один выпуск – для столицы – цензурованный, а другой – для провинции – свободный, и еще вчера немалый чин из министерства внутренних дел заявил нам, что, в сущности говоря, цензура – она как солнце, что восходит для всех, а для нас это совсем не новость, мы уж знали, что так оно и ведется в мире, что от века платить за грешников достается праведникам. Несмотря на все эти предосторожности, касающиеся как формы, так и содержания, довольно скоро стало очевидно, что интерес к газетам сильно снизился. Страницы изданий, вздумавших было бороться с читательским равнодушием старым испытанным способом, вскоре запестрели наготой мужчин и женщин, нежившихся в новых садах радостей земных, засияли голыми телами, запечатленными вперемежку и по отдельности, вместе и поврозь, в состоянии покоя или, наоборот, в действии, однако читатель, чье терпение истощилось фотоматоном, где все немногие варианты цветов и размеров, мало того, что стимулировали более чем скудно, но уже и в далекой, седой, можно сказать, древности считались весьма банальными средствами эксплуатации полового влечения, так вот, говорю, читатель продолжал своим отчужденным, чтобы не сказать – брезгливым, безразличием способствовать неуклонному падению тиражей. При таком-то отливе исключительно мало проку для ежедневного сведения дебета с кредитом оказалось и от выловленных и напоказ выставленных нечистоплотных интимностей всякого рода, от разнообразно скандальной срамоты и стыдобы, от колеса обозрения общественных добродетелей, скрывающих частные пороки, от бравурно гремящей карусели частных пороков, вознесшихся над общественными добродетелями, от прочих увеселительных аттракционов, на которые еще так недавно валом валили не только что зрители, но и желающие сделать кружок или два. В самом деле, стало казаться, что большинство горожан задалось твердым намерением изменить жизнь свою, вкусы и стиль. Непростительную ошибку, как с этой минуты, с каждой минутой будет все видней и очевидней, совершили они, решив оставить бюллетени чистыми. Ну, что ж, хотели чистоты, будет вам чистота.
Таково было твердое намерение правительства и особенно министерства внутренних дел. Отбор агентов, из коих часть была тайными, а часть пришла из разных полицейских структур, произошел стремительно и эффективно. Им предстояло ужами вползти, ввинтиться, втереться в самую гущу народных масс. После того как под присягой, доказующей кристальную чистоту их гражданских убеждений, они сообщали, за какую партию и как именно проголосовали, после того как подписывали некое обязательство, свидетельствующее о непримиримом отношении к моровой язве, заразившей значительное число горожан, первейшей обязанностью агентов – обоего, кстати сказать, пола, отмечаем это особо, чтоб не слышать привычных упреков, будто все, что ни есть скверного на свете, сотворено мужчинами, – разделенных на группы по сорок человек, как в школьном классе, первейшей, значит, обязанностью их становилось усвоение огромного количества материала, добытого шпионами во время повторных выборов, то есть и разговоров, подслушанных в очередях, и данных видеосъемки, произведенных из машин, ездивших взад-вперед вдоль этих очередей. Начав с розысков в информационных потрохах, агенты, прежде чем с воодушевлением и нюхом настоящих ищеек устремиться в поле, так сказать, к непосредственным и прямым действиям, проходили за закрытыми дверями еще одно обследование, особенности которого мы несколькими страницами выше уже имели случай продемонстрировать на примерах кратких, но толковых. Звучали простые, расхожие фразы наподобие таких вот: Обычно я на выборы не хожу, но на этот раз решил иначе, Что ж, поглядим, может быть, что и выйдет из всего этого, Повадился кувшин по воду ходить, ну и так далее, В прошлый раз я тоже голосовал, но из дому смог выйти только в четыре, Да это – вроде лотереи, чаще всего не угадываешь, Пусть так, а попробовать все равно стоит, Надежда – она ведь вроде соли, саму-то по себе не съешь, но вкус придает любой еде, – и вот на протяжении многих часов эти и тысячи подобных фраз, одинаково бесцветных и безличных, одинаково нейтральных и невинных, разбирались по косточкам до последнего слога, вертелись так и эдак, крошились, толклись в ступках пестиком таких вот вопросов: Объясните-ка, что это за кувшин, Что вы имеете в виду, говоря, что тут ему и голову сломить, Почему если не ходите на выборы, решили проголосовать на этот раз, Если надежда – вроде соли, что, по-вашему, следует предпринять, чтобы соль стала подобна надежде, Как вы решите проблему разницы цветов, ведь надежда, как известно, зеленая, а соль – белая, Вы и в самом деле считаете, что карточка лото ничем не отличается от избирательного бюллетеня, Что вы имели в виду, говоря, что, мол, все равно не угадаешь, и снова: Что это за кувшин, Он по воду ходил, потому что хотел пить или же встречался с кем-то, Что символизирует эта самая голова кувшина, Передавая соседу соль, думаете ли вы, что подаете надежду, Почему вы надели сегодня белую сорочку, Как вы считаете – это реальный кувшин или некая метафора, Какого он цвета – черный или красный, Одноцветный или расписной, Гладкий или с рельефными узорами, Вы знаете, что такое рельеф, Вам случалось когда-нибудь выигрывать в лотерею, Почему вы отправились голосовать только в четыре часа, хотя дождь прекратился уже в два, Что это за женщина рядом с вами на снимке, Над чем это вы так весело смеетесь, Вам не кажется, что такое серьезное дело, как волеизъявление, требует от всех избирателей не менее серьезного к себе отношения, полнейшей сосредоточенности и внимания, Демократия вызывает у вас смех, Или, может быть, слезы, Так все же – смех или слезы, Скажите, почему вы и не подумали починить кувшин, склеить обломки, Вам нравится время, в котором выпало жить, или же вы предпочли бы другую эпоху, Так, вернемся к соли и надежде, какое количество ее, по-вашему, необходимо, чтобы не превратить в нечто несъедобное то, чего вы ожидаете, Вы устали, Хотите домой, Не спешите, спешка – скверный советчик, человек не задумывается толком над своими ответами, а последствия этого могут оказаться самыми пагубными. Нет, вы не пропали, что это вам в голову пришло, вы, судя по всему, не понимаете, что здесь, у нас, люди не пропадают, а находятся. Успокойтесь, мы вас не пугаем, а хотим лишь, чтобы вы не спешили. По достижении этого пункта беседы жертве, загнанной в угол и уже готовой сдаться, задается последний, роковой вопрос: Ну, а теперь скажите мне, как вы проголосовали, то есть за какую партию вы отдали свой голос. Логично было бы предположить, что притянутые к допросу, припертые к стенке направленными микрофонами и видеокамерами пятьсот подозреваемых, выловленных среди избирателей, от чего, кстати, никто из нас не застрахован, ибо стоит лишь вспомнить ускользающую, рассеивающуюся суть обвинения, скудно сквозящего в тех фразах, убедительные образчики коих мы привели чуть выше, логично, говорю, было бы предположить, приняв в расчет относительную широту охваченного вопросами универсума, что и ответы – пусть с должной и естественной степенью погрешности – распределяться будут в той же пропорции, что и голоса на выборах, то есть сорок человек с гордостью заявят, что поддержали правящую ПП, столько же с ноткой вызова, с долей бравады – что голосовали за единственную оппозиционную партию, достойную именоваться так, то есть за ПЦ, а пятеро, ну да, пятеро, уж никак не меньше, скажут: Голосовал за ПЛ, скажут твердо, но вместе с тем как бы слегка извиняясь за свое упрямство, сладить с которым самим не под силу. Ну, а остальные, весь этот огромный остаток в четыреста пятнадцать респондентов, должен будет опять же в соответствии с неумолимой логикой зондирования ответить: Оставил бюллетень чистым. Но такой ответ – прямой и недвусмысленный, без недомолвок и экивоков, порожденных благоразумием или самомнением, – услышать можно было бы только от компьютера или от калькулятора, ибо две ипостаси его неколебимо честной природы – информатика и механика – иного и не предполагают, мы же имеем дело с людьми, а люди повсеместно известны как единственные одушевленные существа, умеющие лгать, хоть иногда они делают это от страха, а порой – ради выгоды, а бывает, и от осознания того, что в их распоряжении не имеется иного способа защитить правду. Итак, на первый, сторонний взгляд, план министерства внутренних дел провалился, и в самом деле – в первые минуты помощников обуяло полнейшее и постыдное смятение, и неведомо было, можно ли одолеть или обойти внезапно возникшее препятствие иначе, как повальными казнями, что, как широко известно, не слишком-то приветствуется в странах, чье демократическое устройство и достаточно развитая и гибкая правовая система позволяют достичь тех же целей, не прибегая к столь примитивным, к столь средневековым методам. И в этом-то сложном положении пребывая, министр внутренних дел выказал удивительную широту политической натуры, редкостную тактическую умелость и стратегическую дерзость, сулящие ему – как знать – покорение новых вершин, взлет к новым высотам. Два решения принял он, и оба важные. Первое – то, которое позднее в официальном заявлении министерства, распространенном через государственное новостное агентство, будет несправедливо обозвано макиавелльевым – заключалось в изъявлении от имени всего правительства горячей признательности пятистам образцовым гражданам, что в последние дни motu proprio [4]4
По собственной инициативе (лат.).
[Закрыть]предложили властям свою помощь, поддержку и любое требующееся содействие ради того, чтобы успешно продвигались исследования аномальных факторов, которые выявились в ходе двух последних выборов. Вместе с этим выражением обычной и такой понятной благодарности министерство, предваряя вопросы, попросило семьи этих пятисот не удивляться и не тревожиться, что их близкие не дают о себе знать, ибо именно в отсутствии слуха и духа таится залог их личной безопасности, особенно если учесть, что деликатной операции присвоена высшая степень секретности – так называемый красный/красный уровень. Второе решение, доведенное до сведения исключительно узкого круга лиц, состояло в том, что был перевернут с ног на голову и вывернут наизнанку предшествующий план, согласно которому, если помните, предполагаемое массированное внедрение агентуры в народные массы должно было лучше, нежели что-либо другое, раскрыть тайну, разгадать загадку, шараду, головоломку – назовите как хотите – случившегося на выборах. С той минуты агентам предстояло действовать, разбившись на две неравные группы, из коих меньшая будет работать, так сказать, в поле – богатого урожая, по правде сказать, их труды не сулили – а вторая, большая – продолжать допросы пятисот задержанных – задержанных, заметьте, а ни в коем случае не арестованных – в случае надобности усиливая на них давление физическое и психологическое. Ибо не лжет старинная, веками испытанная и малость перефразированная поговорка, и пятьсот синиц в руках в самом деле лучше, чем пятьсот один журавль в небе. Правота ее подтвердилась в полной мере. Когда, проявляя изощренное дипломатическое хитроумие, после множества подходцев и прикидок задавал агент, работающий в поле, то есть в городе, первый вопрос: Не скажете ли, за кого проголосовали, ответ, без запинки даваемый ему, дословно совпадал со статьей закона: Представители власти не имеют права к принуждению или побуждению граждан под каким бы то ни было предлогом отвечать, как они проголосовали. Когда же с деланой небрежностью, словно бы невзначай и походя, как если бы речь шла о чем-то совершенно маловажном, произносился второй вопрос: Простите мне мое любопытство, но, может быть, вы вообще не заполнили бюллетень, следовавший ответ удивительно искусно сужал его до пределов чисто академических: Нет, гражданин, заполнил, но если бы даже и оставил его чистым, все равно оставался бы в рамках закона, позволяющего голосовать за любой из указанных списков или испортить бюллетень, нарисовав на нем, к примеру, карикатуру на президента, а оставить бюллетень незаполненным, дорогой мой и такой любознательный гражданин, есть мое неотъемлемое право, которое закон волей-неволей признает за избирателями и которое записано там всеми буквами, ибо никто не может быть подвергнут преследованию за то, что и так далее, но во всяком случае и для вашего душевного спокойствия повторю, что я как раз – не из тех, кто так поступает, это я так просто, теоретически, не более того. Будь ситуация обычной, ничего особенного бы не было в том, чтобы услышать подобный ответ два или три раза, это всего лишь означало бы, что не перевелись еще в этом мире люди, знающие законы, по которым живут, да еще и настаивают на их исполнении, однако выслушивать такое, сохраняя невозмутимый вид, бровью не шевельнув, ни единым мускулом не дрогнув, по сто, по тысяче раз подряд, как назубок затверженную молитву – тут ведь, согласитесь, терпение лопнет у всякого, а особенно у призванного да не сумевшего выполнить столь деликатное задание. Так что нечего и удивляться, что агенты, сталкиваясь раз за разом с такой обструкцией, теряли самообладание, наносили оскорбление словесное, а то и действием, а уж когда доходило до рук, не всегда с рук им это сходило, благо работали они, чтобы дичь не спугнуть, поодиночке, и легко себе представить последствия тех нередких случаев – особенно если дело было в так называемых проблемных кварталах, – когда устремлялись на помощь обиженному другие избиратели. Отчеты, направляемые агентами в центр, обескураживали скудостью своей и худосочием, ибо ни один человек, ну, ни единый не признался в электоральном своем воздержании, хотя иные, прикидываясь непонимающими, и говорили, что сейчас, мол, им страшно некогда, как-нибудь в другой раз, хорошо, а то магазины закроются, однако гаже всех оказывались, черт их дери, старики, и мнилось, что они, будто пораженные эпидемией глухоты, заключены в звуконепроницаемую капсулу, и когда оправившийся от замешательства агент в трогательном простодушии писал свой вопрос на бумажке, негодяи эти уверяли, что позабыли дома очки, или что почерк не разбирают, или что просто грамоте не знают. Были, впрочем, и агенты более искусные – те, что всерьез и буквально восприняли идею внедрения и, погрузившись в недра баров, угощали посетителей, ссужали деньгами поиздержавшихся игроков в казино, ходили на стадионы, особенно исправно посещая футбольные и баскетбольные матчи, потому что там на скамьях жмется больше всего народу, заводили разговоры с соседями и, если счет так и не был открыт, многозначительно сравнивали нулевую ничью с таким же результатом выборов, ожидая, не клюнет ли. Но если изредка и клевало, то попадалось на крючок все равно что ничего. Рано или поздно наставал черед задать вопрос: А кстати, не скажете ли, как вы голосовали, или: А скажите, кстати, вы бюллетень-то не оставили чистым, на что следовали соло или хором уже известные ответы: Я – да ну что вы, Мы – да с чего вы взяли, а вслед за тем немедля приводимы были – и в действие тоже – юридические резоны со всеми своими параграфами и подпунктами, да еще так бегло и бойко, что создавалось устойчивое впечатление, будто все, все без малейшего изъятия горожане избирательного возраста прошли интенсивный курс обучения соответствующим законам, и здешним, и чужеземным.
С течением времени стало заметно, хоть и не сразу, что само слово «чистый», словно сделавшись непристойным или неблагозвучным, почти вышло из употребления и, чтобы заменить его, граждане отныне пускались на всяческие ухищрения и иносказания. Вместо листика чистой бумаги просили неисписанной, небо называли исключительно ясным, а помыслы – безгрешными, а невест – целомудренными, вслед за чистым убытком сгинул и чистый доход, но самым примечательным было, конечно, повсеместное исчезновение чистюль и чистоплюев, и замена чистогана наличностью. Совсем уж было показалось, что ослепительные политические перспективы, открывавшиеся министру внутренних дел, померкли и исчезли, чуть появившись, а сам он, взлетев едва ли не к самому солнцу, жалким образом шлепнется в геллеспонт, где и потонет, но тут новая идея, внезапная, как зарница в ночной тьме, и столь же яркая, удержала его на плаву. Не все еще было потеряно. Министр приказал собрать досье на агентов, работающих в поле, тех, кто работал по контракту, уволил, не долго думая, кадровым устроил выволочку и рьяно принялся за дело.
Стало совершенно ясно, что город этот – не город, а скопище лгунов и что те пятьсот, что находились в его распоряжении, тоже врали всеми, как говорится, зубами, какие во рту были, но все же существовала известная разница меж ними и прочими горожанами, ибо те все же могли свободно выходить из дому и возвращаться туда и, скользкие, как угри, все равно исчезали, возникали вновь, чтобы опять пропасть неведомо куда и опять возникнуть, тогда как с первыми одно удовольствие было дело иметь, стоило лишь спуститься в министерские подвалы, хоть, конечно, не все там находились, все бы не поместились, и большую часть пришлось распределить по другим следственным учреждениям, однако и той полусотни, что пребывала под постоянным наблюдением, было более чем достаточно для проведения эксперимента. Хотя достоверность показаний, полученных с помощью этой машины, представители философской школы скептиков поставили бы под сомнение, да и не всякий суд согласился бы принять их в качестве доказательств, министр тем не менее надеялся, что при использовании этого устройства высечется хотя бы малая искра, которая поможет выйти из непроглядной тьмы, куда зашло следствие. Речь, как вы уж, наверно, поняли, идет о знаменитом полиграфе, известном также как детектор лжи или, выражаясь более научно, о приборе, предназначенном регистрировать физиологические реакции того или иного психологического состояния, или – если вдаваться в подробности – об устройстве, призванном эти самые реакции фиксировать на бумаге, пропитанной йодистым раствором калия и крахмала. Испытуемый, подсоединенный к устройству бесчисленными проводами, никаких страданий не испытывает – он должен лишь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, и отринуть наконец утверждение, от начала времен не в зубах, так в ушах навязшее, что якобы воля может все превозмочь, так вот, не все, и, чтоб далеко не ходить за примерами, здесь явлен убедительнейший из них, ибо эта твоя железная воля, как бы ты на нее ни полагался, как бы ни демонстрировал свойства ее до сей поры, не сумеет удержать мышцы твои от сокращения, не допустит неуместную и несвоевременную испарину, не воспрепятствует подрагиванию век и дыхание не выровняет. И скажут тебе под конец, что врешь ты все, а ты начнешь возражать, клясться, что говоришь сущую правду, только правду, всю правду, и, может быть, так оно и есть, а дело-то все в том, что человек ты нервный, волевой, конечно, спору нет, но нервный, и трепетному тростнику подобен чутким отзывом своим на легчайшее дуновение, и тебя снова приторочат к машине, и тогда уж совсем не поздоровится, и спросят тебя, жив ли ты, и ты, естественно, скажешь: Жив, а тело твое возразит и опровергнет твои слова, и дрожащий подбородок заявит, что нет, мол, мертв, и, может быть, окажется прав, и, может быть, тело твое уже знает, что тебя убьют, а ты еще нет. Не вполне естественно, что подобное происходит в подвалах министерства внутренних дел, ибо единственная вина всех этих людей – в том лишь, что они оставили бюллетень незаполненным, и неважно, нестрашно было бы, если бы так проголосовали лишь те, кто всегда так голосует, но ведь таких оказалось много, слишком много, неимоверно много, едва ли не все, и что толку твердить, что это, мол, твое неотъемлемое право, если тебе говорят, что право это следует принимать гомеопатическими дозами, по капельке, и повадился ты ходить с кувшином, до краев полным чистыми бюллетенями, вот голову и сломил, нам сразу почудилось в этой голове что-то подозрительное, и если бы то, что могло бы нести много, удовольствовалось малым, то это – да, это была бы более чем похвальная скромность, тебя же сгубило непомерное самомнение, амбиции, так сказать, думал, небось, что вознесешься к самому солнцу, а на деле сверзился в дарданеллы, вспомни, что мы говорили примерно то же самое про министра внутренних дел, но он-то ведь особь другой породы, мужской породы, самец, можно сказать, жесткощетинный и жестоковыйный, а теперь любопытно было бы поглядеть, как отделаешься ты от охотника на ложь, какие узоры, обнаруживающие беды твои, большие и малые, прочертит самописец по бумаге, пропитанной йодистым калием и крахмалом, вот видишь, ты, мнивший себя чем-то иным, благовестом возвещавший о высшем своем человеческом достоинстве, сведен теперь к мокрой бумажке.
Впрочем, полиграф – это вовсе не машина, снабженная диском, что ходит вперед-назад и говорит нам соответственно ситуации: Испытуемый лжет – или Испытуемый не лжет, ибо в таком случае одно удовольствие было бы судье решать, виновен человек или оправдан, и полицейские комиссариаты дано бы уж были заменены отделами прикладной психологии, адвокатов же, потерявших клиентов, сдали бы в архив, и в запустение пришли бы пустующие трибуналы. Детектор лжи, говорим мы, сам по себе ничего не может, ему надо, чтобы рядом находился подготовленный оператор, который будет переводить и толковать загадочные закорючки, что вовсе не значит, однако, будто этот самый оператор безошибочно отличает правду от лжи, вовсе нет, он всего-навсего видит то, что у него перед глазами, а видит он, что испытуемый при ответе на вопрос дал – тут мы бестрепетно вводим новый термин – аллергографическую реакцию или, выражаясь более литературно, но не менее заковыристо, произвел рисунок лжи. Ну, что ж, в одном хотя бы могли бы остаться мы в выигрыше. По крайней мере, удалось бы осуществить первичный отсев, зерна – сюда, плевелы – туда, вернуть на свободу и к нормальной семейной жизни тех, кто наконец-то доказал свою полную невиновность, то есть на вопрос: Оставили ли вы бюллетень незаполненным, ответил: Нет, и не был бы разоблачен детектором. И ничем бы не помогли всем прочим, чья совесть отягощена неизбывной виной электоральных нарушений, ни иезуитская изворотливость ума, ни дзэн-буддистский спиритуальный самоанализ – детектор, столь же бесчувственный, сколь и неумолимый, моментально распознавал бы неправду и в ответах тех, кто уверял, что не оставлял бюллетень чистым, и тех, кто якобы голосовал за такую-то или такую-то партию. Одну ложь при благоприятном стечении обстоятельств пережить еще можно, две – никак. Но тем не менее министр внутренних дел распорядился независимо от результатов проверки на детекторе никого на свободу не отпускать: Пусть посидят, никогда ведь не узнаешь наперед, докуда дойдет коварство человеческое, сказал он. И ведь прав, чертяка, оказался, совершенно прав. После того как, покрыв загогулинами, извели десятки метров миллиметровки, на которой зафиксирован был весь душевный трепет испытуемых, после того как по много сотен раз прозвучали на одни и те же вопросы неизменно одинаковые ответы, некий агент секретной службы, совсем молоденький паренек, еще мало искушенный в искушениях, угодил с невинностью новорожденного агнца в ловушку, подстроенную ему некой женщиной, молодой притом и красивой, подвергнутой проверке на детекторе лжи и проверки этой не прошедшей, ибо полиграф признал все ее слова ложью и фальшью. И сказала новоявленная мата-хари: Ваш прибор не ведает, что творит. Это почему же, спросил агент, позабыв, что вступать в диалоги в его обязанности не входит. Да потому что в этой ситуации, когда весь город – под подозрением, стоит лишь произнести слово «чистый» – одно его и больше ничего – даже и не пытаясь вызнать, как человек проголосовал и голосовал ли вообще, чтобы вызвать самые негативные реакции у испытуемого, пусть он даже будет чистейшим образцом невиновности, вогнать его в тоску и тревогу. Не верю и не могу согласиться, возразил самоуверенный агент, кто в ладу со своей совестью, тот не скажет ни больше, ни меньше правды и потому пройдет без ущерба проверку на полиграфе. Мы же не камни говорящие, не пни с глазами, ответила женщина, в самой истинной истине всегда есть крупица какого-то смятения и беспокойства, да и как иначе, ведь мы – и я имею в виду не одну лишь хрупкость нашего бытия – не более чем крохотный дрожащий огонек, что в любую минуту может погаснуть, и нам страшно, да, прежде всего мы испытываем страх. Ошибаетесь, мне вот нисколько не страшно, я обучен и натренирован в любых обстоятельствах справляться со своим страхом, да и сам от природы – не робкого десятка и не был боязлив даже в детстве. Вот как, спросила женщина, ну, что ж, давайте попробуем, подсоединитесь к детектору, а я буду задавать вопросы. Вы в своем уме, это вы здесь подозреваемая, а я – представитель власти. Значит, все-таки боитесь. Ничего я не боюсь, говорят вам. Тогда подключитесь и докажите, что вы мужчина. Агент перевел взгляд с улыбающейся женщины на техника, улыбку старавшегося сдержать, и сказал: Ладно, один раз – не в счет, согласен подвергнуться эксперименту. Техник подсоединил провода, прикрепил клеммы: Готово, можете начинать. Женщина глубоко вздохнула, задержала воздух в легких секунды на три и потом резко выдохнула слово: Чистый. Оно не стало из восклицания вопросом, но иголочки самописца уже задвигались по бумаге. И в последовавшей паузе они еще не успели остановиться полностью, продолжали вибрировать, класть штрихи, подобно тому, как от брошенного камня расходятся круги по воде. И женщина смотрела на них, а не на привязанного мужчину, но потом пришел и его черед – она устремила взгляд на него и спросила мягко и почти нежно: Скажите, пожалуйста, вы оставили бюллетень незаполненным. Нет, я никогда в жизни не оставлял бюллетень незаполненным, с силой отвечал агент, не оставлял и оставлять не буду впредь. Иголочки забегали проворней, стремительней, торопливей. Ну, спросил агент в наступившей тишине. Техник молчал, и агент повторил более настойчиво: Ну, что показал прибор. Показал, что вы лжете, ответил техник смущенно. Этого быть не может, вскричал агент, я сказал правду, я заполнил бюллетень, я профессиональный сотрудник спецслужбы, я патриот, радеющий за интересы отечества, прибор, наверно, не в порядке. Не трудитесь и не оправдывайтесь, сказала женщина, я-то верю, что вы сказали правду, однако хочу напомнить, что речь-то не о том, я всего лишь хотела и сумела показать, что не очень-то можем доверять своему телу. Это вы виноваты, заставили меня нервничать. Да, кто ж другой, как известно, во всем искусительница ева виновата, но ведь нас, когда привязывали к этой машине, никто не спрашивал, нервничаем мы или нет. Чувствуете за собой вину, вот и нервничаете. Может быть, но как вы доложите начальству, что, будучи ни в чем не замешан, повели себя как виновный. А я не буду докладывать, а того, что было здесь, как бы и не было, отвечал агент. И добавил, обращаясь к технику: Дайте-ка мне эту бумажку и запомните накрепко – язык за зубами, не то пожалеете, что на свет родились. Слушаюсь, будьте покойны, рта не раскрою, могила. Я тоже никому ничего не скажу, пообещала женщина, но только вы бы объяснили там своему министру, что эти ухищрения – ни к чему, что все мы продолжаем лгать, говоря правду, и – говорить правду, обманывая, как он, как вы, и представьте теперь, что бы вы ответили, предложи я вам переспать со мной, и что показал бы прибор.
Чеканная фраза министра обороны: Мощный артиллерийский удар по всей системе, частично вдохновленная военно-морской прогулкой, длившейся полчаса и при полном штиле, начала набирать силу и привлекать к себе внимание, когда окончательно выяснилось, что планы министра внутренних дел, несмотря на отдельные, мелкие, там и сям обретенные удачи, неспособные тем не менее повлиять на ситуацию в целом, не достигают главной своей цели – не могут убедить горожан, а точнее – выродков, преступников и смутьянов, оставивших бюллетени чистыми, признать свои ошибки и взмолиться, чтоб дарована была милость – а с нею вместе и справедливое воздаяние – в виде нового закона о выборах, на которые в назначенный срок все они скопом и устремятся во искупление грехов, клянясь никогда впредь не повторять их. Всем членам кабинета, за исключением министров юстиции и культуры, была внушена мысль о срочной необходимости завернуть гайки покрепче, тем более что столь долгожданное чрезвычайное положение не дало эффекта и действия в нужном направлении не произвело, поскольку граждане этой страны, не имея полезнейшей привычки требовать неукоснительного соблюдения своих конституционных прав, более чем естественным порядком не заметили, что прав этих они лишились. Следовательно, надлежит вслед за тем сменить чрезвычайное положение на положение осадное – да в полную силу, не для проформы и не понарошку – отменить все зрелищные мероприятия, закрыть все точки их проведения, комендантский час – ввести, а на улицы – наоборот, вывести усиленные армейские патрули, объявить, чтобы больше пяти не собирались, безусловно запретить въезд в столицу и выезд из нее, и все эти действия сопровождать аналогичными, но несравненно менее суровыми мерами в провинции с тем, чтобы разница в подходах, не то что бросающаяся, а прямо-таки вцепляющаяся в глаза, унизила бы столицу еще горше и тяжче. Мы собираемся сказать ее жителям, продолжал министр обороны, поглядите и поймите раз и навсегда, что доверия вы не заслуживаете, так что соответственно к вам и будут относиться. Министру внутренних дел, вынужденному любым способом скрывать провал своих секретных служб, идея немедленно объявить столицу на осадном положении очень пришлась по душе, и он, показывая, что есть еще у него кое-какие козыри и что игра продолжается, уведомил совет министров, что после труднейшего расследования, проведенного совместно, в теснейшем сотрудничестве с интерполом, пришли они к выводу о том, что международный анархизм: Который только и способен писать всякую похабщину на стенах, и сделал паузу, пережидая снисходительные смешки коллег, а потом, довольный ими и собой, договорил: Не имел никакого отношения к бойкоту выборов, коего стали мы жертвами, и, стало быть, мы имеем дело с проблемой чисто внутреннего свойства. Позвольте реплику с места, сказал министр дел иностранных, мне это определение представляется не вполне корректным, и я должен напомнить высокому собранию, что послы уже целого ряда государств высказали мне свою озабоченность, поскольку происходящее здесь может выплеснуться за границы, подобно эпидемии какой-нибудь новой черной смерти. Белой, поправил с миротворческой улыбкой на устах глава правительства, белой, как незаполненный бюллетень. А мы, продолжал министр иностранных дел, получили бы большие основания говорить о попытках дестабилизировать демократическую систему не просто и не только в одной отдельной стране, но и в масштабах планетарных. Министр дел внутренних почувствовал, что может лишиться главной роли, полученной благодаря недавним событиям, но все же сбить себя с линии не дал и, поблагодарив с беспристрастной учтивостью своего внешнеполитического коллегу за глубокий и вдумчивый комментарий, показал, что и сам способен произвести самые высокие и заковыристые образцы семиотического толкования: Любопытно, сказал он, как нечувствительно для нас меняют слова свое значение, как часто используем мы их, чтобы выразить ими совершенно противоположное тому, что выражали они прежде и, подобно постепенно замирающему эху, еще продолжают выражать. Да, таков один из эффектов семантического процесса, отозвался из глубины министр культуры. А какое отношение имеет это к чистым бюллетеням, спросил министр иностранных дел. К бюллетеням – никакого, а вот к осадному положению – самое непосредственное, торжествующе возгласил министр дел внутренних. Не понимаю, заметил министр обороны. А меж тем это очень просто. Может быть, сколь угодно просто, но я все равно не понимаю. Давайте посмотрим, что значит слово «осада», вопрос риторический и, значит, ответа не требует, мы все знаем, что, не так ли. Как дважды два четыре. И мы, стало быть, вводя осадное положение, признаем тем самым, что столица нашего государства блокирована, отрезана, обложена со всех сторон неприятелем, меж тем как на самом деле этот, с позволения сказать, неприятель находится не снаружи, но внутри. Члены кабинета переглянулись, глава сделал непонимающее лицо и принялся ворошить бумаги на столе. Однако министр обороны не собирался признавать себя побежденным: Это можно понять и иначе. Как же. Что обитатели столицы подняли мятеж – думаю, не будет сильным преувеличением назвать происходящее именно так – и были в связи с этим блокированы, обложены, осаждены, выберите наиболее подходящий термин, мне это решительно все равно. Позвольте напомнить уважаемому коллеге и всем членам кабинета, сказал министр юстиции, что граждане, решившие не заполнять бюллетени, всего лишь осуществили свое право, четко, ясно и недвусмысленно гарантированное им законом, а потому говорить о мятеже в данном случае не только некорректно с точки зрения семантики, прошу простить, что вторгаюсь в сферы, где некомпетентен, но и совершенно неосновательно с точки зрения права. Право – это не абстракция, сухо ответил министр обороны, право надо заслужить, а они его не заслужили, а прочее – пустые разговоры. Вы совершенно правы, сказал министр культуры, право – не абстракция, оно существует, даже если не уважается. Ну-у, пошла философия. Вы что-нибудь имеете против философии, господин министр обороны. Единственная философия, которая меня интересует, – та, что приводит к победе, я, господа министры, человек простой, казарменный, так сказать, человек и практический, для меня «хлеб» – это хлеб, а «сыр» – это сыр и ничего больше, но чтобы вы не смотрели на меня как на убогого, растолкуйте мне, если, конечно, речь не идет о квадратуре круга, каким это манером может существовать закон, который не уважается. Да очень просто, господин министр обороны, это право существует потенциально, в рамках обязанности соблюдать его и исполнять. На проповедях и разглагольствованиях – я, поверьте, никого не хочу обидеть – далеко не уедешь, а вот как введем осадное положение, они у нас попляшут. Как бы нам не пришлось, отвечал на это министр юстиции. Не представляю себе такого. В данную минуту – я тоже, но не исключено, что это всего лишь вопрос времени, надо будет лишь немного подождать, никто ведь не осмеливался даже предположить, чтобы когда-нибудь, где-нибудь могло произойти то, что произошло у нас, однако же произошло, затянулось узлом намертво, и мы все, собравшись вокруг этого стола, чтобы принять решение, которое вопреки всем предложениям, здесь прозвучавшим, принять все никак не можем, так что подождем малость и очень скоро, боюсь, узнаем, как именно отнеслись граждане к введению осадного положения. Услышав такое, я просто не могу молчать, взорвался министр внутренних дел, принятые нами меры были единогласно одобрены всеми членами кабинета, и, насколько я помню, никто из присутствующих иных и лучших предложений не вносил, ибо тяжелейшее бремя катастрофы – да, я назову случившееся катастрофой, пусть кое-кому из моих уважаемых коллег это и покажется преувеличением, на которое они не замедлят отреагировать самодовольно-ироническим смешком, но я сказал и повторю – тяжелейшее бремя катастрофы несут, как полагается им по должности, прежде всего их превосходительства глава государства и глава правительства, а затем в силу своих прерогатив – министр обороны и министр внутренних дел, что же касается остальных, и тут я имею в виду, разумеется, господ министров юстиции и культуры, то, хоть они и соизволили одарить нас плодами могучего своего разума, пролить на нас свет истины, но я лично не нашел в плодах этих ничего заслуживающего внимания. Благодатный свет истины, как вы изволили выразиться, пролил на вас не я, но закон, только он один, ответил на это министр юстиции. Ну, а в отношении моей скромной персоны, добавил министр культуры, то, памятуя, какие крохи бюджет выделяет ведомству, вверенному моему попечению, я и не вправе претендовать на большее. Ага, теперь я, кажется, понимаю корни вашей склонности к анархизму, выпалил министр внутренних дел, рано или поздно, но дело непременно кончается подобным выпадом. Премьер тем временем долистал свои бумаги до конца, подребезжал ручкой о край стакана, требуя тишины и внимания, и сказал: Не хотел прерывать вашу увлекательную дискуссию, из коей, хоть и могло показаться, что я вроде и отвлекся, почерпнул немало полезного, потому прежде всего, что мы по собственному опыту знаем – ничего нет лучше доброго спора, чтобы разрядить скопившееся напряжение, особенно – в ситуациях с теми же особенностями, которые неустанно демонстрирует нам нынешняя, и когда все мы понимаем, что необходимо действовать, а не гадать на. Он помолчал, сделал вид, что сверяется со своими записями, и продолжил: И потому, раз уж мы успокоились, остыли, умиротворились, то и можем одобрить инициативу господина министра обороны на неопределенный срок объявить город на осадном положении, которое вступает в силу с момента публикации указа об этом. Его слова были встречены одобрительным гулом – более или менее всеобщим, но при том складывавшимся из различных элементов, определить природу коих не представлялось возможным, хоть министр обороны и проехался стремительной панорамой по лицам присутствующих, желая уловить оттенок неодобрения или хотя бы недостаток энтузиазма. Премьер продолжал: К сожалению, все тот же опыт учит нас, что даже самые обдуманные и совершенные идеи, когда придет время воплотить их, могут провалиться – провалиться от возникших ли в последний момент колебаний, от разлада ли между тем, чего ждешь, и тем, что есть в наличии, или от того, что в критический момент выпустил ситуацию из-под контроля, или от многого множества иных возможных причин, перечень коих так длинен, что его и приводить не стоит, и времени изучить не хватит, и в свете всего вышеизложенного представляется абсолютно необходимым иметь про запас и наготове другую идею – дополняющую или заменяющую первую и способную не допустить, как в нашем с вами случае, образование вакуума власти или еще того хуже – чтобы власть валялась на улице, последствия чего будут самые что ни на есть катастрофические. Министры, привыкшие к риторическим фигурам своего премьера, определяемым формулой «три шага вперед и два назад», терпеливо ждали, когда грянет финальный аккорд, прозвучит заключительное слово – и все станет ясно. Но на этот раз не дождались. Премьер снова смочил губы водой из стакана, утер их белым платочком, извлеченным из внутреннего кармана пиджака, и вроде бы опять собрался свериться со своими заметками, однако в последний момент отказался от этого намерения и сказал так: Если осадное положение не оправдает возложенных на него надежд, то есть окажется неспособно вернуть граждан к нормальной демократической практике, ко взвешенному и осознанному исполнению закона о выборах, который по безрассудному недосмотру наших законодателей отворил двери тому, что, не боясь парадоксальности этого суждения, с полным правом можно было бы назвать законным беззаконием, то ставлю вас, господа министры, в известность, что я в качестве главы правительства прибегну к иным методам, каковые не только психологически усилят осадное положение, но и сумеют – я убежден в этом – сами по себе вернуть политическое равновесие нашей отчизне и раз и навсегда покончить с кошмаром, в который мы ныне погружены. Очередная пауза, новый глоток воды, еще одно прикосновение платочка к губам – и он продолжил: Возникает естественный вопрос – почему же в таком случае мы не применяем эти методы немедленно, не тратя времени на осадное положение, которое, как можно судить заранее, весьма серьезно и разносторонне ухудшит жизнь жителей столицы, причем пострадают не только виноватые, но и невинные, и вопрос этот, разумеется, более чем законен, однако нельзя не учитывать весьма существенные факторы, как чисто логистического характера, так и иные, совокупный эффект которых можно без риска впасть в преувеличение назвать травмирующим, а потому я полагаю, что наши действия должны быть наращиваемы постепенно, а в качестве первоначального шага избрано введение осадного положения. Глава правительства снова поворошил бумаги, но к стакану на этот раз не притронулся: Хотя я понимаю ваше нетерпение, но все же сейчас ничего сообщать вам не стану, ограничившись известием о том, что сегодня утром его превосходительство господин президент удостоил меня аудиенции, где я изложил ему свою точку зрения и получил его полнейшую и всестороннюю поддержку. В свое время вы узнаете все остальное. А теперь, прежде чем закрыть наше продуктивное совещание, убедительно и настойчиво прошу всех членов кабинета, а особенно – господ министров обороны и внутренних дел, на плечи которых – не дел, разумеется, а самих господ министров – ляжет основная тяжесть многообразно сложных действий, предназначенных для введения и исполнения режима осадного положения, да, так вот, прошу отнестись к нашим начинаниям с максимальным усердием и ответственностью. Вооруженным силам и силам правопорядка надлежит, действуя как совместно, так и в рамках собственной компетенции, неукоснительно сохраняя взаимное уважение и всячески избегая трений, порожденных соперничеством, кои способны только опорочить общую цель, выполнить патриотическую задачу по возвращению заблудшей овечки в стадо, если будет мне позволено употребить это выражение, столь милое нашим пращурам и столь глубоко укоренившееся в наших пастушеских традициях. И помните, господа, вы должны сделать все, чтобы те, кто сейчас всего лишь является нашими противниками, не превратились во врагов отчизны. Да пребудет с вами господь в этом святом деле, да укрепит он вас и направит, чтобы солнце согласия вновь воссияло в потемках души и чтобы утраченные было мир и гармония восстановили братскую общность наших сограждан.