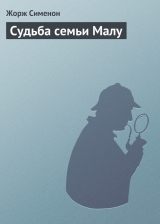
Текст книги "Судьба семьи Малу"
Автор книги: Жорж Сименон
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Глава 8
Они, наверное, проговорили бы всю ночь, если бы им не помешали. Этот долгий разговор в основном представлял собой монолог его сестры, порой напоминающий безобразную сцену на улице, возле дома Фабьена. Об этом долгом разговоре, об этих часах, когда ему беспрестанно приходилось краснеть, он сохранил четкое и в то же время бессвязное воспоминание.
Даже на следующее утро он мог вспомнить лишь отдельные фразы, как вспоминаются темы или ритмы музыкального произведения, и все это смешивалось в его сознании, некоторые темы возвращались к нему, как надоедливые мотивы, помимо его воли, и прогнать их стоило ему большого труда.
Первое, что он увидел, войдя в комнату, был стоявший на полу мельхиоровый поднос с бутылкой и рюмкой. Бутылка с коньяком была наполовину пуста, и ему показалось, что к рюмке не притронулись, а пили прямо из горлышка. На том же подносе валялись раздавленные, еще тлевшие окурки со следами губной помады, и дымок от них поднимался к висевшей на проволоке электрической лампочке.
Почему ему показалось, что этот номер беднее и менее ухожен, чем его комната? Пол был выложен такими же темно-красными плитками, стены так же выбелены известкой, такое же окно с коротенькой занавеской из цветастого кретона.
Железная кровать была черная, покрывало белое, а оба чемодана Корины, закрытые, стояли в углу. Свою мокрую шляпу она швырнула в другой угол, может, даже в бешенстве топтала ее ногами?
Все это он успел разглядеть за одну минуту, так же как и маленькое распятие и цветную репродукцию «Вечернего звона» Милле. Здесь было теплее, чем у него в комнате, и это ему не просто показалось, он понял потом – дымовая труба, которая шла с первого этажа наверх через комнату, была очень горячая.
– И это все, что ты можешь мне сказать! – злобно произнесла Корина, когда она закрыла дверь и увидела, что он стоит посреди комнаты.
Она подошла к своим чемоданам и хотела их открыть, но тут же вернулась за ключом, оставшимся у нее в сумочке.
– Я полагаю, тебе уже все рассказали?
Из чемодана в беспорядке вывалились белье и платье; она вытащила оттуда ночную рубашку, халат, голубые домашние туфли. Не переставая говорить, она сняла через голову черное платье и осталась в розовой комбинации.
– Что именно тебе сказали? Они об этом говорили здесь, внизу?
Он знал, что, прежде чем надеть ночную рубашку, она останется голой, и отвернулся.
– Во всяком случае, по-моему, я ей что-то сломала, этой Мадлене! Ее зовут Мадлена… А знаешь, как эта толе гая жаба заставляет себя называть дома, требует от мужа, чтобы он так называл ее? Очень просто: Шушу… Я назвала ее Шушу, можешь не сомневаться, и я ей сказала, что от нее так воняет, что Фабьен не может спать с ней в одной постели, а горничная каждое утро зажимает нос, когда входит в комнату подать ей первый завтрак…
Он повернулся слишком рано. Она еще натягивала ночную рубашку, которая прилипала к ее широким бедрам, и это совсем испортило ему настроение.
– Можешь сесть. Меня раздражает, что ты стоишь посреди комнаты.
В комнате было только одно кресло, покрытое красным репсом, и он сел в него напротив кровати, куда наконец скользнула его сестра и теперь расправляла под собой перину и зажигала новую сигарету.
Наступило молчание. Уже потом он вспомнил о паузе, показавшейся ему слишком долгой, во время которой они наблюдали друг за другом, причем не украдкой, а почти в упор. Только тогда он заметил, что брови сестры, если бы она их не выщипывала, были бы очень широкими и срастались бы на лбу, у основания носа.
Ожидание становилось невыносимым, и он прошептал:
– Что ты собираешься делать?
– Уж не думаешь ли ты, что я уступлю ей место?
– Что касается места, то я потерял свое.
– Из-за меня?
Он кивнул, а она проворчала:
– Вот шлюха!
– Послушай, Корина…
– Послушай, Ален, если ты пришел читать мне мораль, я сразу же предупреждаю тебя, что ты зря теряешь время. Я знаю, ты всегда был немного наивен, но сейчас не стоит разыгрывать невинность. Эту шлюху я ненавижу, понимаешь?.. И поскольку одна из нас двух должна уступить, то уступит она… Ты, должно быть, думал, что избавишься от меня, что я поеду к маме в Париж. Признайся, ты так думал!.. Так вот! Ничего подобного! Даже если бы я не любила Поля – а я люблю его, – я осталась бы только для того, чтобы позлить ее, только чтобы доказать ей, кто я такая. Если бы ты видел, как эта женщина, якобы хорошо воспитанная, бросилась на меня, выкрикивая ругательства, какие только могла вспомнить… Может быть, я и заблудшая, допустим! Но я люблю Поля! И он любит меня… И не деньгами я держу его возле себя… Ты понимаешь это, наивный дурачок? Ты никогда ничего не понимал, а теперь еще меньше, чем раньше. Если бы ты видел сейчас свое лицо, глаза! Это напоминает мне – скажу тебе сразу же, пока не забыла, что мне написала о тебе мама… Ты-то хоть написал ей?
– В воскресенье.
– Она еще не получила твое письмо. Она не знает твоего адреса… Это она напомнила мне, что ты еще ребенок. Тебе нужен опекун, два опекуна. Ты должен явиться к нотариусу Дебуа, который объяснит, что тебе надо делать. Одним опекуном будет мама, а вторым, вероятно, дядя Жюль. Теперь скажи мне точно, что тебе говорили и что говорят в городе.
– Не знаю. Здесь, внизу, мне сказали, что была сцена между тобой и…
– Между мной и Шушу… А затем?
– Ничего. Еще сказали, что ты здесь, наверху.
– И ты не стал подниматься сразу же. Признайся, тебе было стыдно. Признайся же, идиот! Твои хозяева, наверное, тоже тебе что-то сказали…
– Не прямо. Госпожа Жамине – подруга госпожи Фабьен. По-моему, они с ней говорили по телефону.
– Вот стервы!.. Но увидишь, последнее слово будет за мной. Можешь не сомневаться… Это я должна тебя спросить, что ты будешь делать.
– Не знаю.
– Ты бы лучше поехал к маме.
Он сам удивился, что, даже не подумав, резко ответил:
– Нет.
– Я забыла, что ты ненавидишь и маму.
– Я вовсе ее не ненавижу.
– Ты ее ненавидишь. Ты ненавидишь меня. Только отца ты…
Да, кажется, именно так все началось. Он точно не помнил последовательности. Он не помнил также, что Корина сначала сказала об их отце. Кстати, она говорила не «наш отец», а «твой отец». Словно они не были братом и сестрой.
Она тут же отпила большой глоток коньяка и закурила еще одну сигарету. Она сидела на кровати и, хотя смотрела ему прямо в лицо, казалось, говорила только для себя.
– Не беспокойся, он не рассердится на меня за эту историю, потому что сам привык…
– Привык к чему?
– Ты спрашиваешь, к чему он привык? Да ко всей этой грязи, мой бедный братец-дурачок! Может, ты думаешь, что он не провел всю свою жизнь в грязи? Тебе кажется, что я могла быть другой? Я не забыла, что получила прекрасное воспитание… В лучших монастырях, в самых богатых школах… Правда, время от времени мне приходилось уходить оттуда, потому что мне устраивали невыносимую жизнь. Нет, не из-за моего поведения, а из-за твоего отца. А еще потому, что внезапно наступали дни, когда не было денег. Я только удивляюсь, как ты мог так долго жить в этом доме и ничего не замечать. Ты, конечно, маленький, но не в этом дело. В твоем возрасте я знала больше, уверяю тебя. И отдавала себе отчет во всем. Правда, я не затыкала себе уши, не закрывала глаза. Признайся, именно это ты и делал. Чтобы быть спокойным! Потому что не желал знать! Если ты думаешь, что я этого не поняла… Только папина смерть и все, что за ней последовало, заставили тебя смотреть жизни в лицо. А дальше!.. Что ты решил делать? Ты пошел спрашивать место младшего служащего в какой-то жалкой типографии. И ты, наверное, благодарил, когда тебя выбросили за дверь. Меня, мой милый, за дверь не выбросят, понимаешь?.. Они все воображают, что я сейчас возьму и уеду. Считают, что избавились от меня. А я останусь. И завтра или послезавтра Фабьен придет просить у меня прощения. Будет умолять меня. Будет валяться у меня в ногах. Не стоит объяснять тебе почему, ты опять покраснеешь, как девочка. Я нужна ему. Он не заснет сегодня ночью! Быть может, понадобятся недели, даже месяцы, но уйдет Шушу, а не я. Несмотря на детей! Несмотря ни на что! Несмотря на клинику! И если бы твой отец был здесь, он сказал бы, что я права. Ты думаешь, ему не давали пинков в зад? Не выбрасывали сотни раз за дверь?
– Послушай, Корина…
Но она ничего не хотела слушать. Она говорила и говорила, голос ее становился все более резким и более страстным. Несколько раз за вечер соседи стучали в стены и в потолок, просили ее замолчать, она не обращала внимания…
– Ах так! Значит, я проститутка… А на ком женился наш отец? Я говорю о маме, да… Ты об этом не хочешь ничего знать. Но ты все-таки узнаешь, потому что это необходимо, иначе все будут продолжать над тобой смеяться. Отец тогда еще не был очень богат, у него еще не было таких острых когтей. Он работал в одной газетенке, где ненапечатанные статьи стоили дороже, чем напечатанные. Ты этого тоже не понимаешь? Эта газета занималась шантажом, если тебе так больше нравится. И Доршен, депутат, был ее владельцем. А твой отец очень гордился, что спит с женой депутата. Итак, их обоих застали на месте преступления. Тебе може! быть, интересно, как я узнала эти подробности? Ты не помнишь, когда ты был еще ребенком, пять или шесть лет назад, между нашей семьей и Доримонами произошла ссора… Тут тоже были сценки! Что, однако, не помешало маме поселиться теперь у тети Жанны. Так вот! Эго мне рассказала тетя Жанна. В ту пору она ненавидела нашу мать и на все была способна, чтобы… Знаешь, что Доршен сказал твоему отцу после того, как получил развод: «Теперь, мой бедный друг, она будет сидеть на шее у вас». И она сидела на шее у папы в течение двадцати двух лет. Двадцать два года она держала его в руках, потому что, несмотря на свой унылый вид, эта женщина знает чего хочет. И она получила драгоценности, на которые зарилась. И устраивала приемы, о которых мечтала. И у нее был личный шофер, своя горничная, свой метрдотель… И среди всего этого мы с тобой жили, мой бедный дурачок Ален! Меня одевали, как роскошную куклу, у меня были самые дорогие игрушки. Однажды они, не раздумывая, подарили мне на Рождество лошадь и наняли учителя верховой езды. Но когда я поступила в пансион, мои соученицы через некоторое время стали меня избегать… Им запретили родители. Потому что я дочь Малу! Да ты, как и Шушу, считаешь меня падшей женщиной… Мои любовные истории… Я могла бы всю ночь рассказывать тебе о них. Самое странное, что ты один ничего о них не знаешь. Люди говорят об этом и здесь, и в других местах. О них писали в разных газетенках, вроде той, где начинал твой отец. Свежие деньги! Это было его любимое выражение. У нас всегда не хватало свежих денег, и ты не знаешь, как их добывали в последнюю минуту… Кстати, куда ты дел чемодан с бумагами?
– Он у меня в комнате.
– Придется его у тебя изъять. Ты слишком глуп, чтобы разобраться в них. Ты даже не поймешь… Ну а я отыщу, конечно, способ сунуть их носом в их собственное дерьмо… Тебя от этого коробит? Ты думаешь, что у пас в семье говорили иначе, когда разыгрывалась одна из тех милых ссор, после которых мама переезжала на несколько дней в отель. Ты и этого не знал, да? Идиот! И теперь ты торчишь здесь, как пень, и с ужасом глядишь на меня. Еще немного, и ты присоединишься к клану моих врагов? Всех моих врагов, сколько бы их ни было.
Эти слова Ален слышал от Жозефа Бурга. Но лицо у бывшего каторжника не выражало ненависти. Бург не говорил с такой страстностью.
Ему хотелось бы объяснить все это тем, что Корина пьяна. Но он, к сожалению, прекрасно видел, что, несмотря на это, она была в полном сознании. Она словно избавлялась от груза, лежавшего у нее на сердце, от того, о чем никогда не говорила вслух, разве что изредка, во время ссор с матерью, или, может быть, наедине с Фабьеном.
Он был в ужасе. В памяти у него возникали картины. Вот, например, его сестра, в брюках и сапогах, возвращается с верховой прогулки с хлыстом в руке. У нее еще юношеские, мягкие черты лица, и белокурые кудри, выбивающиеся из-под каскетки жокея.
Он вспомнил роскошные закуски, которыми она угощала подруг, когда он был еще слишком маленьким, чтобы принимать участие в их пирушке, вспоминал всех этих девочек, которым чинно прислуживали метрдотели в белых перчатках.
– Придется сказать тебе, Ален. Видишь ли, мы не такие люди, как другие, никогда не были такими, и те, другие, ненавидят или презирают нас. Особенно те, кто не раз сидел за нашим столом. Те, которым был нужен папа. Они говорили друг другу с легкой многозначительной улыбкой: «Я приглашен на обед к Малу» или же: «Я проведу уик-энд в замке Малу». И после этих слов собеседники обязательно подмигивали друг другу, в дом Малу приходили как на спектакль, приходили, чтобы в домашней обстановке увидеть человека, который считал, что он бог и царь в строительстве, посмотреть на его жену, считавшую себя светской женщиной… Поверь, я не преувеличиваю. Папа разрешил, чтобы в одной газете его называли «императором строительства». Он делал вид, что смеется, но он сам в это верил. Я помню своего рода проспект, который он опубликовал на роскошной бумаге, чтобы разослать официальным лицам и во все мэрии. «Малувиль» – это слово не кажется тебе смешным, а? Малувиль должен был стать лишь первым опытом, образцом того, что еще нужно сделать. Твой отец мечтал обязать по закону все города с числом жителей более пятидесяти тысяч человек строить поблизости от центра город-спутник вроде Малувиля. Ты найдешь этот проспект в чемодане. Там говорится о вертепах, о зараженных проказой пригородах, о необходимости сеять по всей Франции ростки городов будущего. И выполнить это поручалось Малу. Ему разрешили выпустить большой заем, национальный заем. А он, со всеми этими миллионами, сотнями миллионов… Ты не смеешься? Ты даже не улыбаешься? Многие приходили к нам и тоже делали вид, что принимают это всерьез. Потом, после того как перед ними заманчиво засияли эти сотни миллионов, отец у них же занимал несколько тысяч франков, чтобы заплатить метрдотелю, только что обслуживавшему этих людей. А этот же метрдотель порой месяцами не получал ни сантима из своего жалованья… А мои женихи, Ален. Ты не помнишь моих женихов? Ты ходил в школу, в коллеж. Ты возвращался домой и запирался в своей комнате, чтобы заниматься или читать, и, держу пари, ты затыкал уши. За столом у тебя был такой отсутствующий вид, ты так отличался от всей семьи, что я часто видела, как папа смотрел на тебя с удивлением, потом качал головой и вздыхал. В конце концов, это твое неведение, вероятно, было ему больше по душе, ведь ты был его любимцем. Не исключено, что он надеялся увидеть тебя настоящим человеком! По меньшей мере десять раз меня пытались выдать замуж. На возраст жениха не смотрели, уверяю тебя! Лишь бы найти блестящую партию. Либо деньги, много денег, либо титул. Или высокое положение в политических кругах… И ужины следовали за ужинами, и жених был пойман. И это всегда кончалось одинаково. В один прекрасный день он исчезал и больше не появлялся. Что я могла принести в приданое? Тестя, Эжена Малу, и тещу, которая считала себя важной дамой только потому, что у нее были драгоценности и она принимала по двадцать, по тридцать человек за столом!.. Ты не видел родителей, когда они спорили, как разложить возле приборов карточки с именами приглашенных. Какой степени орден Почетного легиона у того или другого? Кто важнее, министр или академик? Мы не приглашали только епископов, потому что епископы и архиепископы народ осторожный. Что ты хочешь, чтобы вышло из такой грязи, скажи? Смотри на меня сколько тебе угодно, словно я чудовище, но вбей себе как следует в голову, что никто из нас не лучше… У меня были любовники, и первый из них был не кто иной, как папин приятель.
– Замолчи, пожалуйста!
– Ничего, тебе придется привыкнуть. Я спала, например, с графом д'Эстье.
Он встал, красный от гнева.
– Корина…
– Ну и что? Сядь! Сиди спокойно! Думаешь, твой Отец стеснялся? Он переспал почти со всеми своими секретаршами, и иногда это проходило не гладко. Он пытался переспать с одной из моих подруг, моей ровесницей…
– Ты лжешь!
– Не хочешь – не верь! Спроси у мамы или у тети Жанны. Спроси у кого хочешь… Конечно, этого не проходят в коллежах, а ты еще смотришь на жизнь, на людей глазами школьника.
Он был в ужасе. Он глядел на нее, не сводя глаз, и отдал бы все, чтобы заставить ее замолчать. И все-таки слушал. Что-то удерживало его в этой комнате, возле этой женщины, которая была его сестрой и которая, чтобы придать себе смелости, время от времени подносила к губам бутылку с коньяком.
– Мы даже не выскочки, потому что у настоящих выскочек есть деньги, а у нас не было ничего, кроме долгов, иначе говоря, мы жили долгами. Как раз поэтому и нужно было пускать пыль в глаза. Твой отец считал, что нужно поражать людей, и не знал, что придумать для этого. Скажи мне, наш дом был когда-нибудь похож на настоящий дом? Ты когда-нибудь чувствовал себя в нем уютно? Разве что в своей комнате! Да, вот еще что. Тебе подсунули вместо кровати какой-то катафалк только потому, что на нем были гербы. Я всегда удивлялась, почему отец сносил капризы мамы, почему не развелся с ней, и, как мне кажется, разгадала причину: во-первых, потому, что она раньше была женой депутата, человека, который был министром и снова мог стать им. А потом, – это, конечно, самое важное, – потому что она была ему нужна, потому что он не был светским человеком, в то время как она в течение нескольких лет, задолго до того, как вышла за него замуж, вела эту жизнь, заполненную приемами, и знала их элементарные правила. А мы, Ален, все-таки внуки нашего деда. И у нас нет ничего общего с людьми, которые нас окружают, нам нечего от них ждать, запомни это. Они ненавидят нас и презирают. Вот почему я не позволю какой-то Шушу одержать над собой верх. Мне повезло, у меня есть то, чего нет у нее…
Она чуть было не сделала непристойный жест, но на полпути остановилась.
– Я воспользуюсь этим и выиграю! Я стану госпожой Фабьен, вот увидишь! Они будут принимать меня, и мне наплевать, о чем они будут шептаться по углам… Знаешь, что делала графиня д'Эстье до того, как вышла за графа? Работала в «Кафе де Пари», и даже не танцовщицей, а просто статисткой. Кстати, отчасти потому граф д'Эстье и вкладывал деньги в дела папы, чтобы тот ограждал его от сплетен в газетах. И все-таки теперь она графиня… Ну что, начинаешь понимать?
Он не ответил. У него кружилась голова. В комнате пахло табачным дымом и коньяком, и в какие-то минуты ему чудилось, что он сам пьян. Иногда его взгляд останавливался на «Вечернем звоне» Милле, и ему казалось, что эти люди, стоящие в поле, сложив руки для молитвы, существуют в мире снов.
Ему чудилось, что все вокруг него темно, что везде, вне стен их комнаты, царят только мрак, холод, мокрый снег.
Он злился на себя за то, что не встает, не защищает своего отца перед сестрой, которая, лежа в кровати, выискивала самые грубые, злые, отвратительные слова.
– Замолчи, Корина, – умолял он.
– Ты вернешься поговорить со мной, когда прочитаешь бумаги из чемодана.
– А как ты могла их прочесть?
– Однажды, когда папы не было дома, я открыла чемодан.
– Ты рылась в его вещах?
– А почему бы и нет?
Он смотрел на нее, пораженный. Он не мог представить себе, что жил рядом с ней, не подозревая, какая она на самом деле.
– Я могла бы тебе еще сказать, что мама солгала: если она так охотно уехала в Париж, то только потому, что увезла львиную долю драгоценностей. Она никогда не позволила бы их продать, поверь! Я ее слишком хорошо знаю. Она с яростью защищала их. Я несколько раз слышала, как твой отец умолял ее позволить ему заложить хотя бы часть, чтобы как-то продержаться.
«А что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится? – отвечала она. – Что будет с детьми?»
И все-таки она нас бросила. Они оба плутовали, этого ты еще не знаешь. Каждый из них пытался сколотить себе маленькое состояние. Не стоит плакать, брось!
– Я не плачу.
У него начиналась простуда, от которой покраснели глаза и покалывало в ноздрях.
Бутылка была пуста, и Корина чуть не попросила брата спуститься вниз и принести еще одну, но время уже было позднее, в доме все стихло. Шаги на улице раздавались редко.
– Ты волен делать что захочешь. Можешь стать служащим, как твой брат, если тебя это привлекает, только предупреждаю, чтобы ты не мешал мне делать то, что мне нравится. Может быть, из всех детей я больше всего похожа на нашего отца. Всю жизнь он с остервенением набрасывался на этих людей. Держу пари, если бы он не был болен, если бы не узнал, что обречен, он продолжал бы… Ты знаешь, зачем он пошел просить денег у Эстье? По-моему, чтобы на эти деньги спокойно умереть в клинике.
– Это не правда!
– Как хочешь. А я все-таки так думаю… И когда он увидел, что даже это невозможно…
– Замолчи, Корина!
Ему хотелось ее ударить. За несколько часов она растоптала ногами все, чем он дорожил до сих пор.
Он вспомнил Жозефа Бурга, который говорил об его отце совсем иное.
После их ночной прогулки по дороге Ален вернулся более сильным; теперь он чувствовал себя мужчиной.
Однако Бург и Корина говорили приблизительно одно и то же, но по-разному, другими словами.
Корина задыхалась от ненависти. Она выплевывала свою ненависть и ею словно пачкала его. Алена тошнило.
Они и не думали о том, который теперь час.
– Даже его болезнь…
Ален чуть было не заставил ее замолчать насильно, так он боялся того, что она сейчас скажет.
– Ты мне не поверишь, но я знаю что говорю. Я долго обсуждала это с Полем. Его рак…
Он открыл рот, чтобы сказать «нет», потому что угадывал, что она сейчас скажет.
– Он был последствием застарелого сифилиса. Он закрыл глаза и сидел неподвижно. Это слово для него было самым ужасным.
– Не бойся за себя. Я узнавала… Я даже пошла дальше, сделала анализ крови, и реакция Вассермана оказалась отрицательной. Это старые дела, понимаешь?
Еще со времен его первой жены. И поскольку ты родился после меня…
На этот раз он плакал. Достаточно было одного слова – слова, которое будет теперь преследовать его всю жизнь. Он склонился к подлокотнику кресла и ждал, положив голову на согнутую руку.
– Ты такой же глупый, как они… Ты спокойно выслушал все остальное, гораздо более важное, а это, какое-то пустяковое слово…
– Замолчи!
Он закричал изо всех сил. Со слезами, текущими по щекам, и искривленным ртом, он стоял и сжимал кулаки. Если бы в руках у него был какой-нибудь предмет, он с яростью ударил бы эту женщину, быть может, убил бы ее.
– Замолчи, слышишь?.. Иначе я за себя не ручаюсь… И, поднеся к ее лицу сжатые кулаки, он тяжело дышал, не в силах перевести дух!
От нее пахло спиртом и никотином. Она была красива и знала это. Но не для него. Он ненавидел это лицо – полные губы, раздувающиеся ноздри, блестящие глаза.
– …проститутка! – закончила она фразу, смеясь. – Нет, правда, это слово ко мне подходит. Шушу только что назвала меня так. Назови же и ты, молодой Малу, сын Малу…
И она так расхохоталась, что жилы на ее шее раздулись от неудержимого смеха.
Он угрожал:
– Замолчи!
А она все смеялась, и этот смех бесил его. Это была не его сестра, это смеялась уже не женщина, это была самка, гнусная самка, которая играючи, с ненавистью, с отвращением облила грязью все, что у него оставалось на свете.
– Замолчи!
В дверь постучали, и он застыл. Смех тоже так неожиданно прекратился, что в комнате вдруг стало очень тихо. Ему пришлось проглотить слюну. Он не мог сразу начать говорить нормальным голосом. Снова постучали, деликатно, но вместе с тем повелительно.
– Кто там? – с усилием спросил он, проведя рукой по волосам.
– Откройте… Это я, Мелани.
С минуту он колебался. Ему показалось, что сестра делает ему знак не открывать, но голос хозяйки гостиницы был такой убедительный, что он машинально повиновался. Он отодвинул узкий засов, выкрашенный такой же зеленой краской, что и двери. Мелани вошла в комнату и сказала:
– Здесь жуткий запах.
Она бросила взгляд на кровать.
– Вы не отдаете себе отчета, что уже больше двух часов ночи и что вы мешаете всем в доме?
– Извините… – пробормотал он.
– Ну давайте, пошли.
Потом он удивлялся той покорности, с которой повиновался ей. Он не посмотрел на сестру. Он забыл взять пальто и шляпу. Он последовал в коридор за тучной женщиной, и ему не показалось странным, что она одета, как днем.
Оделась ли она просто потому, что была не из тех женщин, которые показываются в ночной рубашке? А может быть, она еще просто не ложилась? Слышала ли она их разговор?
Она открыла дверь тринадцатого номера после того, как закрыла комнату Корины, и повернула выключатель.
– Сейчас же ложитесь спать!
Голос у нее был строгий. Строгий, но не злобный. Она разговаривала с ним как с ребенком.
– И вы доставите мне удовольствие, если будете спать, мой милый. Что до нее, то хотите вы или нет, завтра утром она выметется отсюда.
Она оглядела комнату, чтобы убедиться, что у Алена есть все необходимое.
– Хотите, я принесу вам что-нибудь выпить?
– Спасибо.
У него не было больше ни нервов, ни сил. Руки и ноги онемели, голова была пуста. Он стоял посреди комнаты, не отдавая себе отчета, где находится и что должен делать.
Он больше не плакал, но у него еще остался соленый вкус на губах, лоб был горячий.
– Как только я закрою дверь, вы сразу задвинете засов; и если она попытается войти, чтобы снова приставать к вам, я запрещаю вам открывать дверь.
Он обещал кивком.
– Спите спокойно. Спите как можно дольше. К сожалению, у меня нет снотворного…
Она медлила, не уходила. Может быть, ей хотелось положить руку ему на плечо, чтобы подбодрить? Или она, никогда не имевшая детей, хотела бы прижать к своей груди этого худощавого, неловкого парня?
Она повторила, уходя:
– Спите спокойно!
Через перегородку он слышал, как его сестра встала, потом снова улеглась. Щелкнул выключатель.
Когда он лег, то сразу же заметил чемодан и чуть было не поднялся, чтобы открыть его. Но он слишком устал. Голова кружилась. Ему казалось, что он серьезно заболевает, и это как-то его успокаивало. Потому что тогда ему не нужно будет ничем заниматься. Другие возьмут на себя ответственность вместо него.
Он хотел бы долго болеть, лежать в светлой комнате, чтобы сиделка запрещала ему говорить и время от времени приносила бульон или лекарства.
Губы у него распухли. Он чувствовал себя в этот вечер совсем маленьким ребенком и невольно сжимал рукой свою подушку, словно это было человеческое существо, кто-то взрослый, кто взял бы на себя тяготы его жизни.
Только услышав в коридоре дыхание Алена, Мелани удалилась на цыпочках. Она не удержалась и показала язык, проходя мимо соседней двери.







