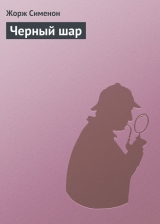
Текст книги "Черный шар"
Автор книги: Жорж Сименон
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Глава 8
Раза два за этот день он чуть было не позвонил Hope – не столько для того, чтобы успокоиться, сколько чтобы попросить ее за ним приехать. Он так растерялся, что всерьез подумывал даже, не позвонить ли доктору Роджерсу. Он, Хиггинс, конечно, не заболел в прямом смысле слова, но разве то, что с ним творится, не хуже, чем какая-нибудь ангина или воспаление легких? Разве не летит вся жизнь под откос? Почему нет людей, к которым можно обратиться в таком вот случае?
Запах старого дома начисто стерся из памяти у Хиггинса, но едва он оказался на лестнице, как этот запах сдавил ему горло. Может быть, когда он был ребенком, тут не пахло так тошнотворно? Нет, скорей всего, он просто не обращал тогда на это внимания, потому что привык. Хиггинс уже злился на Радера, который принудил его к этому нелепому паломничеству в ту самую минуту, когда ему больше всего на свете нужны собранность и хладнокровие.
– Входи, старина. До чего же я рад тебя видеть! Ты знаком с Ивонной?
Ивонной звали женщину, которую Хиггинс видел в окне. Она была растрепана, на блузке не хватало двух пуговиц, и в прорехе виднелась дряблая, нездорового цвета грудь. Чулок на Ивонне не было, из шлепанцев торчали грязноватые лодыжки.
Похоже, она куда меньше обрадовалась гостю, чем ее муж. Не скрывая недовольства, подошла к телевизору устаревшей марки, по которому передавали баскетбольный матч, и выключила его.
– А я себе думаю: что это за тип пялится на окна, будто квартиру снять хочет, и вдруг вижу – да это же ты!
От его воодушевления Хиггинсу стало не по себе. Ему чудилось, что смех у Радера скрипучий, как у Луизы.
Хиггинсу даже пришло в голову – а вдруг, подобно Луизе, Радер нарочно так смеется: показывает, что ему на все плевать, или просто хочет позлить гостя.
Радер был небрит, вероятно, даже не мыт с утра, квартира выглядела запущенной и грязной.
– Уолтер, старина! Присаживайся – такой праздник надо спрыснуть.
Почему Хиггинс не посмел признаться, что не пьет, почему не отказался от выпивки? Круглый стол был покрыт рваной клеенкой с выцветшим рисунком. Коротышка торжественно выставил бутылку итальянского вина, оплетенную до самого горлышка соломкой, и толстые мутные стаканы.
– А я частенько думал: что с тобой сталось? Не каждый день встречаешь старых дружков: все прямо-таки рассеялись по Штатам. Не говорю уж о тех, кто помер.
Твое здоровье!
Его жена тоже взялась за стакан. Вино было темное, почти черное, Хиггинса едва не стошнило от первого же глотка, обжегшего ему горло.
– Роскошь! Это вот, да еще спагетти – лучшее, что нам привезли итальянцы. Кстати об итальянцах. Помнишь Альфонси? Хочешь – верь, хочешь – нет, но он теперь священник и не так давно вернулся в Олдбридж: получил здесь приход. Смех, да и только! Помнишь, как он пристраивался с девчонками за мусорными баками?
Откуда в нем эта потребность ни на минуту не закрывать рот? Комната, где они сидят и откуда Хиггинсу виден противоположный тротуар, служит одновременно кухней, столовой и гостиной. На газовой плите греется рагу; такую мебель, как здесь, увидишь разве что в лавке старьевщика, да и то непонятно, кто на нее польстится.
Но, между прочим, эта комната – почти точное подобие той, где Хиггинс жил ребенком. Только там еще была раскладушка в углу, которую днем убирали.
Сквозь неприкрытую дверь спальни Хиггинс уже заметил водопроводный кран. В его времена такого здесь не было – за водой ходили в коридор. В спальне стояли две кровати, явно не перестеленные со вчерашнего, а может быть и несколько дней. Одна кровать, двуспальная, очень широкая, была из какого-то темного дерева, другая представляла собой просто пружинный матрас на четырех деревянных чурках, застеленный простынями сомнительной свежести и линялым зеленым одеялом.
– Не сказал бы, что ты выглядишь блестяще, но вид у тебя преуспевающий.
Радер как будто оценивал взглядом качество его костюма и ботинок.
– Ну, да и мне жаловаться грех. Правда, Ивонна?
Ивонна тем временем, высунувшись из окна, глазела на улицу. Она хмуро, с раздражением обернулась.
– Чего тебе?
– Я говорю, нам с тобой грех жаловаться.
– На что?
– На житье-бытье. На работе не надрываемся, жрем от пуза.
Она передернула плечами и опять свесилась на улицу.
– Ты еще жил в Олдбридже, когда умерла моя мамаша?
Хиггинс не помнил. Он никогда особенно не дружил с Радером, разве только когда оба были малышами.
После очередного бегства Луизы они перебрались отсюда, и Хиггинс совсем потерял Радера из виду. А тот считает, что они жили, как родные братья!
– Твое здоровье! О чем, бишь, я? Когда мамаша померла, мой старик решил, что сыт городом по горло, и перебрался с шурином вместе в деревню, куда-то в Южную Каролину. Квартирку я за собой сохранил и, ей-Богу, сдается, мы с Ивонной последними выберемся из этой развалюхи. Три года назад власти постановили ее снести, но работы до сих пор не начались, и так оно может тянуться еще долго. Половина жильцов съехала.
Кстати, твоя бывшая квартира тоже пустует, а двери пошли на дрова.
Хиггинс поднял второй стакан. Вино уже не казалось таким омерзительным – от него по всему телу разлилось непривычное тепло. Голова, что ли, закружилась? Во всяком случае, все предметы расплылись, глаза слезились.
«Это от насморка», – подумал он.
– Дети у тебя есть?
Хиггинс кивнул – рассказывать о них здесь ему было неприятно.
– У нас тоже сын на флоте служит. Напомни, я тебе фотографию покажу. Здоровый черт, отца на голову перерос. После его отъезда у нас пустовала одна кровать, вот я и предложил приятелю у нас пожить: он вдовый, один-одинешенек на свете. Ты его не увидишь: по воскресеньям он всегда торчит в баре на углу чуть не до утра, пока не наберется как следует.
Хиггинс никак не мог понять, нарочно Радер все это говорит или вправду не отдает себе отчета в своих словах.
– Ну а я сперва ишачил на газовом заводе, а потом нашел работку как раз по себе. Вожу грузовик, который собирает мусорные баки. Оно, может, на первый взгляд и противно, но скоро привыкаешь. Надрываться не приходится. Каждый день объезжаешь одни и те же места, платят хорошо. Одна беда – рано вставать…
Хиггинс вдруг вспомнил: отец Радера работал ночным сторожем в железнодорожных мастерских. Глаза у него всегда были красные, потому что вечный шум и гам в доме не давали ему днем выспаться. Часто он высовывался, босой, в рубахе, взъерошенный, и швырял чем попало в оравшую на лестнице ребятню.
Коротышка вцепился в Хиггинса мертвой хваткой и битый час трещал о прошлом, о людях, которых Хиггинс забыл, и о тех, кого он отлично помнил, вроде Гонсалеса – его отец зимой работал у печи для обжига извести, а летом возил всю семью на Юг, на сбор хлопка.
– Ты ведь его тоже знал? Он еще, помню, задал тебе такую трепку, что ты потом три дня в школу не ходил.
Хиггинс такого не помнил; может быть, Радер перепутал, и это случилось не с ним, а с другим мальчишкой с их улицы.
– Ты не встречал в прессе его фамилию? Она даже в нью-йоркские газеты попала; там и портрет напечатали.
Не нашего Гонсалеса, а его сынка. Тот в семнадцать лет поехал работать в Филадельфию и в один прекрасный день, оказывается, укокошил там полицейского. Ему дали вышку. Вздернули – и в тот же день его отец, тот самый наш Гонсалес, взял да и перерезал себе горло бритвой. Твое здоровье, брат!
Хиггинс чувствовал, что ему и впрямь дурно, но не смел об этом сказать.
– Из нашего окна все видно как на ладони. Да взять хотя бы сегодняшнее утро. Тут у нас какая-то старая пьянчужка бросилась под автобус. Уж поверь, зрелище было не из приятных. Я сидел у окна и видел все, как вот сейчас – тебя. Ты-то как, нашел свое счастье?
Что тут отвечать?
– Где живешь?
– В Коннектикуте.
– Там, говорят, богачей навалом. Я-то дальше Нью-Йорка никогда не забирался, но меня тянет больше на юг, поближе к солнышку. Ну что, Ивонна, пригласим его поживиться с нами чем Бог послал?
– Обед будет через час, не раньше, – отозвалась она.
– Нет, мне скоро ехать, – сказал Хиггинс.
– У тебя своя машина?
– Да.
– Где ты ее оставил?
– На углу.
– Захотелось взглянуть на дом? Признаюсь тебе в одной вещи – ты-то поймешь. Я здорово к ней привязался, к этой развалюхе, и когда настанет пора сматываться, мне будет жалко, заранее знаю.
Хиггинс попытался выдавить вежливую улыбку, но ему становилось все хуже и хуже. Теперь его словно выворачивало наизнанку.
Ему хотелось скорее спастись бегством, удрать от матери, от Радера, от старого дома, от этой улицы, которая тоже, казалось, вступила в сговор, чтоб всеми правдами и не правдами удержать пришельца. Может быть, старый приятель соврал или ошибся, и Луиза вовсе не бросилась под автобус; может, на нее и впрямь нашло затмение, как предположил врач в больнице. Но теперь, здесь, Хиггинс верил, что с нее сталось бы сделать это нарочно, чтобы принудить сына вернуться сюда.
– Нет уж, ты так не уходи! Еще стаканчик на прощание, и мы тебя отпустим. Выпьешь с нами, Ивонна?
Чем занимаются эти двое целыми днями? Неужели только глазеют на улицу или экран телевизора да валяются на незастеленной кровати?
Ему нельзя увязать в этой трясине, но он чувствует, что увязает все глубже. Тут-то он в первый раз и подумал, что надо позвонить Hope, услышать ее голос, убедиться, что она существует на самом деле – она, дети, их дом.
Все его существо восставало против прошлого, которое вновь пыталось взять его в плен.
– Ей-Богу, Коротышка, мне пора…
– Слыхала, Ивонна? Он сказал «Коротышка», как в старое доброе время!
На лестнице, прежде чем наконец отпустить гостя, Радер предложил:
– Не хочешь взглянуть на свою бывшую квартиру?
Хиггинс с ужасом посмотрел на него и едва не бросился бежать. На улице его охватила такая тоска и растерянность, что он готов был опуститься на первый попавшийся порог и покорно ждать своей участи.
Еще недавно он чувствовал себя старым, но сам не помнит, когда это было. Теперь, наоборот, он снова стал ребенком, который нуждается в помощи. Ему никто никогда не помогал! Еще совсем мальчуган, он уже притворялся взрослым мужчиной и отважно тащил свою ношу.
Он растерялся. Его несет по течению. Доктор Роджерс, образованный, опытный, мог бы, наверно, ему помочь, но Хиггинс стеснялся ему позвонить. Да и что подумает врач, услышав по телефону такое:
– Я в Олдбридже, сижу на пороге какого-то дома на Тридцать второй Восточной улице, и я больше не могу, не знаю, что делать. Приезжайте за мной.
Там, в Уильямсоне, он пошел против сильных мира сего, бросил им вызов, и, конечно, те на него ополчились.
Он не верит в них больше, ни в кого и ни во что не верит, но не в силах оставаться и там, откуда вышел.
Ноги у него подгибались. Во рту горчило, движения потеряли обычную точность: он дважды споткнулся, пока дошел до машины, и с трудом попал ключом в замок.
Надо как можно скорее уехать отсюда, вернуться домой – там он убедится, что на свете есть хоть что-нибудь реальное. При выезде из города Хиггинса опять понесло не туда – его сбивало с толку новое шоссе; добрую четверть часа он кружил на месте, в конце концов поехал в запрещенном направлении по дороге с односторонним движением, и встречные водители то и дело махали ему, требуя дать им дорогу.
Хиггинс вел машину как попало, чудом не столкнулся с грузовиком и лишь тогда, испугавшись, сбавил скорость.
Стемнело, а он еще не добрался до моста Вашингтона. Он сообразил, что за весь день у него не было во рту ни крошки, и причиной его недомогания был, скорей всего, просто голод.
Но даже придорожные рестораны с их неоновыми вывесками приводили его в трепет – он к ним не привык; только миновав добрый десяток их, он наконец свернул к какой-то стоянке.
Он все больше утверждался в мысли, что и Радер, и мать нарочно поступили с ним так. Мысль была смутной, но для него все это было бесспорно, он чувствовал себя жертвой, и на губах его появилась горькая усмешка.
В ресторане у столиков, покрытых клетчатыми скатертями, сидели посетители; мужчины толпились у бара, вокруг которого стоял крепкий запах спиртного.
Может быть, ему не повредит стаканчик виски? Однажды, когда с Норой случился обморок, доктор заставил ее выпить капельку виски. Початая бутылка долго торчала в буфете, прежде чем ее решились выкинуть.
И почему бы не позвонить отсюда жене? Рядом с туалетами Хиггинс увидел телефонную кабину.
– Что будем пить? – осведомился бармен.
Ложный стыд все еще мешал Хиггинсу.
– Шотландское, бурбон, хлебное?
Он заказал наугад хлебное виски, выпил стопку, которую перед ним поставили, запил стаканом воды, который ему тут же подали. По телу сразу разлилось тепло, как тогда, когда он пил у Радера.
В конце концов, может быть, это и есть выход. Судьба сама всем распорядится. Хиггинс достаточно боролся С жизнью один на один – теперь можно сесть на обочине и, так сказать, выждать, пока ему протянут руку помощи.
Нет, он не сядет на обочине. Он вернется домой.
Ляжет спать, а Hope ничего не скажет. Пусть сама разбирается, что к чему. Он долго с ними всеми носился, а теперь устал.
Не исключено, что Радер узнал из окна Луизу и, рассказывая Хиггинсу о происшествии, просто-напросто валял дурака. Не может же он вправду быть доволен собой и своим прозябанием – это ведь жалкая пародия на жизнь! И все-таки он как будто гордится сыном-моряком, гордится, что ест досыта. «Жрем от пуза» – так он, кажется, выразился?
Радер цепляется за отвратительную хибару, пропитанную самой гнусной вонью, какая только может стоять в человеческом жилье.
– Повторим?
Хиггинс кивнул. Ничего другого ему не оставалось, – его стакан уже наполнили из бутылки с металлическим колпачком. И вообще, теперь он не вполне сознавал, что происходит.
Его преследовало ощущение, что ему что-то грозит и надо куда-то спешить. Надо как можно скорее вернуться в Уильямсон, чтобы избежать ужасной опасности.
Какой – он не знает, но чувствует нависшую угрозу.
Однако ему никак не решиться сесть за руль, а тут еще эти фары, возникающие из темноты и летящие навстречу… Ему было страшно. Он огибал Нью-Йорк и ехал теперь по освещенному шоссе, где, казалось, разом собрались машины со всех концов Соединенных Штатов.
Он не желает стать жертвой дорожного происшествия.
Не желает, чтобы его увезли в больницу и заперли в подвале, в комнатушке с выключенным светом.
Еще можно остановиться, позвонить Hope, упросить ее помочь. Она найдет, где одолжить машину, хотя бы у…
Нет! Только не у Карни! Это сразу покажет, какого он свалял дурака. Но тогда у кого же?..
К чему ломать себе голову, когда и без того так ноет в висках? Хиггинс еще раз ошибся маршрутом на развилке двух шоссе и битый час мчался в сторону Олбани, удивляясь, что не узнает дорогу.
Он заметил гостиницу в стиле бревенчатой хижины, вроде дома, в котором родился Линкольн, и зашел туда спросить дорогу. Внутри было тепло. Он снова выпил.
И опять из темноты полетели на него фары. Они то гасли, то зажигались, посылая ему непонятные сигналы.
Его надули не только в Уильямсоне, нет, ему врали с детства, врали все, в том числе родная мать.
О ней не следует говорить дурно: она умерла, а мертвых нельзя упрекать. Впрочем, он никому ничего и не говорит – только думает про себя. Машина с трудом брала повороты, ее то и дело заносило вправо.
Он очень осторожен. Это необходимо. Не-об-хо-димо!
Только бы не проскочить того места, где с шоссе надо свернуть в сторону Уильямсона.
Часы в его машине, наверно, испортились: на них двадцать минут первого; не может быть так поздно. Тут Хиггинсу пришлось срочно остановиться по нужде. Он попытался вызвать рвоту, но ничего не получилось. Тогда он опустился на траву и стал смотреть, как несутся машины.
Нора в конце концов легла, но оставила свет над входной дверью. В половине второго она услышала, как перед домом заскрипели тормоза. Она отодвинула штору, увидела машину у края тротуара и удивилась, почему муж не выходит.
Потом она накинула халат, туфли и побежала на улицу. За стеклом в темноте салона виднелось лицо Хиггинса. Он сидел, как всегда в автомобиле, высоко подняв голову и положив руки на руль.
– Уолтер! – окликнула Нора.
Он не обернулся.
Видя, что он не двигается с места, она распахнула дверцу и испугалась, как бы муж не рухнул на тротуар – Хиггинс так и закачался на сиденье.
– Что с тобой? Что случилось?
Хиггинс посмотрел на нее невидящим взглядом, и в лицо ей ударил застоявшийся запах спиртного.
– Ты выпил? Тебе плохо?
Хиггинс попытался ответить, но не умел выдавить ни звука – только открывал и закрывал рот, как рыба.
Потом попробовал ступить на землю, упал и тихо рассмеялся.
Тащить его жене было не по силам. Он не вставал, даже не пробовал встать, и Hope пришлось разбудить Флоренс и старшего сына.
– Тес! Идите за мной, только тихо.
Дейв, протирая глаза, спросил:
– Что случилось с папой?
– Идем. Снесете его в кровать.
Глава 9
Хиггинс пролежал в постели пять дней. Он позволял себе улыбнуться, только оставаясь один. Как-то раз он сидел, разглядывая в зеркало эту новую улыбку, и его поразило, до чего он похож на Луизу.
Сперва, открыв глаза и увидев, что на будильнике уже полдень, он почувствовал такой стыд, что поскорей зажмурился и снова попытался уснуть. Это ему удалось.
Потом, когда Нора принесла кофе, он пробормотал:
– Прости меня!
И добавил в оправдание:
– Мать умерла.
– Знаю. Я звонила в Олдбридж, в больницу.
– Я заболел, Нора.
– Доктор будет в четыре – я ему тоже позвонила.
Потому и разбудила тебя.
Хиггинс действительно был болен. Потому на него не сердились, а если и сердились, то не подавали виду, говорили с ним ласково. Пульс бился как-то неровно – то часто, то слишком медленно. Иногда грудь сжимали такие спазмы, что ему казалось – он умирает.
Хиггинс смирился. Возможно, это самый лучший выход. О смерти он думал спокойно, почти с удовольствием; представляя себе подробности своих похорон и лица знакомых, когда те будут подходить к его гробу.
Может быть, они пожалеют тогда, что отказали ему в последнем утешении, закрыв перед ним двери «Загородного клуба»?
В другие минуты, под действием прописанных доктором Роджерсом таблеток, он начинал чувствовать себя лучше, и тогда тело и душа словно немели, хотя сознание все-таки не покидало его.
– Как я сюда попал? – спросил он у жены.
– Подъехал к самым дверям и остался сидеть в машине.
– Меня перенесли в дом? Кто?
Она объяснила.
– Они ничего не сказали?
– Поразились, конечно, и малость испугались.
– Флоренс тоже?
Ему было приятно, что дочь беспокоится о нем.
– Я не знала, что произошло, и позвонила в Олдбридж.
Благодаря болезни ему не пришлось ехать на похороны матери. При мысли об этом Хиггинс не мог удержаться от улыбки: наконец-то и он сыграл шутку с Луизой.
– Как там управляются в магазине?
– Мисс Кэролл позвонила в Хартфорд, оттуда прислали заместителя.
– Кто такой?
– Фамилии не помню.
– А как выглядит?
– Брюнет небольшого роста, толстый такой.
– Это Пейтл. Мы знакомы.
Надо полагать, он захворал не на шутку: доктор Роджерс навещал его два раза на дню. Если бы Нора оставила их вдвоем, Хиггинс задал бы врачу свой вопрос.
А стоит ли? Ему теперь ясно, что так не делается. Есть вещи, о которых не говорят.
Своим вопросом он лишь бесцельно шокировал бы доктора, который и так, наверно, все понимает.
Теперь, в постели, он мог спокойно подвести итоги: прошло уже два дня, головная боль и тошнота перестали его донимать. Как раньше по воскресеньям, с утра он вслушивался в домашний, уличный, городской шум. Под действием лекарств все это вместе сливалось у него в мозгу в некую привычную музыку.
Доктору Хиггинс задал только один вопрос:
– Сердце у меня в порядке?
– Будет в порядке, если не приметесь за старое, – ответил Роджерс. Сказал он это мягко, без тени упрека.
Мало-помалу смысл его фразы Хиггинс начал относить не только к спиртному, но и ко многим другим вещам; теперь он понимал, почему Билл Карни проголосовал против него, и не сердился на бывшего приятеля.
Эта мысль еще не созрела. Но Хиггинс был уверен, что набрел на верный путь. Он был не в счет, как говорили в детстве, но лишь потому, что не знал правил игры. В жизни все – игра. А он никак не мог этого уразуметь: то ли начал слишком рано, еще юнцом, то ли слишком уж низменна была среда, из которой он вышел: он же, как издевательски говорила мать, – сын Луизы и этого подонка Хиггинса.
Впрочем, все это не важно. Важно, разумеется, подчиняться правилам, но еще важнее сознавать, что это игра, иначе положение окружающих становится невыносимым.
Ясно? Вот, например, доктор Роджерс наверняка не верит в половину лекарств, которые прописывает, и прекрасно сознает, что больной, которого он обнадеживает, через месяц умрет. Но он же не может сказать это вслух – он должен внушать доверие. Точно так же Билл Карни вынужден делать вид, что его избрали в сенат штата исключительно за его преданность обществу.
Даже сам Оскар Блейр лишь на первый взгляд столб уверен в себе. Он обязан служить для всего города символом успеха и процветания, а на самом деле ему отравляют жизнь неразрешимые проблемы. Будь он счастлив со своей благотворительницей-женой, не пришлось бы ему искать утешения у трижды разведенной м-с Олстон. Она родила ему двоих детей, а он не смеет их признавать. Что происходит, когда он возвращается домой? Что потом говорит детям? И почему с утра до вечера пьет?
Хиггинсу потребовалось много времени, чтобы все это уразуметь. Он был наивен. А когда ему приоткрыли краешек правды, взял да и поднял бунт против всех.
Неужели он предпочел бы вернуться в трущобу, где живет его бывший дружок Радер? Он туда только заглянул – и то мороз по коже пробирает.
Теперь он будет делать все, что от него потребуют.
Даже принесет извинения за скандал в муниципалитете.
Дело упростится тем, что мать его умерла и он вернулся в Уильямсон больным. В среду в еженедельной местной газете появилась заметка о том, что в воскресенье, в Олдбридже, штат Нью-Джерси, в результате несчастного случая скончалась «м-с Луиза Хиггинс, урожденная Фукс, мать нашего уважаемого согражданина Уолтера Дж. Хиггинса», а сам он на почве потрясения болен нервной депрессией.
Возможно, в газете знают всю подноготную Луизы.
Уж наверно оттуда позвонили в больницу, а то и в полицию. Но редакции нет необходимости печатать все как есть, – там знакомы с правилами игры: недаром о причинах его болезни тоже скромно умолчали.
Хиггинс не то чтобы гордился своим решением – временами ему даже становилось стыдно. Стыд, и ощущение пустоты вокруг, и горькое чувство одиночества еще не раз вернутся к нему. Но это неизбежно. Это цена, и ее надо платить. Выбирать не приходится. Никто не властен выбирать. Хиггинсу показалось, что доктор Роджерс каким-то образом догадался, как изменился его пациент. Они точно подмигивали друг другу потихоньку от других.
– Выходит, это и называется стать мужчиной? Если да, то, значит, он оставался ребенком до сорока пяти лет!
– Как дела, па?
Дети приходили к нему в комнату один за другим, в разное время. Изабелла смотрела с любопытством: ей было непривычно видеть отца в постели.
– Тебе больно?
– Нет.
– Тогда почему ты не встаешь?
Арчи заглядывал реже, чем остальные: любые болезни тяжело действовали на него, а беременность матери внушала ему даже какое-то отвращение.
Дейв не особенно ломал себе голову над происходящим: в его крупном мужском теле жил еще совсем ребячий ум. Придет время и для него. Сумеет ли отец дать ему готовый рецепт? Осмелится ли? Скорее всего, нет, – Хиггинс знал, что к этому каждый должен прийти сам.
Что до Флоренс, то она, казалось, недоверчиво выжидала. Она поняла, что в отце произошел перелом, но предпочитала сперва узнать побольше, а потом уже составить собственное мнение.
Почему он никогда не замечал, что дочь презирает его? Из-за того, что до седых волос оставался наивным мальчишкой из бедняков? А ведь она его презирала, он в этом уверен. Но теперь Хиггинс не сердился на нее: довольно и того, что он заключил мир с самим собой.
– Не торопись вставать, – сказала ему Нора как-то утром, увидев, что он стоит возле кровати. – На будущей неделе тебе понадобятся силы.
– А что такое?
– Я выходила из магазина, как вдруг меня догнала мисс Кэролл. Похоже, в понедельник или во вторник к вам нагрянет начальство. Причем не только мистер Ларсен, но и сам мистер Шварц. Они вместе объезжают филиалы.
– Я являюсь на службу.
– Разумеется. Потому я тебе и советую отдыхать.
Возможно, м-р Шварц – прохвост. Хиггинс понятия Не имеет, так оно или нет. Это его не касается. В конце концов, какая разница?
Может, Луиза и впрямь хотела послать ему предостережение, да только ничего у нее не вышло: больше никогда в жизни он не испытает голода, никогда не вдохнет тошнотворный запах дома на 32-й Восточной улице, и семья его никогда не узнает нужды.
А если закружится голова и отвращение комом подкатит к горлу – что ему помешает пропустить стаканчик, как уже случилось однажды и как бывает почти со всеми?
И разумеется, ему теперь не понравится, если кто-нибудь из его подчиненных, например… В самом деле!
Как насчет мисс Кэролл, которую этот новый Хиггинс наверняка разочарует?
Но тут он бессилен. Назад пути нет. И вполне возможно, что, понаблюдав за ним некоторое время, Карни и компания сами придут звать его в «Загородный клуб».
– Ты выглядишь лучше, – заметила Нора, – Я и чувствую себя превосходно.
– Я имею в виду не только здоровье.
– Я тоже.
Интересно, поняла ли она? Спрашивать нельзя. Он еще не уверен, что до нее дошло.
– Теперь я могу признаться, как ты меня напугал.
– Я и сам себя напугал.
Он улыбнулся ей – в его улыбке было обещание.
– Вот увидишь, теперь все будет хорошо.
– Я никогда не жаловалась.
– Знаю.
– Я верю, Уолтер. Я всегда в тебя верила.
Что она хочет этим сказать? Выходит, Нора всегда предвидела, что он станет мужчиной, таким, как другие?
И тогда он придется ей по вкусу, и Флоренс тоже, и всему Уильямсону, и даже самому м-ру Шварцу.
– Ты самый лучший человек на свете.
Это уже другой вопрос – ведь ему, как и всем, приходится платить положенную цену.
Но это касается только его.
