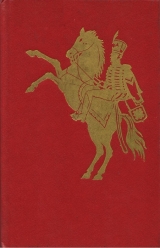
Текст книги "Польская мельница"
Автор книги: Жан Жионо
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Итак, Анаис ждала ребенка. Должно быть, она ошиблась в подсчетах. В конце мая ее очень сильно разнесло, но ничего не происходило. Однако, чтобы избежать любой случайности (как выразился ее муж), было решено отвезти детей в Коммандери, к дяде с тетей. Запрягли догкар, и они уехали вместе с отцом. Старшему, мальчику, было девять лет, младшей, Мари, три годика. Воображение подсказывает мне, что это был день, когда все вокруг зеленело свежей листвой.
Через час Мари уже была мертва. Она подавилась одной из тех крупных и твердых черешен, которые называют «львиным сердцем». Им по дороге встретилась черешня с первыми красными плодами. Мари обрадовалась и закричала, что ей хочется черешни. Пьер готов был для нее луну с небес достать (в малышке была уже красота ее матери). Он сбил несколько черешен концом своего кнута.
Догкар вернулся – лошади, после бешеной скачки, в крови от ударов, – но слишком поздно. Когда стало возможно позаботиться об Анаис, начали искать ее повсюду. В конце концов ее нашли забившейся в бак для стирки, где, валяясь по грязному белью, она в ужасных судорогах пыталась разродиться.
Доктор принялся умничать:
– Всегда нужно спасать мать.
– Мы не нуждаемся ни в чьих подсказках, – отрезала мадемуазель Гортензия.
Потом, когда он уже орудовал как мясник, она прибавила:
– Ну что, выбрали? Кого вы в конечном счете спасаете?
Он и сам этого не знал. Спасенным оказался ребенок: недоношенный мальчик, хилый, с головой, совершенно изорванной щипцами.
Семейство де М. из Коммандери присутствовало на похоронах, но как только церемония закончилась, они исчезли. Пьер получил от своего брата письмо. Несомненно, первое. Я не могу себе представить, чтобы они писали друг другу письма за восемь километров, в деревне, когда так просто запрячь лошадь. Он ему сообщил: «Клара стала как помешанная. Она не хочет больше поддерживать с вами никаких отношений: это ее навязчивая мысль, и ничего тут не поделаешь. А я, если тебе что нужно, то я по-прежнему твой брат, и, если смогу, только чтобы никто про это не знал, я сделаю для тебя все, что в моих силах. Но сам понимаешь: прежде всего я должен позаботиться о жене и детях».
Малыша, который убил свою мать, назвали Жаком.
Мадемуазель Гортензия занялась им. Он вырос тонким в кости и породистым. У него сохранился после родовых травм очень романтический шрам посреди лба. Этот шрам терялся в его черной шевелюре, образуя там вихры. Он был до дрожи похож на Анаис. От нее он унаследовал медлительность взгляда, который подолгу на всем останавливался, но за этой медлительностью было скрыто также то, что досталось ему от отца. Мадемуазель Гортензия скоро это заметила.
Судя по всему, после смерти Анаис мадемуазель Гортензия поселилась на Польской Мельнице. Она вела там хозяйство, вероятно, так, как это часто бывает: не за деньги, а проедая собственные доходы ради управления всеми делами, которое она осуществляла бесконтрольно.
Пьер де М. потерял представление о ходе времени. Жизнь для него остановилась после смерти маленькой Мари. Он лишился всех сил без остатка в ту минуту, когда тряс свою дочурку, как мешок, головой вниз, пытаясь заставить ее выплюнуть черешню. С того времени, как получил письмо от брата, он носил его в кармашке своего жилета и никогда не перечитывал, но часто трогал. Он душился опопанаксом, смачивал волосы, чтобы навести пробор, и каждую ночь ускользал из дома через заднюю дверь.
Старшему сыну достались от отца широкие плечи и его животная чувственность. Это был неутомимый едок, который никогда не мог насытиться.
Жак созерцал. Он не походил на старшего брата. Был послушным, безобидным и очень милым. Он казался неспособным найти хотя бы малейший интерес в будущем, в том будущем, которое мог принести с собой завтрашний день, найти интерес во всем том, чего один лишь шаг в сторону, либо вперед, либо назад позволял достичь, увидеть или почувствовать. У него было ясное лицо, очень открытое, черные кудри, романтичный шрам, великолепная мраморная кожа.
Кажется, он пришел в волнение только однажды. Семейство де М. из Коммандери никогда больше не подавало признаков жизни, но сыновья Клары, Андре и Антуан, были на редкость блестящими молодыми людьми, любимцами всех самых богатых наследниц и королев бала. Как неотразимые кавалеры, они плели сотни интрижек, иные из которых увлекали их, несмотря ни на что, в окрестности Польской Мельницы. И все-таки они всегда выбирали до роги, очень далеко огибавшие эти окрестности. В один из дней Жак, застывший в созерцательности прямо посреди поля, увидел, как по дороге проехал его двоюродный брат. Он не сводил с него глаз и даже повернул голову, чтобы не потерять его из виду.
Польская Мельница почернела одновременно с лицом маленькой Мари; ее сердце перестало биться вместе с сердцем Анаис; страх родился одновременно с Жаком. Зимой, когда небеса низко нависают над землей, в стенах дома наступали иногда мгновения непереносимой тишины, от которой избавляли шаги, голос, постукивание палки мадемуазель Гортензии. Ее гренадерская фигура, огромное лицо, сердитый изгиб покрытой волосками верхней губы, поросячьи глазки с затаенными в них огоньками, которые ничто не смогло загасить, и особенно физическая сила, обнаруживавшая себя в неустанном движении ее ног, в безостановочном перемещении этой горы плоти, хранили дом.
Какое-то время все думали, что Пьер де М. женится вторично, но он искал лишь быстрого удовлетворения, и даже самые хитроумные женщины остались при своих интересах.
Я обнаружил у него признаки душевного расстройства, относившиеся к очень давним временам. Итак, он жил молчком, ни слова не говоря, но как-то утром неожиданно заявился к мадемуазель Гортензии и сказал ей: «Кто, по-вашему, будет следующим?» Она слишком хорошо его знала. И заботливо дала ему время понять то, что он только что выпалил, а потом ответила: «Ты что, выпил лишнего? Или что, ты своим умом додумался сказать такое?»
Он додумался своим умом. Страдание может любому прочистить мозги. Но мадемуазель Гортензия была тогда озабочена в конечном итоге тем подлинным обменом мнениями, который состоялся у нее со старшим братом. Она вдруг заметила его в своей комнате, хотя не слышала, как он вошел. Он держался в тени, и с ее губ едва не слетело имя Анаис. Так разительно этот на три четверти скрытый темнотою мужчина походил на свою мать. Когда он сделал шаг вперед, он опять стал таким, каким и был, то есть уродливым: закованным в латы, в доспехи, в набедренники и нарукавники из собственного жира. Он сразу начал говорить с совершенно неожиданной утонченностью выражений. Между его естеством и его речами не было никакой связи. То был голос незнакомца, жалостливого и чувствительного.
Беседа, однако, обеими сторонами велась с осторожностью. Старший брат не открылся до конца. И все потирал ужасной ручищей свой лоб Минотавра.
«Если бы пришлось кого-то принести в жертву, – под конец сказала себе мадемуазель Гортензия, – то его ли нужно было бы спасать?»
Так или иначе, вопрос был быстро улажен. Старший брат не вернулся после одной из обычных своих прогулок. Это исчезновение наделало много шума. Здесь, у нас, не исчезают. Это иногда печально для всех, но каждый остается до конца. Прошел слух, что он в каком-либо укромном уголке покончил с собой. Его искали. Он объявлялся в разных местах, иногда в одно и то же время. Естественно, всегда это был не он. Все бродяги, кроме самых тощих, были осмотрены жандармами. Кое-кто утверждал даже, что он отыскался в Алжире.
– Алжир? – сказала мадемуазель Гортензия. – Вот только вероотступника нам и недоставало. И при чем во всей этой истории Алжир?
– А если он лишился рассудка? – говорили ей.
– Лишился рассудка? – спрашивала она. – У меня и так уже пропало желание любить его. Не заставляйте меня вдобавок ко всему поверить, будто он стал блаженным.
Этот слух, который не утих, подвергся изменениям, вобрал в себя тысячу разных толкований (люди той поры должны были распространять его с радостью в сердце), тут же помрачил, похоже, рассудок семейству де М. из Коммандери. Во всяком случае, он заставил их внезапно принять решение, имевшее неисчислимые последствия. Решение, которое оставило неоспоримые и строго датированные свидетельства, поскольку они вписаны в нотариальный акт. Ровно через двадцать дней после составления протокола об исчезновении с Польской Мельницы старшего брата и, конечно, в самое горячее время, когда все должны были говорить об этом, усадьбу Коммандери выставили на продажу и продали. Земля предков была продана, как старая несушка! И прежде чем у всех хватило времени понять, что произошло, или хотя бы изумиться, Клара, ее муж и два их сына покинули наши места.
Если к обитателям Польской Мельницы, на которых обрушились несчастья, относились вот уже некоторое время с неодобрением (что вполне естественно), то, похоже, владельцы Коммандери пользовались большой любовью. Их везение создавало противовес этим несчастьям. Они были великолепны, и оба их сына обручены. Невесты ликовали и всюду разносили новость: де М. из Коммандери собираются обосноваться в Париже. Париж обладал большой притягательностью. Их заранее видели принятыми в лучшем обществе. Вот вам люди, которые умеют бороться с судьбой. Они правы, есть только один способ спасения: бегство. Впрочем, теперь для бегства есть железные дороги.
Именно по этой причине де М. из Коммандери, все четверо, были истреблены в один прием. Они погибли в железнодорожной катастрофе версальского поезда, стоившей жизни Дюмон-Дюрвилю.[7]7
Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьен Сезар (1790–1842) – французский мореплаватель и океанограф.
[Закрыть] Так же, как этот знаменитый человек, они были заперты на ключ в деревянном вагоне. На этом коротком отрезке пути испытывали очень быстрые поезда, которые делали больше сорока километров в час. Нужно было принять меры предосторожности против этой скорости, вызывавшей головокружение и даже, как утверждали, приступы помешательства. При отправлении дверцы запирали на засовы с помощью гаек. Тормоз, который разогрелся, поджег деревянную обшивку стен. Еще двадцать человек, кроме наших, сгорели заживо.
Всеобщее возмущение охватило кантон. Судьба Костов приобретала историческое значение. Прежде всего было доказано, что она не подвержена никаким изменениям, что она может на некоторое время показаться усыпленной, но роковым образом наносит свой удар всегда, в ту или иную минуту; затем доказано было, что ничто не может ей противиться: ни версальский поезд, ни сам Дюмон-Дюрвиль, то есть ни наука, ни личное мужество; наконец, что она достаточно жестока, чтобы обречь на смерть не только тех, кто близко соприкасался с Костами, но даже тех, кто случайно оказывался поблизости в то мгновение, когда она решалась их сразить. Эта последняя констатация всех повергла в ярость. Не таясь говорили, что это не игрушки. Здесь, у нас, со страхом не шутят никогда. Это чувство, к которому относятся с очень большой серьезностью. Здесь способны на стойкость, но не на отвагу. Невыносима была сама мысль о том, что тебя могут так сильно подставить. Кто мог быть уверен, что никогда не окажется «рядом с одним из Костов»? Опасность грозила всем. Очень основательно обсуждали, не пойти ли и не поднять ли шум на Польской Мельнице, чтобы заставить последнего свойственника и последнего потомка Коста (Пьера де М. и его сына Жака) прикрыть лавочку и убраться отсюда подобру – поздорову, вернее будет сказать – послать их куда подальше. От этого удержались, но не потому, что де М. были в глубоком трауре, а из тех соображений, что эта затея как раз и подвергала страшной опасности всех, кто тем самым приблизился бы к эпицептру рока. Все были согласны на то, чтобы Костов прогнать, но никто не хотел взяться за топор из опасения получить удар молнии через топорище. Рассказывали, что вид версальских трупов, скрюченных и обугленных, был ужасен, что знаменитый путешественник, спасшийся от бурь, хищных зверей и зулусов, потерял весь жир, подобно жаркому, сорвавшемуся с вертела, после того, как случайно разделил судьбу Костов. Говорили еще, что Клара, сделав усилие, чтобы разбить стекло ударами головы и в последний миг освободиться, была распорота, от горла до живота, огромным куском стекла и что она поднялась, когда смогли к ней приблизиться, с сердцем, черным как сажа. Они привирали. Но когда привирают настолько виртуозно (такое у меня сложилось впечатление), это значит, что хотят подыскать себе достойные оправдания. Очень похоже, что в городе тогда царил страх, сравнимый с тем, какой бывает во время эпидемии, с той лишь разницей, что эпидемия имела собственную фамилию и прогуливалась на двух ногах, столь же хорошо видимая, как вы или я. Брань в адрес холеры не дает никаких ощутимых результатов, и все-таки ее ругают; иными словами, никто не упускал случая осыпать Костов оскорблениями. Никогда папа римский не провозглашал более действенного отлучения, чем то, которое провозглашено было инстинктом самосохранения.
Когда я заинтересовался этой историей, я поискал и нашел старые номера «Газетт» и «Насьональ», заполненные страшными рисунками и статьями, весьма подходящими, чтобы заставить задуматься обывателей и даже благороднейших из людей. Нагромождения трупов и деревянных обломков, балласт, пропитанный кровью, мумии кочегаров, сгоревших, как факелы, мертвые тела, в которых отныне нельзя было отличить адмирала от проводника, – все это никто здесь не относил на счет пресловутого разогревшегося тормоза; все возлагали ответственность за них на плечи Костов. Вычитывали в газетах только то, что было между строк. Было свыше человеческих сил смотреть на эти газетные рисунки и сознавать: Польская Мельница находится всего в восьмистах метрах и там есть еще два Коста, способных в любую минуту навлечь на вас подобные ужасы. Обнаруживаются следы этого единодушного мнения в досье, которое до сих пор хранится в префектуре и набито доносами, обвинениями, жалобами – всегда анонимными.
Если судить по их числу, различиям в почерке, в стиле, в орфографии, в форме изложения, надо было, чтобы весь город и даже вся округа занимались этим. Я далек от подозрений, что мои сограждане, в которых мне доставляет удовольствие распознавать черствость чувств и преднамеренную холодность, способны, пусть даже в последней крайности, если и не тронуться рассудком, то, во всяком случае, удариться в поэзию. Но один из них написал строки, которые я считаю в известной мере достойными восхищения: «Я опасаюсь смерти, принесенной звездою!»
Напав однажды на след анонимных писем, я удивился, что не подумал раньше о столь естественном проявлении чувств. Мне не понадобилось много усилий, чтобы найти и другие письма в старых бумагах нашего полицейского участка. Эти письма, должен признать, написаны были в ином жанре. Непристойные до последнего предела, они исходили от людей, для которых во всей иерархии чинов не существовало более высокого начальника, чем комиссар полиции.
Вместо того чтобы мыслью блуждать среди звезд, они доводили до сведения этого должностного лица факты, скромно отнесенные к его ведению. Они разоблачали в них мерзости Пьера де М. Похоже, он волочился за непотребной женщиной. И что он вкладывал в это занятие, до той поры не считавшееся предосудительным, такой пыл, который, если только он не был придуман, действительно наводил на размышления. И даже на большие размышления, поскольку не было ни единой жалобы от пострадавших. Итак, в отношении некоторых упомянутых женщин письма сообщали правду, и молва это подтверждает, ибо факты имели место среди бела дня, никто ничего не скрывал и доносчики ломились в открытую дверь. Они только добавляли грязи к тому, что и так включает в себя естественную и небольшую, но ощутимую ее дозу. Досье комиссара содержало также самые дикие обвинения в адрес мадемуазель Гортензии, которая продолжала жить на Польской Мельнице. Если я не ошибся в подсчетах, ей должно было в то время быть около семидесяти пяти лет. Так или иначе, когда кого-нибудь обвиняют в чудовищных делах, я по опыту знаю, что никогда не следует говорить «не может быть». Невинных не бывает. Это только мое мнение, но я его придерживаюсь. А значит, я приложил усилия, чтобы получше изучить подоплеку всех вещей.
Общеизвестно, что представляют собой описания характеров, полученные из вторых или даже третьих рук. События, о которых я рассказываю, совершились задолго до того, как я оказался в состоянии осмыслить подлинные факты, то есть до того, как я оказался в состоянии не торопясь взглянуть на эти факты через свой лорнет, как я делал это впоследствии.
Вот что я знаю и могу поведать. Сразу после катастрофы версальского поезда Польская Мельница выглядела пораженной насмерть. Слуги собрали вещички и разбежались. Осталась лишь одна старая кормилица Жака. Она, судя по тому, что о ней говорили, была крестьянкой, с лицом, начисто лишенным мысли, но просветленным. Похоже, она единственная из всего поместья продолжала поддерживать хоть какие-то отношения с внешним миром. Отношения, сводившиеся к покупкам, которые она делала. Торговцы прожужжали ей уши своими наставлениями и даже объявляли ей бойкот: она продолжала поступать по-своему. Тем более что бойкот торговцев – это всего лишь то, что называют дурным настроением; ее, впрочем, продолжали обслуживать и получать от нее денежки. Все земли Польской Мельницы оставались под паром. Продавали скотину.
Факт симптоматичный и могущий дать представление о состоянии духа, в котором пребывали наши главные действующие лица: есть свидетельства об одном процессе, затеянном против Польской Мельницы владельцами виноградников, граничивших с имением. Они утверждали, что запустение земель и хозяйственных построек фермы настолько полное, что там кишат разные твари, которые и причиняют им значительные убытки. Говорили о стаях крыс и даже барсуков, будто бы прорывших норы до самого крыльца парадной террасы. Но мое внимание привлекла одна деталь, которую я никогда и нигде больше не встречал. В самом деле, истцы сообщали, что все плоды в их яблоневых садах и весь урожай их виноградников уничтожаются до семечек и косточек бесчисленными роями ос, устроившими себе гнезда на всех окнах и на всех дверях, которые на Польской Мельнице уже больше и не открывают. Далее действительно следуют показания полицейских, комиссара и жандармов, которые, как они заявляют, не смогли и близко подойти к фруктовым садам. Я воображаю себе представителей власти, повергнутых в ужас этими золотистыми жужжащими тучами. И вся округа, как рой насекомых, кружила вокруг судьбы Костов. А сами Косты? Или, по крайней мере, двое из них, которые уцелели: что делали они в самой гуще этих туч?
Можно предположить, что, несмотря на приписываемое ему могучее сложение и полнокровие, Пьер де М. довольствовался лишь одной непотребной бабой, за которой и увивался. В самом деле, все посвященные ему легенды разрабатывают именно этот сюжет. Между тем мы видели, как один или два раза он действовал таким образом, что это заставляет думать о некотором изяществе его ума, в частности в вопросе о тварях, которыми кишели фруктовые сады. Он писал (его письмо имеется в досье): «Мой долг состоит в том, чтобы назначить себя егермейстером охоты на моих собственных землях и самому избавить мир от нечисти». Его письмо, написанное детским почерком, но очень старательно, дохнет на вас свежестью, если вы пробежите глазами все предшествующие мерзопакостные бумаги. Признаюсь, что особенно меня тронуло слово долг и выражение «самому избавить мир от нечисти». Это великодушно.
По моим представлениям, он был толстяком-деревенщиной, неотесанность которого создалась из-за длительной передачи по наследству счастья, из-за пользования безграничным изобилием сытной еды, она создалась простой мудростью, ограничивающей желания лишь самыми доступными; он был неотесан, как скала; все у него было на месте, и сам он представлял собой великолепный механизм по переработке питательных веществ, да и не стремился к большему. Нельзя сказать, чтобы он задумывался над этим, но он чувствовал, что его долг состоял в том, чтобы просто быть, ибо отнюдь не случайно он употребил слово долг в своем письме; он был человеком долга: человеком долга, и никем иным.
Мадемуазель Гортензия напрасно так говорила: мало быть лишенным всякого духа предприимчивости, чтобы сохранить неизменным владение, подобное Коммандери, в течение восьми веков. Нужна тяжеловесность; нужно быть трудным на подъем. А ведь именно чувство долга придает тяжеловесность. (Разумеется, речь здесь идет о том единственном долге, ради которого я согласен даже выставить себя на посмешище, то есть о долге по отношению к самому себе.) Это чувство может очень хорошо создавать счастье других людей; оно его и создает. Пьер де М. сделал то, что должен был сделать, для Анаис. Он сделал то, что должен был сделать, для маленькой Мари, когда сбил черешни кнутом и даже когда тряс малышку головой вниз, чтобы заставить ее выплюнуть черешню. Он был, возможно, в одном миллиметре от удачи, кто знает? После этого, по всей очевидности, он больше не был в своей стихии, которая представляет собой абсолютную уверенность, безоблачный мир, где в течение восьми веков разум его предков и его собственный были погружены в спячку. Внезапно этот замок Спящей красавицы был взят приступом. Как вы хотите, чтобы он выстоял? Еще до того, как проснуться, он был обезоружен, изранен и обездолен. Он ненавидит Жака, который убил своим рождением мать, – но ненавидит как человек долга. Ему не нравится ни его присутствие, ни его вид, ни его взгляд, ни сама его жизнь. С этой стороны он может иметь одни лишь горести. Он их терпеливо сносит. Старший сын дает ему их больше. Он не обманывается насчет того, чего следует от него ожидать. Обжорство сына ему понятно, он знает, откуда оно и что оно силится мало-помалу сделать: достичь тяжеловесности подручными средствами, вернуть себе неподатливость. Но, даже не обращаясь к рассудку, он знает, что этого добиваются не таким способом. Исчезновение старшего сына, следовательно, не застает его врасплох: он его ждал. Смерть семейства де М. из Коммандери оставила его равнодушным, поскольку в то время, когда она случилась, он, в первый раз после гибели Анаис и Мари, как раз раздумывал над одной вещью, которая его сильно занимала.
Те, кто принимает Пьера де М. за простого болвана, ошибаются. Я согласен с вами в том, что он берется за учебу слишком поздно, но он за нее берется. Он находится на школьной скамье. Шлюхи, за которыми он приударяет, представляют собой довольно милое упражнение в стиле, если уделить ему внимание. Поставьте кого-нибудь из десяти или двенадцати его предков по мужской линии на его место, что он будет делать? Он станет копить силенки; это закон семьи. Именно за счет силенок они и сохранили свое владение. Покопайтесь, и вы обнаружите, что все они умерли от апоплексии, и я добавлю от себя без боязни быть опровергнутым с помощью фактов: от апоплексического удара. Наиболее чувствительные – я хочу сказать, те, душа которых находила усладу в следовании порывам плоти, – дошли, быть может, до болезни суставов или подагры, но до любви – никогда. У них не бывает страстей, у них случаются болезни, которые занимают их место.
Именно болезнь сообщает их крови предрасположение к тому, чтобы проявить мужество, ненависть, трусость, ревность: все необходимое, чтобы позабавить честной народ. Сами они не забавляются никогда.
Пьер де М. вдруг прибегнул к противоположному методу. Я не возьму на себя смелость утверждать, будто он любил Анаис, хотя женщина эта обладала необычайной красотой. (Если эта красота была ловушкой судьбы, то она не достигла цели; орудием Бога была мадемуазель Гортензия.) Красота не имела над ним власти; то, чего он желал, с таким же успехом могло предоставить ему и уродство. Но он любил маленькую Мари (именно на этом рок смело построил свою игру). В крови Пьера де М. возникло предрасположение к страсти, и Пьер де М. сказал себе: «Я заболел».
Я убежден: вместо того чтобы впасть в отчаяние, он пустился во все тяжкие, как все де М., которые имели ревматические боли до него. Он обратился к девкам, как чахоточный обращается к пианино или к поэмам. Я очень хорошо представляю себе шлюх, которыми он должен был заняться, хотя об иных из них сохранилось воспоминание как о крепко сбитых бабах, но все же мужик весом в девяносто килограммов, имеющий у себя за спиной восемьсот лет покоя, по-иному впадает в меланхолию, чем сорокакилограммовые холерики. Он нуждается прежде всего в хорошем кровопускании, ему надо время от времени ставить себе отнюдь не зажигательных пиявочек, после чего он может вертеться, как захочет, под ударами фортуны.
Я пытаюсь разобраться с простофилей, у которого нет души и в котором страсти (по примеру болезней) обусловлены, в большей или меньшей степени, мочевиной, солями или же сахаром в крови; в большей или меньшей степени – расслаблением нервных волокон. Я сужу о Пьере де М., умершем задолго до моего рождения, по образчикам, которые впоследствии имел перед глазами.
Какое-то время он считал, что недуг, в который повергли его трагические события, отныне станет мешать ему наслаждаться жизнью. Потом заметил, что есть возможность приспособиться ко всему. Я склонен думать, что с ним все происходило так же, как с другими де М., жившими до него. Они не пали под ударами «рока», но некоторых из них разбил паралич.
Он нашел применение жизни, которую оставил ему рок, как его предки находили применение жизни, которую оставлял им их паралич.
Слухи (всем, однако, известно, из чего они слагаются через какое-то число лет) рисуют его красным, как петушиный гребень, с отталкивающей внешностью. «Сочащийся похотью через все поры», – сообщают они. Это не первый знакомый мне мастодонт, выделения потовых желез которого разнуздывают воображение. Я наделен, как должно было уже понять, такой умственной ориентацией, которая не позволяет мне никому верить безоговорочно, ни в хорошем, ни в плохом. Давным-давно я не зачисляю в монстры ни из-за ширины плеч, ни из-за обильного потоотделения. Мне знакомы монстры щуплые и непотливые, которых считают вполне пристойными людьми.
Я сомневаюсь, чтобы истинные желания этого тела могли заставить его потеть. Пьер де М. – почти святой. Даже небольшой широты взглядов было бы достаточно, чтобы немедленно это открыть. Доказательство, что я не ошибаюсь (если нужны доказательства), в том, что, как очень скоро все могли убедиться, он бросил женщин, чтобы прибегнуть к более быстродействующему способу траты сил. Он обратился к спиртному. Он ухватился за него с необузданностью и весельем, которые не лишены величия.
Он благородно начинал с пол-литра коньяка. Он поспешил привыкнуть к этой дозе. Быстро пришел к тому, чтобы потреблять литр и даже больше в день. И еще ему удалось налить себе кровью глаза. Зрачки, которые были у него лазурной синевы, погруженные теперь в роговицу самого насыщенного пурпурного цвета, выглядели на его лице как два больших куска цветного витража. Он бесцельно бродил, несгибаемый, как правосудие. Словно он аршин проглотил.
Мадемуазель Гортензия, казалось, отнеслась ко всему очень легко. Может быть, ее умственные способности ослабли. Я говорю «может быть» потому, что, на мой взгляд, нельзя исключить присутствия у нее задней мысли. Анонимные письма, понятно, обвиняют ее в мерзком блуде, и аноним всегда до крайности наивен. Мысль, которая приходит мне в голову (и которую она вполне способна была иметь), ужасна, но домашняя жизнь семей и схватки, которые там протекают в замедленном темпе, правильны, как кристалл льда, и лишены всякой жалости. Если бы пожелание смерти убивало, то наши столовые, спальни, наши улицы усеяны были бы трупами, как во время чумы.
Не такой женщиной была мадемуазель Гортензия, чтобы всю свою жизнь (которая коротка) возиться с девяностокилограммовой тушей де М., окажись он у нее на дороге. Очень похоже, что долгое время все внимание и заботы мадемуазель Гортензии были направлены на Жака, которого, по ее словам, она приняла в свой передник и обтерла своим платьем. Кроме того, он был милым, свеженьким, юным и трогательным в своей мужской красоте, а грозивший ему рок прибавлял к этой красоте полный сочувствия интерес, которому не в силах противиться ни одна женщина.
Жак был восхитительной ловушкой любви, которой мадемуазель Гортензия не могла избежать. Аноним смутно понимал, что речь шла о темном деле с внутренностями и с органами, о которых он, как всегда, имел что сказать, но он отстал от хода событий. Материнская страсть, и ничто иное, заставляла мадемуазель Гортензию плести свои интриги. Я не верю в угасание умственных способностей старой девы. Я убежден, что почти полное одиночество, в котором она замкнулась, сопряжено было с постоянной настороженностью. Даже когда она закрывала глаза и задремывала возле очага, мне нравится воображать себе, что и тогда она всего лишь подражала старикам и разыгрывала комедию для своего окружения и что она таким образом защищала укромный уголок, откуда руководила своей битвой. Если в начале своего знакомства с Костами она бросила вызов року из потребности себя ему подчинить, то я уверен, что теперь она продолжала бросать ему вызов своим подчинением общим законам и что она сражалась ради счастья своей жизни. Она, естественно, использовала ужасные виды оружия, и даже запрещенные. Если бы ее в этом обвинили, она первая прямодушно спросила бы: «Запрещенные кем? И почему?»
Жизнь (вдали от центров) не позволяет следовать велениям совести. Надо идти прямо к цели.
Вот почему мадемуазель Гортензия не потрудилась выказать печаль или удивление, когда в один прекрасный день Пьер де М., связанный и буйствующий, был уложен на соломенную подстилку двухколесной тележки и отвезен в больницу. Через два дня были подписаны все официальные бумаги, чтобы он был временно помещен в департаментский приют для душевнобольных. По мнению доктора и всех остальных, это временное помещение было пожизненным.
Мадемуазель Гортензия рассчитала правильно. Польская Мельница казалась очнувшейся ото сна. Почти сразу после заключения отца в сумасшедший дом Жак начал проявлять инициативу. Он стал разводить охотничьих собак.
На собственность его пропавшего брата, следов которого так никогда и не нашли, был наложен секвестр. Наследство от де М. из Коммандери, запутанное, как клубок шерсти, с которым поиграл котенок, кормило и поило слишком многих, чтобы можно было рассчитывать уладить это дело. Что касается наследства от Пьера де М., то вопрос о нем нельзя было и поднимать; сумасшедший, но живой, он стоил денег, а не приносил их.








