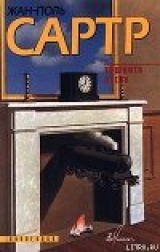
Текст книги "Детство хозяина"
Автор книги: Жан-Поль Шарль Эмар Сартр
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Господин Флерье объяснил Люсьену, как функционирует завод. Он обошел с ним основные корпуса, и Люсьен долго наблюдал, чем занимаются рабочие. «Когда я умру, – сказал господин Флерье, – ты должен будешь быстро взять на себя все управление заводом». Люсьен пожурил его и попросил: «Папа, дорогой мой, не говори, пожалуйста, об этом!» Но в последующие дни он был очень серьезным, думая об ответственности, которая рано или поздно должна лечь на его плечи. Они подолгу беседовали об обязанностях патрона, и господин Флерье доказал ему, что собственность – это не право, а обязанность. «Они морочат нам голову своей борьбой классов, – сказал он, – как будто интересы хозяев и рабочих противоположны! Возьми мой случай, меня, Люсьен. Я мелкий хозяин, тот, кого на парижском жаргоне называют „лавочник“. Пусть так, но у меня на руках сто рабочих с семьями. Если дела у меня идут хорошо, то прежде всего это выгодно им. Если же я буду вынужден закрыть завод, все они окажутся на улице. Я не имею права плохо вести дела, – сказал он с силой. – Именно это я и называю классовой солидарностью».
Более трех недель все шло хорошо; он почти не вспоминал о Бержере, он его простил и надеялся на то, что никогда в жизни больше его не увидит. Иногда, меняя рубашку, Люсьен подходил к зеркалу и с удивлением смотрел на себя. «Мужчина желал это тело», – думал он. Он медленно проводил руками по бедрам и думал: «Мужчину волновали эти ноги». Он брал себя за талию и жалел о том, что он не может раздвоиться так, чтобы тот, другой, мог ласково гладить его тело, как шелковую ткань. Подчас он сожалел о своих комплексах: они были прочными, весомыми, их огромная темная масса утяжеляла его. Теперь с этим покончено, Люсьен больше не верил в них и ощущал какую-то мучительную легкость. Впрочем, это не было так уж неприятно, это скорее было некое, вполне терпимое, хотя и немного противное, разочарование, которое в крайнем случае могло сойти за скуку. «Я ничто, – думал он, – но это потому, что ничего меня не запачкало. А вот Берлиак погряз в пороках. Я вполне могу вынести эту слабую неуверенность: это плата за чистоту».
Как-то на прогулке он присел на холмик и подумал: «Я проспал шесть лет, а потом в один прекрасный день вылупился из своей скорлупы». Он был полон жизни и с радостным видом оглядывал пейзаж. «Я создан для действия!» – сказал он себе. Но в одну секунду его тщеславные мысли потускнели. Он произнес вполголоса: «Пусть они немного подождут и увидят, чего я стою». Он говорил с уверенностью, но слова отскакивали от него, как пустые скорлупки. «Что у меня есть?» Он не хотел признавать этой странной тревоги, она принесла ему слишком много страданий в прошлом. «Есть эта тишина… эта земля…» – подумал он. Вокруг ни души, только кузнечики, которые с трудом волочат по пыли свои желто-черные брюшки. Люсьен ненавидел кузнечиков, потому что они всегда казались полудохлыми. По ту сторону дороги к самой реке сползала сероватая, изможденная солнцем, потрескавшаяся песчаная равнина. Никто не видел и не слышал Люсьена; он вскочил, и ему померещилось, что его движениям ничто не мешает, даже сила притяжения. Сейчас он стоял во весь рост под занавесом серых облаков, и казалось, будто он существует в пустоте. «Эта тишина…» – думал он. Это было большее, чем тишина, это было ничто. Равнина вокруг Люсьена была необыкновенно спокойная и инертная, бесчеловечная. Казалось, что она съежилась и затаила дыхание, чтобы не беспокоить его. «Когда артиллерист из Метца вернулся в гарнизон…» Звук на губах погас, как пламя в пустоте; Люсьен без тени и эха был один среди этой слишком неприметной, какой-то невесомой природы. Он встрепенулся и попытался восстановить ход своих рассуждений: «Я создан для действия. Во-первых, меня не сломить: я, конечно, могу делать глупости, но это не имеет больших последствий, потому что я умею взять себя в руки». Он подумал: «У меня есть нравственное здоровье». Однако он замолчал, скорчив гримасу отвращения, настолько нелепым показалось ему рассуждать о «нравственном здоровье» на этой выжженной добела дороге, которую переползали подыхающие насекомые. Взбешенный, Люсьен наступил на кузнечика; он ощутил под подошвой крохотный упругий шарик, а когда поднял ногу, кузнечик еще шевелился. Люсьен плюнул на него: «Я в смятенье. Как и в прошлом году». Он стал думать о Винкельмане, который называл его «козырным тузом», о господине Флерье, который относился к нему как к мужчине, о госпоже Бесс, что сказала ему: «И этого парня я называла когда-то куколкой, а теперь не осмелюсь даже назвать его на ты, так он меня пугает». Но они были далеко, очень далеко, и ему казалось, что настоящий Люсьен исчез, а осталось лишь его какое-то бледное и растерянное подобие. «Кто же я?» Километры и километры песчаной равнины, плоской, потрескавшейся почвы, без травы, без запахов, и вдруг откуда-то из этой сероватой корки торчит спаржа, такая странная здесь, что у нее даже нет тени. «Кто же я?» Вопрос остался тем же с прошлогодних каникул, казалось, он поднимал Люсьена на том месте, где он его оставил; или, точнее, это был не вопрос, а состояние души. Люсьен пожал плечами. «Я слишком сложный, – подумал он, – и чересчур копаюсь в себе».
В последующие дни он попытался больше заниматься самоанализом: он хотел, чтобы его завораживали вещи, и подолгу рассматривал подставку для яиц, кольца для салфеток, деревья, витрины; он очень польстил матери, попросив ее показать ему столовое серебро. Но, пока он разглядывал серебро, он думал о том, что разглядывает серебро, а где-то, позади его взгляда, трепетало живое облачко тумана. И напрасно Люсьен погружался в разговор с господином Флерье, этот густой и стойкий туман, чья непроницаемая невесомость обманчиво напоминала свет, скользил позади внимания, с которым Люсьен вслушивался в слова отца; этим туманом был сам Люсьен. Время от времени Люсьен с раздражением переставал слушать и оборачивался, пытаясь схватить этот туман и в упор взглянуть на него; но перед ним была пустота, а туман опять оказывался позади.
Жермена в слезах прибежала к госпоже Флерье: ее брат заболел бронхопневмонией. «Бедная моя Жермена, – сказала госпожа Флерье, – вы же всегда говорили, что он такой крепкий!» Она дала ей отпуск на месяц, а вместо нее взяла дочь одного рабочего с завода отца – семнадцатилетнюю Берту Мозель. Это была малышка с белокурыми косами, которые она венком укладывала на голове, она слегка прихрамывала. Поскольку она была родом из Конкарно, госпожа Флерье попросила ее носить кружевной чепец: «Так будет гораздо изящнее». С первых же дней, когда она видела Люсьена, в ее больших голубых глазах отражалось робкое и страстное восхищение, и он понял, что она его обожает. Обращался он к ней запросто и часто спрашивал: «Вам у нас нравится?» В коридорах он забавы ради старался сталкиваться с ней, чтобы посмотреть, какое впечатление это на нее производит. Но она вызывала в нем чувство нежности, и он черпал в этой любви драгоценную моральную поддержку; он часто не без волнения думал, каким он видится Берте. «Я ведь совсем не похож на тех молодых рабочих, с кем она водится». Под каким-то предлогом он заманил Винкельмана в людскую, и тот нашел, что она девочка хоть куда. «Ты везунок, – заключил он, – на твоем месте я бы ее трахнул». Но Люсьен не решался: от нее пахло потом, а ее черная блузка под мышками была в грязных подтеках. Одним дождливым сентябрьским днем госпожа Флерье уехала на автомобиле в Париж и Люсьен остался один в своей комнате. Он прилег на постель и принялся зевать. Ему казалось, что он капризное и летучее облако, и неизменное, и переменчивое, чьи края вечно размыты в воздухе. «Я задаю себе вопрос: почему существую?» Вот он лежит в комнате, переваривает пищу, зевает, слышит, как по стеклам барабанит дождь, в голове у него клочья белого тумана, ну а что дальше? Его существование было скандалом бытия, и вся ответственность, которую он позднее возьмет на себя, едва ли оправдает это существование. «В конце концов, я не просил, чтобы меня родили», – сказал он себе. И он испытал прилив жалости к самому себе. Ему вспомнились его детские страхи, его долгая дремота, но теперь они представились ему в совершенно новом свете: в сущности, его всегда затрудняла жизнь, этот громоздкий и бесполезный подарок, который он держал в руках, не зная, как с ним быть и куда поставить. «Я потратил свое время на сожаления о том, что родился на свет». Однако он был в слишком угнетенном состоянии, чтобы развивать дальше свои мысли; он встал, закурил сигарету и сошел в кухню – попросить Берту сделать ему чай. Она не заметила, как он вошел. Он тронул ее за плечо, и она резко вздрогнула. «Я вас напугал?» – спросил он. Она с испуганным видом смотрела на него, опершись обеим руками о стол, и грудь ее вздымалась; наконец она улыбнулась и ответила: «Это меня ошеломило, я не думала, что здесь кто-то есть». Люсьен снисходительно улыбнулся в ответ и сказал: «Вы были бы весьма любезны, если бы приготовили мне чашечку чая». – «Сию минуту, мсье Люсьен», – ответила малютка Берта и бросилась к плите; появление Люсьена явно тяготило ее. Люсьен в нерешительности стоял на пороге. «Ну так как же, – отечески спросил он, – нравится вам у нас?» Берта стояла к нему спиной и наливала из-под крана чайник. Шум воды заглушил ее ответ. Люсьен немного подождал, а когда она поставила чайник на газовую плиту, спросил: «Вы курите?» – «Иногда», – с недоверием ответила она. Он раскрыл пачку «кравена» и протянул ей. Он был не совсем собой доволен: ему казалось, что он окажется в ложном положении; ему не следовало бы заставлять ее курить. «Вам угодно, чтобы я закурила?» – спросила она удивленно. «Почему бы и нет?» – «Госпожа меня заругает». У Люсьена появилось неприятное чувство соучастия в чем-то недостойном. Он засмеялся и сказал: «А мы ей не скажем». Берта покраснела, кончиками пальцев взяла сигарету и воткнула ее в рот. «Должен я предложить ей огня? Нет, это будет неучтиво». Он спросил: «А что, прикуривать вы не будете?» Она его раздражала: она стояла перед ним с негнущимися руками, раскрасневшаяся и покорная, а в ее сложенных бантиком губках торчала сигарета; можно было подумать, что она вставила в рот градусник. Наконец она взяла из жестяной коробки спичку, чиркнула ее, прищурив глаза, сделала несколько затяжек и сказала: «Мягкие», потом резко вынула сигарету изо рта и неуклюже зажала ее в ладони. «Она прирожденная жертва», – подумал Люсьен. Однако она немного оттаяла, когда он спросил, любит ли она родную Бретань, рассказала ему о разных видах бретонских чепцов и даже спела нежным, но фальшивым голоском какую-то нормандскую песенку. Люсьен над ней подтрунивал вежливо, но она шуток не понимала и смотрела букой; в эту минуту она была похожа на крольчиху. Он сидел на табуретке и чувствовал себя совсем непринужденно. «Садитесь же», – предложил он. «Ой, что вы, мсье Люсьен, я не могу сидеть при вас, мсье Люсьен». Он взял ее под мышки и усадил к себе на колени. «Так лучше?» – спросил он. Она не сопротивлялась, с забавным акцентом лепеча: «Сидеть у вас на коленях!» – и глядя на него с восторженным и укоризненным видом, а Люсьен тем временем с досадой думал: «Я действую слишком смело, мне не следовало бы заходить так далеко». Он молчал; она сидела у него на коленях, такая теплая и притихшая, хотя Люсьен слышал, как колотится ее сердце. «Она – моя вещь, – думал он, – я могу сделать с ней все, что пожелаю». Он отпустил ее, взял чайник и поднялся к себе в комнату – Берта даже пальцем не пошевелила, чтобы его удержать. Прежде чем приступить к чаю, Люсьен тщательно, ароматизированным мылом матери вымыл руки, которые пахли подмышками.
«Неужели я пересплю с ней?» В последующие дни Люсьен был очень поглощен этой маленькой задачей. Берта постоянно вертелась у него под ногами и смотрела на него большими грустными глазами спаниеля. Нравственность взяла свое: Люсьен понял, что она рискует от него забеременеть, так как он не был достаточно опытен в этих делах (купить же в Фероне презервативы было невозможно, его тут все знали), что это принесет большие неприятности господину Флерье. Он также убедил себя в том, что позднее он будет пользоваться на заводе меньшим авторитетом, если дочь одного из его рабочих сможет хвастаться тем, что спала с хозяином. «Я не имею права ее трогать». Все последние дни сентября он избегал оставаться наедине с Бертой. «Ну, чего же ты ждешь?» – спрашивал Винкельман. «Ничего, – сухо отвечал Люсьен. – Шашни со служанкой не для меня». Винкельман, который впервые слышал про «шашни со служанкой», лишь присвистнул от удивления и умолк.
Люсьен был вполне удовлетворен собой: он повел себя как воспитанный мужчина, и это искупало многие его ошибки. «Она была на все готова», – говорил он себе не без грусти. Но, поразмыслив немного, решил: «Это все равно, как если бы я ее поимел, – она предлагала мне себя, а я ее отверг». И отныне Люсьен стал считать, что он уже не девственник. Эти мелкие удовольствия несколько дней занимали его, потом и они тоже растворились в тумане. Вернувшись в октябре домой, он чувствовал себя таким же мрачным, как и в начале прошлого учебного года.
Берлиак в лицей не вернулся, и никто о нем ничего не знал. Люсьен увидел в классе много новых незнакомых лиц: его сосед справа, по фамилии Лемордан, проучился год в математической школе в Пуатье. Он был выше ростом даже Люсьена, а его черные усы придавали ему вид вполне взрослого мужчины. Люсьен без удовольствия встретился со своими товарищами: они казались ему ребячливыми и наивно шумными, семинаристами одним словом. Он еще участвовал в их коллективных выходках, но с некоторой ленцой, что, впрочем, ему позволялось, как «старику». Лемордан заинтересовал его гораздо больше, потому что в нем чувствовалась зрелость, но, в отличие от Люсьена, не казалось, что он обрел эту зрелость благодаря множеству трудных испытаний; он был взрослым от рождения. Люсьен часто с наслаждением любовался этой массивной головой с задумчивым лицом, как-то криво посаженной прямо на плечи, а не на шею, казалось, что в эту голову никогда ничего не могло проникнуть ни через уши, ни через узкие, как у китайца, красноватые и застывшие глазки. «Это человек, у которого есть убеждения», – с уважением думал Люсьен и не без зависти спрашивал себя, какова та опора, на которой зиждется у Лемордана абсолютное чувство собственного достоинства. «Вот кем я должен стать – скалой». Тем не менее он был немного удивлен, что Лемордан был способен воспринимать математические доказательства, но мсье Юссон успокоил его, когда вернул им их первые контрольные работы: Люсьен был седьмым, а Лемордан, получив оценку «пять», оказался в списке семьдесят восьмым; все стало на свои места. Лемордана и это не взволновало; похоже, он ожидал худшего, и его крошечный ротик, смуглые и гладкие полные щеки не были созданы для выражения каких-либо чувств: он был спокоен, как Будда. Разгневанным его видели лишь однажды – в тот день, когда Леви толкнул его в гардеробной. Сперва он, часто заморгав, раз десять громко хрюкнул. Потом заорал: «В Польшу! Убирайся в Польшу, грязный жиденыш, и не смей быть нахалом в нашем доме!» Он был выше Леви на две головы, а его мощный торс покачивался на длинных ногах. В итоге он отвесил ему пару оплеух, а маленький Леви принес свои извинения – на этом все и закончилось.
По четвергам Люсьен с Гигаром отправлялись танцевать к подружкам его сестры. Но Гигар вдруг сознался, что это скаканье ему надоело. «У меня есть подружка, – признался он, – она работает старшей продавщицей у Плинье на рю Руаяль. А у нее как раз есть приятельница, которая сейчас одна, – ты должен пойти с нами в субботу вечером». Люсьен устроил сцену родителям и добился разрешения уходить вечером по субботам; ключ решили оставлять под ковриком. Он встретился с Гигаром около девяти часов в баре на улице Сент-Оноре. «Сам увидишь, – сказал Гигар, – Фанни очаровательна, и к тому она умеет одеваться, что немаловажно». «А моя?» – «С ней я незнаком, знаю только, что она подручная швея и недавно приехала в Париж из Ангулема. Кстати, – прибавил он, – смотри не дай промашку. Я – Пьер Дора. А ты… раз ты блондин, я сказал, что в тебе английская кровь, так оно лучше. Зовут тебя Люсьен Боньер». – «К чему все это?» – спросил заинтригованный Люсьен. «Старина, – ответил Гигар, – это принцип. Можешь делать все, что угодно, с этими женщинами, но никогда не называй своей фамилии». – «Ладно! Хорошо! – согласился Люсьен. – И чем же я занимаюсь?» – «Можешь сказать, что ты студент, это лучше всего, сам понимаешь, это им льстит, и потом ты не обязан тратить на них кучу денег. Расходы, понятно, мы поделим, но сегодня вечером плачу я, я уже привык. В понедельник я скажу, сколько ты мне должен». У Люсьена мгновенно промелькнула мысль, что Гигар хотел кое-что на нем выгадать. «Какой я стал мнительный!» – весело подумал он, и тут вошла Фанни: это была высокая, смуглая и худая девушка, с длинными ногами и сильно накрашенным лицом. Люсьену она показалась страшной. «Это Боньер, о котором я тебе говорил», – сказал Гигар. «Очень приятно, – ответила Фанни, близоруко щурясь. – А это Мод, моя подружка». Перед Люсьеном стояла маленькая простушка без возраста, ее шляпка напоминала перевернутый цветочный горшок. Косынки на ней не было, и рядом с яркой Фанни выглядела она тускло. Люсьен испытал горькое разочарование, но заметил, что у нее красивый рот и к тому же с ней ему не придется церемониться. Гигар позаботился о том, чтобы заранее расплатиться за пиво, так что он сумел воспользоваться шумной суматохой знакомства, весело подталкивая девушек к двери и не давая им времени что-нибудь себе заказать. Люсьен был ему признателен за это: господин Флерье выдавал сыну всего сто двадцать пять франков в неделю и из этих денег он должен был оплачивать свои телефонные разговоры. Вечер вышел очень веселым: они отправились на танцы в Латинский квартал, в уютный розовый зальчик с укромными уголками; коктейль здесь стоил сто су. Здесь было много студентов с женщинами вроде Фанни, но не столь шикарными. Фанни была неотразима: она посмотрела прямо в глаза толстому бородачу, курившему трубку, и очень громко сказала: «Не выношу тех, кто курит на танцах». Бородач побагровел и сунул непогашенную трубку в карман. Она обращалась с Гигаром и Люсьеном слегка снисходительно и часто повторяла по-матерински ласково: «Эх вы, мерзавцы этакие». Люсьен чувствовал себя непринужденно и был сама любезность: он наговорил Фанни кучу забавных глупостей и при этом все время ей улыбался. В конце концов улыбка уже не сходила с его лица, и он сумел найти изысканный тон легкой небрежности и рыцарской нежности, чуть оттененный иронией. Но Фанни было не до него: она, взяв Гигара за подбородок, пальцами растягивала ему щеки, чтобы у него оттопырились губы; когда они делались пухлыми и чуть слюнявыми, словно налитые соком плоды или слизняки, она часто облизывала их, приговаривая при этом: «бэби». Люсьен ужасно смущался и находил Гигара смешным: губы Гигара были измазаны помадой, а на щеках отпечатались следы пальцев. Но другие парочки вели себя еще более вольно; и все целовались; время от времени из гардеробной приходила женщина с корзинкой и, разбрасывая серпантин и разноцветные шарики, кричала: «Оле, детки, веселитесь, смейтесь, оле, оле!», и все смеялись. Наконец Люсьен вспомнил о Мод и, улыбнувшись ей, сказал: «Взгляните-ка на этих голубков». Показав на Фанни и Гигара, он добавил: «А вот мы, почтенные старички…» Он не договорил, но так забавно улыбнулся, что Мод улыбнулась в ответ. Она сняла шляпку, и Люсьен с удовольствием отметил, что она была куда лучше многих женщин в дансинге; он пригласил ее на танец и рассказал о своих проделках с учителями в тот год, когда он готовился к экзаменам на бакалавра. Она хорошо танцевала, у нее были черные серьезные глаза, она не казалась невинной. Люсьен рассказал ей о Берте и сказал, что его терзали угрызения совести. «Но для нее так было лучше», – прибавил он. Мод нашла историю Берты романтической и грустной, спросила, сколько Берта получала у его родителей. «Для девушки,– добавила она, – не такая уж радость быть в услужении». Гигар и Фанни уже не обращали на них внимания, они ласкали друг друга, и лицо у Гигара было в слюнях. Люсьен то и дело повторял: «Посмотрите на этих голубков, ну посмотрите же!» У него даже была готова фраза: «Они вызывают у меня желание сделать то же самое…» Но он не осмеливался произнести ее и ограничивался улыбками, потом он прикинулся, будто они с Мод старые приятели, которым наплевать на любовь, назвал ее «стариком» и поднял руку, собираясь похлопать ее по плечу. Вдруг Фанни повернула голову и с удивлением посмотрела на них. «А вы, мелюзга, чего ждете? – спросила она. – Да поцелуйтесь же, ведь вам до смерти хочется». Люсьен обнял Мод; он слегка стеснялся, потому что на них смотрела Фанни; ему хотелось бы, чтобы поцелуй получился долгим и удачным, хотя он не знал, как люди умудряются дышать при этом. В конце концов, это оказалось не так трудно, как он думал, нужно было целоваться чуть косо, чтобы ноздри могли дышать. Он услышал, как Гигар считает: «Раз, два, три, четыре…», и отпустил Мод лишь на пятидесяти двух. «Неплохо для начала, – похвалил Гигар, – но у меня получше выйдет». Люсьен смотрел на свои наручные часы и тоже открыл счет: Гигар оторвался от губ Фанни на сто пятьдесят девятой секунде. Люсьена это взбесило, и он счел это состязание глупым. «Я отпустил Мод из-за приличия, – думал он, – это несложно; если научишься дышать, то можно целоваться до бесконечности». Он предложил провести второй тур и выиграл. Когда все закончилось, Мод посмотрела на Люсьена и серьезно сказала: «А вы хорошо целуетесь». Люсьен покраснел от удовольствия. «Всегда к вашим услугам», – ответил он, поклонившись. Но все же он предпочел бы целоваться с Фанни. Расстались они в половине первого ночи, чтобы успеть к последнему поезду метро. Люсьен был на вершине блаженства; подпрыгивая и приплясывая, он шел по улице Рейнуар и думал: «Дело в шляпе». У него болели уголки рта, так много он смеялся в этот день.
Он усвоил привычку встречаться с Мод по четвергам в шесть часов и вечером в субботу. Она позволяла себя целовать, но не хотела ему отдаться. Люсьен пожаловался Гигару, который его успокоил: «Не волнуйся, Фанни уверена, что она будет спать с тобой; правда, она еще молода и имела всего двух любовников. Фанни рекомендует тебе быть с ней поласковей. „Поласковей? – спросил Люсьен. – Ты думаешь, что говоришь?“ Они рассмеялись, и Гигар заключил: „Делай как знаешь, старик“. Люсьен был очень ласков. Он много целовал Мод и говорил, что любит ее, но в конце концов это было несколько однообразно, к тому же он не слишком стремился бывать с ней на людях; ему хотелось кое-что подсказать Мод насчет ее туалетов, но она была набита предрассудками и очень быстро выходила из себя. Между поцелуями они сидели молча, с неподвижными глазами, и держались за руки. „Бог знает, о чем она думает, если у нее такой суровый взгляд“. Сам же Люсьен думал всегда об одном и том же – о своей жалкой, печальной и смутной жизни, говоря себе: „Я хотел бы быть Леморданом, вот человек, который нашел свой путь!“ В такие минуты он видел себя как бы со стороны, представляя себя другим: тот сидит рядом с женщиной, которая его любит, его рука в ее руке, его губы еще влажны от ее поцелуев, но отвергает то скромное счастье, какое она ему предложила, – он одинок. И он крепко сжимал пальцы малютки Мод, и слезы выступали у него на глазах: он ведь так хотел бы сделать ее счастливой.
В одно декабрьское утро Лемордан подошел к Люсьену, в руке он держал какую-то бумажку. «Ты не хочешь подписать?» – спросил он. «Что это?» – «Это против жидов из Высшей нормальной школы; они прислали в „Эвр“ гнусную писульку против обязательной военной подготовки, под ней двести подписей. Вот мы и протестуем: нам нужно собрать по крайней мере тысячу фамилий; мы дадим подписать наш протест „сирараты“, „флоттарам“, „агро“, в общем, всей элите». Люсьен почувствовал себя польщенным и спросил: «Это появится в печати?» – «В „Аксьон“ наверняка, возможно, и в „Эко де Пари“. Люсьен хотел подписать сразу же, но подумал, что это выглядело бы несерьезно. Он взял листок и внимательно его прочел. Лемордан прибавил: „Ты, кажется, не занимаешься политикой, это твое дело. Но ты француз и имеешь право сказать свое слово“. Услышав „ты имеешь право сказать свое слово“, Люсьен почувствовал, как его буквально пронзила мгновенная необъяснимая радость. Он подписал. На следующий день он купил „Аксьон Франсез“, но воззвания в нем не было. Оно появилось только в четверг, и Люсьен нашел его на второй странице, под шапкой: Молодежь Франции наносит мощный прямой удар по зубам мирового еврейства. Фамилия его была проставлена тут же, компактная, четкая, недалеко от Лемордана, почти такая же чужая, как Флеш и Флипо, окружавшие ее; казалось, она во что-то обернута. „Люсьен Флерье, – подумал он, – это крестьянская фамилия, истинно французская фамилия“. Он прочитал вслух все фамилии, начинающиеся на Ф, и, дойдя до своей, прочел ее словно впервые. Затем сунул газету в карман и, довольный, пошел к себе в комнату. Спустя несколько дней он сам пришел к Лемордану. „Ты ведь занимаешься политикой?“ – спросил он. „Я член Лиги, – ответил Лемордан, – ты хоть изредка читаешь „Аксьон“? – „Редко, – признался Люсьен, – до сих пор все это меня не интересовало, но, по-моему, я начинаю меняться“. Лемордан смотрел на него без любопытства, с обычным своим непроницаемым видом. Люсьен рассказал ему в самых общих чертах о том, что Бержер называет его „смятеньем“. „Ты откуда родом?“ – спросил Лемордан. „Из Фероля. У отца там завод“. – „Сколько времени ты там прожил?“ – „До второго класса“. – „Понятно, – сказал Лемордан, – все очень просто, ты – лишенный почвы. Ты читал Барреса?“ – „Читал „Колетту Бодош“. – „Это не то, – перебил его Лемордан. – Я сегодня же принесу тебе «Лишенных почв“, это книга про тебя. Ты найдешь в ней и свою болезнь, и лекарство от нее“. Книга была переплетена в зеленую кожу. На первой странице было проставлено готическими буквами: «Ex libris Andre Lemordant“. Люсьен удивился: он никогда не задумывался, как зовут Лемордана.
К чтению он приступил с большим недоверием: уже столько раз они пытались его объяснить; столько раз давали читать книги, предупреждая: «Прочти, это же ты». Люсьен, грустно улыбнувшись, подумал, что он не из тех, кого можно было бы сбить с толку несколькими фразами. Эдипов комплекс, Смятенье – все это ребяческие забавы, и как они теперь далеки от него! Но с первых же страниц книга захватила Люсьена: прежде всего в ней не было психологии (он был сыт этой психологией по горло); Баррес рассказывал о молодых людях, которые не были абстрактными, деклассированными личностями, как Рембо или Верлен, они не были больными, как эти праздные светские дамы, которых Фрейд лечил психоанализом. Баррес начинал с того, что помещал их в родную им среду, в родную семью: в провинции они получали хорошее, в твердых традициях воспитание; Люсьен нашел, что Стюрель похож на него. «Да, и все-таки правда, – говорил он себе, – что я – лишенный почвы». Он думал о нравственном здоровье семьи Флерье, о том здоровье, которое приобретается лишь в деревне, об их физической силе (дед его мог согнуть пальцами бронзовую монету) ; он с умилением вспоминал рассветы в Фероле: он вставал, на цыпочках спускался по лестнице, чтобы не разбудить родителей, садился на велосипед, и нежная природа Иль-де-Франса принимала его в свои ласковые объятья. «Я всегда ненавидел Париж», – с чувством думал он. Он прочел также «Сад Береники»; он изредка отрывался от чтения и, устремив глаза в какую-то неясную даль, начинал размышлять: итак, ему снова предлагают выбрать характер и судьбу, способ избавиться от неистощимой болтовни своего сознания, предлагают метод, чтобы определить, кто же ты такой, и оценить себя по достоинству. И конечно же гнусным и похотливым чудовищам Фрейда он предпочел бы то пропитанное деревенскими запахами бессознательное, которое дарил ему Баррес. Чтобы обрести его, Люсьену надо было лишь отказаться от бесплодного и опасного самосозерцания; для этого ему надо было бы изучить почвы и подпочвы Фероля, разгадать смысл его волнистых холмов, спускающихся до самого Сернетта, обратиться к географии населения и истории. Или же просто вернуться в Фероль и жить там – Люсьен нашел бы под ногами это бессознательное, безвредное и плодоносное, разлитое по всей ферольской равнине, скрытое в деревьях, ручьях, траве, подобное тому питательному перегною, в котором Люсьен почерпнул бы наконец силу, чтобы стать хозяином. От этих долгих мечтаний Люсьен пробуждался в сильной экзальтации, а иногда у него даже создавалось впечатление, что он нашел свой путь. Сейчас, когда он молча сидел рядом с Мод, обнимая ее одной рукой за талию, в голове у него звучали слова, обрывки фраз – «возобновить традицию», «земля и покойники», слова глубокие и плотные, неисчерпаемые. «Как это заманчиво», – думал он. И однако он не смел в них поверить: слишком часто его обманывали. Он поделился своими опасениями с Леморданом: «Это было бы слишком прекрасно». – «Милый мой, – ответил Лемордан, – нельзя сразу поверить в то, во что ты жаждешь поверить: для этого нужен практический опыт». Он подумал немного и сказал: «Ты должен прийти к нам». Люсьен всем сердцем принял приглашение, но счел необходимым уточнить, что хотел бы сохранить свою свободу. «Я приду, – обещал он, – но это меня ни к чему не обязывает. Мне нужно осмотреться и подумать».
Люсьен был очарован братством юных «королевских молодчиков»; они оказали ему простой и сердечный прием, и он почувствовал себя с ними легко. Он быстро познакомился с «бандой» Лемордана, в которой насчитывалось десятка два студентов, носивших бархатные береты. Собирались они на втором этаже пивной «Полдер», где играли в бридж и биллиард. Люсьен стал часто бывать с ними в пивной и вскоре понял, что они вполне его приняли, ибо неизменно встречали его криками: «А вот и наш красавчик!» или «Да вот наш Флерье национальный»[5]5
Здесь в тексте непереводимая игра слов: фамилия Флерье (Flenrier) созвучна со словом «Le Flenron», которое означает «украшение», «жемчужина».
[Закрыть]. Но особенно пленяло Люсьена их добродушное настроение: ни тени педантизма или строгости, очень мало разговоров о политике. Они смеялись, пели – вот и все; громко орали или били в барабан во славу студенческой молодежи. И сам Лемордан, не подрывая своего авторитета, который никто и не осмелился бы оспорить, немного расслаблялся, иногда позволял себе улыбнуться. Чаще всего Люсьен молчал, его взгляд блуждал по этим шумным и мускулистым молодым людям. «Это сила», – думал он. Среди них он постепенно открывал истинный смысл молодости: этот смысл уже не заключался в жеманной грации, которую так ценил Бержер; молодость была будущим Франции. Впрочем, товарищи Лемордана не обладали волнующим очарованием юности: они казались взрослыми и многие уже носили бороды. Если внимательно к ним присмотреться, во всех них можно было обнаружить что-то родственное: они покончили с ошибками и сомнениями своего возраста, учиться им было уже нечему, они сформировались. Поначалу их пустые и жестокие шутки немного пугали Люсьена: можно было счесть эти шутки бессознательными. Когда Реми сообщил, что госпоже Дюбю, жене лидера радикалов, грузовиком отдавило ноги, Люсьен ожидал услышать хотя бы короткое соболезнование несчастному противнику. Но все они просто помирали со смеху и, хлопая себя ладонями по ляжкам, кричали: «Старая падаль!» и «Слава почтенному водителю!» Люсьен был несколько смущен, но сразу же понял, что этот великий очистительный смех был отказом; они чуяли опасность, они не желали опускаться до трусливой жалости, и они отвергли ее. Люсьен тоже стал смеяться вместе с ними. Постепенно их проказы открылись ему в своем истинном свете; они ведь только внешне выглядели легкомысленными, а по сути были утверждением права: убежденность этих молодых людей была столь глубокой, столь религиозной, что она давала им право казаться легкомысленными, остроумной репликой, дерзкой выходкой низвергать все, что не имеет отношения к главному. Между холодным как лед юмором Шарля Морраса и шуточками, например, Десперро (он таскал в кармане обрывок старого презерватива, который называл крайней плотью Блюма) разница лишь в уровне. В январе университет объявил о торжественном заседании, в ходе которого должно было состояться присвоение звания «doctor honores causa» двум шведским минералогам. «Ты увидишь большую бузу», – сказал Лемордан, вручая Люсьену пригласительный билет. Большой Амфитеатр был переполнен. Когда Люсьен увидел, как под звуки «Марсельезы» в зал входят президент Республики и ректор, у него заколотилось сердце, его охватил страх за своих друзей. И в ту же минуту несколько молодых людей встали на скамьи и громко заорали. В одном из них Люсьен с нежностью узнал красного, как помидор, Реми, который отбивался от двух мужчин, тянувших его за пиджак, и кричал: «Франция французам». Но особенно приятно ему было смотреть на пожилого господина, который с видом расшалившегося ребенка изо всех сил дул в маленькую трубу. «Как это целительно!» – подумал Люсьен. Он живо наслаждался этой оригинальной смесью упрямой серьезности и шумного буйства, которая самых юных делает похожими на взрослых, а пожилых превращает в каких-то бесенят. Вскоре и Люсьен тоже попробовал пошутить. Он имел успех, а когда сказал об Эррио: «Если этот умрет в своей постели, значит, больше нет Господа Бога», то почувствовал, как в нем нарождается праведный гнев. Тогда он сжал челюсти и несколько минут ощущал себя таким же убежденным, таким же ограниченным, таким же сильным, как Реми или Десперро. «Лемордан прав, – думал он, – нужен практический опыт, в этом все дело». Он научился также пренебрегать спорами. Гигар, этот жалкий республиканец, засыпал его возражениями. Люсьен из вежливости его слушал, но Гигар говорил не умолкая, и Люсьен даже не смотрел на него; он аккуратно разглаживал складку и разглядывал женщин. Несмотря на это, он кое-что понимал в возражениях Гигара, но они вдруг теряли свою весомость и скользили, не касаясь его, невесомые и никчемные. Пораженный этим, Гигар в конце концов умолкал. Люсьен рассказал родителям о своих новых друзьях, и господин Флерье спросил его, не собирается ли он присоединиться к «молодчикам короля». Люсьен помешкал с секунду и сказал серьезно: «Меня это привлекает, по-настоящему привлекает». – «Люсьен, умоляю тебя, не делай этого, – просила мать, – они ведут себя слишком бурно, и добром это не кончится. Ты хочешь, чтобы тебя избили или посадили в тюрьму? И вообще, ты еще очень молод, чтобы заниматься политикой». Люсьен ответил ей твердой улыбкой, но вмешался господин Флерье. «Оставь его, дорогая, – с нежностью сказал он, – пусть он следует своим убеждениям; ему надо пройти через это». Люсьену показалось, что с этого дня родители стали относиться к нему с особым уважением. Однако он никак не мог решиться; эти несколько недель многому его научили – он вспоминал благожелательный интерес отца, беспокойство госпожи Флерье, нарождающееся уважение Гигара, настойчивость Лемордана, нетерпение Реми и, качая головой, говорил себе: «Это дело нешуточное». Он имел долгий разговор с Леморданом, и Лемордан, прекрасно поняв его соображения, посоветовал ему не торопиться. Приступы хандры все еще накатывали на Люсьена: ему начинало казаться, что он всего лишь крохотный, прозрачно-студенистый комочек, который дрожит мелкой дрожью на банкетке кафе, и шумная суета «королевских молодчиков» представлялась ему нелепой. Но в иные минуты он ощущал себя твердым и тяжелым, как камень, и был почти счастлив.




