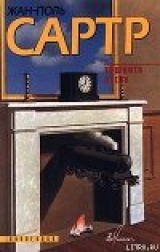
Текст книги "Детство хозяина"
Автор книги: Жан-Поль Шарль Эмар Сартр
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Есть у вас ракия? – спросил Бержер официанта.
– Нет, ракию они не держат, – с готовностью ответил Берлиак, – в этой лавочке вообще выпить нечего, кроме вермута.
– А что это желтое там, в графине? – спросил Бержер с мягкой непринужденностью.
– Это белый «крусификс», – ответил официант.
– Отлично, дайте мне его.
Берлиак вертелся на своем стуле: казалось, он разрывался между желанием расхвалить своих друзей и опасением выставить напоказ Люсьена в ущерб себе. Наконец он мрачно и гордо сказал:
– Он хотел убить себя.
– Черт возьми! – воскликнул Бержер. – Я так и думал.
Опять наступила пауза; Люсьен скромно потупил глаза, но думал про себя, скоро ли уберется Берлиак. Бержер вдруг взглянул на часы.
– А как же твой дантист? – спросил он.
Берлиак нехотя встал.
– Проводите меня, Бержер, – попросил он, – это в двух шагах.
– Зачем, ты же вернешься. А я составлю компанию твоему товарищу.
Берлиак постоял с минуту, переминаясь с ноги на ногу.
– Валяй, беги, – сказал Бержер властным тоном, – найдешь нас здесь.
Едва Берлиак вышел, Бержер поднялся и бесцеремонно уселся рядом с Люсьеном. Люсьен долго рассказывал ему о своем самоубийстве; он также признался, что желал свою мать, принадлежит к садистско-анальному типу, но, в сущности, ему ничего не нравится, и все в нем было комедией. Бержер слушал его молча, пристально на него глядя, и Люсьен находил, что это очень приятно – быть понятым. Когда он закончил, Бержер фамильярно обнял его за плечи, и Люсьена окутал запах одеколона и английских сигарет.
– Знаете, Люсьен, как я называю ваше состояние? – Люсьен с надеждой смотрел на Бержера: нет, он не ошибся.
– Я называю его Смятением, – сказал он.
Смятение – начало слова было нежным и чистым, словно лунный свет, но заключительное «ие» звучало громким медным звуком охотничьего рожка.
– Смятение, – повторил Люсьен.
Он чувствовал себя строгим и встревоженным, как тогда, когда признался Рири в том, что он лунатик. В баре было темно, но распахнутая дверь выходила на улицу, на светлую, золотистую дымку весны; под тонким ароматом, который источал холеный Бержер, Люсьен улавливал тяжелый запах темного зала, запах красного вина и сырого дерева. «Смятение… – думал он, – и куда только оно меня заведет?» Он толком не знал, что в нем открылось, – какое-то достоинство или новая болезнь; почти у самых глаз он видел подвижные губы Бержера, которые без устали то скрывали, то открывали блеск его золотого зуба.
– Я люблю людей в смятении, – говорил Бержер, – и нахожу, что вам выпала необыкновенная удача. Ведь вам оно было дано. Видите этих свиней? Они сидячие. Их следовало бы бросить термитам, чтобы те их чуточку расшевелили. Вам известно, что делают эти добросовестные козявки?
– Они едят людей, – ответил Люсьен.
– Верно, они очищают скелеты от человеческого мяса.
– Понимаю, – сказал Люсьен. Он прибавил: – Ну а я? Что же я должен делать?
– Ничего, ради Господа нашего, – воскликнул Бержер с комическим испугом. – И главное – не садиться. Если только это не будет кол, – рассмеялся он. – Вы читали Рембо?
– Н-н-нет, – ответил Люсьен.
– Я вам дам «Озарения». Послушайте, мы должны снова встретиться. Если вы свободны в четверг, заходите ко мне часа в три, я живу на Монпарнасе, дом 9. Улица Кампань-Премьер.
В следующий четверг Люсьен отправился к Бержеру и весь май бывал у него почти ежедневно. Они условились, что скажут Берлиаку, что видятся лишь раз в неделю, потому что хотели быть с ним откровенны, всячески избегая его огорчать. Берлиак оказался совершенно неуместным; он с ухмылкой спросил Люсьена: «Ну что, втюрился? Он тебя купил на тревоге, а ты его на самоубийстве – большая игра, ничего не скажешь!» Люсьен запротестовал. «Должен тебе заметить, – краснея, возразил он, – что ты первым заговорил о моем самоубийстве». – «Да, я, – воскликнул Берлиак, – и только потому, чтобы избавить тебя от стыда сделать это самому». Они стали встречаться реже. «Все, что мне нравилось в нем, – сказал как-то Люсьен Бержеру, – он взял у вас, теперь я это понимаю». – «Берлиак – обезьяна, – рассмеялся Бержер, – именно это всегда и влекло меня к нему. Вы знаете, его бабушка по матери – еврейка? Этим многое объясняется». – «Конечно», – ответил Люсьен. И спустя мгновение добавил: «Впрочем, в нем есть какой-то шарм». Квартира Бержера была забита множеством странных и смешных вещей: пуфами, чьи сиденья из красного бархата покоились на женских ногах из раскрашенного дерева, негритянские статуэтки, кованый пояс целомудрия с шипами, гипсовые женские груди, которые были утыканы чайными ложками; на письменном столе лежали служившие пресс-папье огромная бронзовая вошь и череп монаха, украденный с кладбища костей в Мистре. Стены были обклеены объявлениями, которые извещали о смерти сюрреалиста Бержера. Несмотря на все, в квартире возникало ощущение продуманного комфорта, и Люсьену нравилось лежать на мягком диване курительной. Но особенно его удивляло великое множество различных шутливых штуковин, которые Бержер складывал на этажерку: заледеневшая жидкость, порошок для чихания, волосы для почесывания, плавающий в воде сахар, какашка дьявола, подвязка невесты. Продолжая разговор, Бержер брал в руку какашку дьявола и с серьезным видом разглядывал ее. «Эти штучки имеют огромную революционную ценность – они вызывают тревогу. Разрушительной силы в них больше, чем в Полном собрании сочинений Ленина». Удивленный и зачарованный, Люсьен смотрел то на это страдальческое красивое лицо с глубоко запавшими глазами, то на тонкие длинные пальцы, которые изящно держали превосходно скопированный экскремент. Бержер часто говорил с ним о Рембо и о «систематическом расстройстве всех чувств». «Когда вы, проходя по площади Согласия, сможете усилием воли увидеть негритянку, которая стоит на коленях и сосет обелиск, тогда вы сможете сказать себе, что вы прорвали декорацию и что вы спасены». Он дал ему читать «Озарения», «Песни Мальдорора» и сочинения маркиза де Сада. Люсьен добросовестно старался их понять, но многое от него ускользало, и его шокировало, что Рембо был педерастом. Он сказал об этом Бержеру, который в ответ рассмеялся: «Ну и что из этого, малыш?» Люсьен сильно смутился. Он покраснел и с минуту всей душой ненавидел Бержера; но преодолел себя, поднял голову и с наивной откровенностью признал: «Я сказал глупость». Бержер погладил его по волосам, он казался растроганным. «О, эти большие глаза, полные тревоги, – сказал он, – глаза лани… Да, Люсьен, вы сказали глупость. Педерастия Рембо – это самое важное и гениальное расстройство в его чувствах. Этим стихам мы обязаны ей. Думать, что существуют специфические объекты сексуального желания и этими объектами являются женщины, потому что у них есть дырка между ног, – это гнусное добровольное заблуждение всех сидячих. Посмотрите! Он достал из ящика письменного стола дюжину пожелтевших фотографий и бросил их на колени Люсьену. Люсьен увидел ужасных голых шлюх, смеющихся беззубыми ртами, меж раздвинутых, словно губы, ног у них торчало что-то, похожее на заросший мхом язык. „Я купил этот набор за три франка в Бу-Сааде, – сказал Бержер. – Если вы целуете зад одной из таких женщин, то вы свой, и каждый скажет, что вы живете, как настоящий мужчина. Потому что живете с женщинами, понимаете? А я говорю вам: первое, что вы должны сделать, это убедить себя в том, что объектом сексуального желания может стать все – швейная машинка, пробирка, лошадь или башмак. Сам я, – рассмеялся он, – занимался любовью с мухами. Я знал солдата морской пехоты, который жил с утками. Он засовывал ее голову в ящик, крепко брался за лапки и наяривал“. Рассеянно ущипнув Люсьена за ухо, Бержер заключил: „Утка от этого умирала, и ее съедали солдаты“. У Люсьена после таких разговоров голова шла кругом, он думал, что Бержер – гений, но по ночам он часто просыпался весь в поту, с головой, полной жутких и гнусных видений, и он спрашивал себя, оказывает ли на него Бержер благотворное влияние. „Я один! – стонал он, заламывая руки. – У меня нет никого, кто мог бы дать мне совет, сказать, на правильном ли я пути!“ А если он пойдет до конца, если по-настоящему будет культивировать расстройство всех чувств, не уйдет ли у него почва из-под ног, не погибнет ли он? Как-то, слушая долгий рассказ Бержера об Анри Бретоне, Люсьен прошептал, словно во сне: „Хорошо, но если после этого я уже не смогу вернуться назад?“ Бержер подскочил: „Вернуться назад! Кто же говорит о том, чтобы возвращаться назад? Если вы сойдете с ума, тем лучше. После, как говорит Рембо, „придут другие страшные работники“. „Именно так я и думал“, – печально вздохнул Люсьен. Он заметил, что эти долгие беседы имели результат, противоположный тому, какого желал Бержер; едва Люсьен ловил себя на том, что испытывает более утонченное ощущение, необычное впечатление, его тотчас же бросало в дрожь. «Вот оно, начинается“, – думал он. С некоторых пор ему очень хотелось бы испытывать лишь банальные и грубые переживания; и лишь по вечерам в обществе своих родителей он чувствовал себя легко: они были его прибежищем. Они говорили о Бриане, о злой воле немцев, о родах кузины Жанны и о цене жизни; Люсьен с наслаждением обменивался с ними суждениями, исполненными грубого здравого смысла. Однажды, войдя к себе в комнату по возвращении от Бержера, он машинально закрыл дверь на ключ и задвинул засов. Осознав свой жест, он заставил себя улыбнуться, но всю ночь не мог уснуть: он понял, что ему страшно.
Однако ни за что на свете он не отказался бы от встреч с Бержером. «Он меня очаровывает», – думал Люсьен. К тому же он очень дорожил той деликатной и необычной дружбой, которую Бержер сумел установить между ними. Не изменяя своему мужественному и почти грубому стилю, Бержер обладал искусством дать Люсьену почувствовать и, так сказать, физически ощутить его нежность: например, он поправлял ему узел галстука, ворчливо браня Люсьена за то, что он так безвкусно одевается; он расчесывал ему волосы золотым гребнем из Камбоджи. Он раскрыл Люсьену его собственное тело, объяснив ему жестокую и волнующую красоту юности. «Вы Рембо, – говорил он ему, – у него были ваши большие руки, когда он приехал в Париж, чтобы увидеть Верлена, такое же, как у вас, розовое лицо молодого здорового крестьянина и длинное, хрупкое тело, как у белокурой девочки». Он заставил Люсьена снять воротничок и расстегнуть рубашку, потом подвел его, совсем сконфуженного, к зеркалу и восхищался прелестной гармонией его румяных щек и белой шеи; тут он слегка погладил рукой бедро Люсьена и печально вздохнул: «И мы убьем себя в двадцать лет». Теперь Люсьен часто смотрел на себя в зеркало и научился наслаждаться своей угловатой юношеской грацией. «Я Рембо», – думал он вечером, снимая с себя одежду жестами, полными нежности, и начинал верить, что ему будет отпущена короткая и трагическая жизнь слишком прекрасного цветка. В такие минуты ему казалось, что он уже давным-давно испытывал подобные ощущения, и в памяти всплывала нелепая картинка: он видел себя совсем маленьким, в длинном голубом платьице с крылышками ангелочка, раздающим цветочки на благотворительной распродаже. Он разглядывал свои длинные ноги. «А правда ли, что у меня такая нежная кожа?» – лукаво думал он. И однажды он провел губами по руке – от запястья и до локтевого сгиба – вдоль тоненькой очаровательной голубой жилки.
Зайдя как-то к Бержеру, Люсьен был неприятно удивлен: он увидел Берлиака, который был занят тем, что отрезал ножом кусочки какого-то черноватого вещества, с виду напоминавшего комок земли. Молодые люди не виделись уже дней десять, они холодно пожали друг другу руки. «Смотри, – сказал Берлиак, – это гашиш. Мы набьем его в трубки между двумя слоями светлого табака, действует обалденно. Тут и тебе хватит», – добавил он. «Спасибо, – сказал Люсьен, – я не хочу». Бержер и Берлиак рассмеялись, но Берлиак продолжал уговаривать, ехидно на него глядя: «Не будь идиотом, старик, попробуй, ты представить себе не можешь, как это приятно». – «Отстань, не хочу!» – воскликнул Люсьен. Помолчав, Берлиак ограничился высокомерной улыбкой, и Люсьен заметил, что Бержер тоже улыбался. Топнув ногой, он кричал. «Я не желаю, не хочу губить свое здоровье, я считаю глупым прибегать к этим штучкам, которые превращают людей в скотов». Это вырвалось невольно, но, когда до него дошел смысл сказанного и он представил себе, что мог подумать о нем Бержер, ему захотелось убить Берлиака, и слезы навернулись на глаза. «Ты буржуа, – сказал Берлиак, пожав плечами, – ты притворяешься, будто плывешь, но ты страшно боишься оторваться от дна». – «Я не хочу привыкать к наркотикам, – ответил Люсьен более спокойно, – это такое же рабство, как и любое другое, а я хочу быть свободным». – «Скажи лучше, что боишься попробовать», – грубо возразил Берлиак. Люсьен уже собрался влепить ему пару пощечин, как вдруг услышал властный голос Бержера: «Оставь его, Шарль. Он прав. Его боязнь попробовать тоже от смятения». Они курили, растянувшись на диване, и запах армянской бумаги распространялся по комнате. Люсьен сидел на красном бархатном пуфе и молча наблюдал за ними. Наконец Берлиак откинул назад голову и заморгал, улыбаясь слюнявой улыбкой. Люсьен чувствовал себя униженным и смотрел на него со злостью. Наконец Берлиак поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты; все это время на его губах блуждала какая-то странная, сонная и похотливая улыбка. «Дайте мне трубку», – хрипло попросил Люсьен. Бержер рассмеялся. «Не стоит, – сказал он. – Не обращай внимания на Берлиака. Знаешь, что с ним сейчас происходит?» – «А мне плевать», – сказал Люсьен. «Так вот, знай, что его рвет, – спокойно сказал Бержер. – Гашиш никогда не оказывал на него иного действия. Все прочее – это лишь комедия, но я иногда даю ему покурить, потому что ему хочется пофорсить передо мной, а меня это забавляет». На следующий день Берлиак явился в лицей, он решил обращаться с Люсьеном свысока: «Ты садишься в поезд, но заботливо отбираешь тех, кого оставляешь на вокзале». Но он не на того напал. «А ты балаганный зазывала, – ответил ему Люсьен, – думаешь, я не знаю, что ты делал вчера в ванной? Ты блевал, старик!» Берлиак побледнел: «Это Бержер тебе сказал?» – «А кто еще, по-твоему?» – «Хорошо, – пробормотал Берлиак, – хотя я не думал, что Бержер из тех, кто плюет на старых друзей ради новых». Люсьен слегка забеспокоился: он ведь обещал Бержеру ничего не рассказывать. «Брось, все хорошо! – сказал он. – Вовсе он на тебя не плюет, он просто хотел доказать мне, что гашиш тебя не берет». Но Берлиак повернулся и ушел, даже не подав ему руки. Люсьен был не слишком собой доволен, когда вновь встретился с Бержером. «Что вы сказали Берлиаку?» – с безразличным видом спросил Бержер. Люсьен опустил голову и молчал: он был удручен. Но вдруг он ощутил руку Бержера на затылке: «Это неважно, малыш. В любом случае этому уже пора было кончиться: комедианты никогда не веселят меня долго». Люсьен немного осмелел: он поднял голову и улыбнулся. «Но ведь и я комедиант», – сказал он, часто моргая. «Да, но ты – ты хорошенький», – ответил Бержер, привлекая его к себе. Люсьен покорился; он чувствовал себя нежным, как девушка, и слезы выступили у него на глазах. Бержер целовал его в щеки и покусывал ему ухо, называя то «миленьким проказником», то «маленьким братишкой», а Люсьен думал, что очень приятно иметь старшего брата, такого терпимого и все понимающего.
Господин и госпожа Флерье выразили желание познакомиться с Бержером, о котором Люсьен так много им рассказывал, и пригласили его на обед. Все нашли его очаровательным, даже Жермена, заявившая, что никогда не встречала такого красавца мужчину; господин Флерье был знаком с генералом Низаном, доводившимся Бержеру дядей, долго говорили о нем. Поэтому госпожа Флерье с большой радостью согласилась отпустить Люсьена с Бержером на каникулы в дни Святой Троицы. Они приехали в Руан на автомобиле; Люсьен хотел осмотреть собор и ратушу, но Бержер категорически отказался. «Ты хочешь смотреть эту дрянь?» – вызывающе спросил он. В конце концов они провели два часа в борделе на улице Корделье; Бержер без конца хохмил: он называл всех девочек «мадемуазель», под столом толкая Люсьена коленом, потом согласился подняться с одной из них в номер, но через пять минут вернулся. «Чешем отсюда, – прошептал он, – сейчас тут такой хай будет». Они быстро расплатились и ушли. На улице Бержер рассказал, что же произошло: воспользовавшись тем, что женщина повернулась к нему спиной, он бросил в постель целую горсть волос, вызывающих зуд, потом объявил, что он импотент, и сошел вниз. Люсьен выпил два стакана виски и немного поплыл; он спел «Артиллериста из Метца» и «De Profondis Morpionibus»; он находил восхитительным, что Бержер мог быть и таким умным, и таким ребячливым.
«Я заказал один номер, – сказал Бержер, когда они пришли в отель, – но с большой ванной». Люсьен не удивился: в дороге он смутно догадывался, что ему придется делить комнату с Бержером, но на этой мысли он почему-то не задерживался. Теперь, когда отступать уже было некуда, он счел все это не совсем приятным, главным образом потому, что ноги у него были не совсем чистые. Пока поднимали чемоданы, он представлял себе, как Бержер скажет: «Ну и грязен ты, все простыни изгваздаешь», а он дерзко ответит: «У вас весьма мещанские представления о чистоте». Но Бержер втолкнул его в ванную вместе с чемоданом, сказав: «Приведи себя в порядок здесь, а я разденусь в комнате». Люсьен вымыл ноги и подмыл зад. Ему захотелось в туалет, но не решился выйти и помочился в раковину; потом надел ночную рубашку, домашние туфли, которые одолжил у матери (его собственные совсем сносились), и постучал. «Вы готовы?» – спросил он. «Да, да, входи», – Бержер был в черном халате накинутом на светло-голубую пижаму. В комнате пахло одеколоном. «Здесь только одна кровать?» – спросил Люсьен. Бержер не ответил: он ошалело уставился на Люсьена. И наконец громко расхохотался. «Ты что, в одной рубахе? – рассмеялся он. – А куда ночной колпак дел? Ну нет, ты меня уморишь. Я хочу, чтоб ты посмотрел на себя».– «Уже два года, – обиженно сказал Люсьен, – я прошу мать купить мне пижаму». Бержер подошел к нему: «Ладно, снимай все это, – сказал он тоном, не терпящим возражений, – я дам тебе одну из моих. Тебе она великовата, но лучше же, чем это». Люсьен стоял как вкопанный посреди комнаты, не сводя глаз с красных и зеленых ромбов на обоях. Он предпочел бы вернуться в ванную, но боялся сойти за дурака; резким движением он снял через голову рубашку. На мгновение воцарилась тишина: Бержер, улыбаясь, смотрел на Люсьена, и до того вдруг дошло, что он стоит посреди комнаты нагишом, в материнских тапочках с помпончиками. Он смотрел на свои руки – большие руки Рембо, ему хотелось прижать их к животу, хотя бы прикрыть свой срам. Но, спохватившись, храбро убрал их за спину. На стенах между рядами ромбов были разбросаны редкие фиолетовые квадратики. «Честное слово, – сказал Бержер, – он чист, как девственница, посмотри на себя в зеркало, Люсьен, даже грудь у тебя покраснела. Но так ты лучше смотришься, чем в своей рубахе». – «Да, – сказал Люсьен, делая над собой усилие, – если ты нагишом, трудно сохранять пристойный вид. Дайте-ка мне пижаму». Бержер швырнул ему шелковую, пахнущую лавандой пижаму, и они легли в кровать. Воцарилось тягостное молчание. «Мне плохо, – сказал Люсьен, – меня тошнит». Бержер молчал, отрыжка Люсьена пахла виски. «Он переспит со мной», – решил он. И ромбы на обоях закружились, а удушливый запах одеколона сдавливал ему горло. «Я не должен был соглашаться на эту поездку». Ему не повезло; раз двадцать в последнее время он был на волосок от того, чтобы понять, чего хотел от него Бержер, и всякий раз, как нарочно, какая-нибудь случайность отвлекала Люсьена от этих мыслей. А теперь вот он лежал в постели с этим типом и ждал, что тому захочется с ним сделать. «Я возьму подушку и пойду спать в ванную». Но он не осмелился: он подумал об ироническом взгляде Бержера. Люсьен засмеялся. «Я думаю о той проститутке, – сказал он, – она, наверно, до сих пор чешется». Бержер по-прежнему молчал; Люсьен наблюдал за ним краешком глаза: тот лежал на спине с беспечным видом, заложив руки за голову. Дикая ярость охватила Люсьена, он приподнялся на локте и спросил: «Ну и чего вы ждете? Вы что, привезли меня сюда, чтобы заниматься пустяками?»
Но он не успел пожалеть о своей фразе; Бержер повернулся и взглянул на него с веселым удивлением: «Посмотрите-ка на эту потаскушку с личиком ангела. Постой, малыш, я тебя ни о чем не просил; ты сам рассчитываешь на меня, чтобы я расстроил твои жалкие чувства». Он смотрел на него с минуту – лица их почти соприкасались, – потом обнял Люсьена и стал гладить под пижамой его грудь. Это не было неприятно, лишь слегка щекотно, но Бержер был страшен: лицо его приняло идиотское выражение, и он хрипло повторял: «Стыда у тебя нет, свинюшка, стыда у тебя нет, свинюшка!» – словно звукозапись, которая сообщает на вокзалах об отправлении поездов. Рука Бержера, напротив, казалась резвой и легкой, почти одушевленной. Она нежно касалась сосков Люсьена: так ласкает теплая вода, когда садишься в ванну. Люсьену хотелось бы схватить эту руку, оторвать ее от себя, но Бержер лишь рассмеялся бы: «Тоже мне девочка». Рука медленно сползла по его животу и задержалась, развязывая поясок, на котором держались пижамные брюки. Люсьен не противился: он отяжелел и обмяк, словно мокрая губка, и испытывал жуткий страх. Бержер отбросил одеяло, положил голову на грудь Люсьену, как будто хотел прослушать его. Люсьен два раза рыгнул, во рту стало кисло, он боялся, что его стошнит прямо на эти красивые седые волосы, которые выглядели так благопристойно. «Вы давите мне на желудок», – сказал он. Бержер чуть приподнялся и просунул руку Люсьену за спину; другая рука больше не ласкала его, она трепала его. «У тебя хорошенькая попочка», – вдруг сказал Бержер. Люсьену казалось, что ему снится кошмар. «Вам нравится?» – кокетливо спросил он. Но Бержер вдруг отпустил его и с досадой поднял голову. «Чертов маленький обманщик, – вскричал он в ярости, – хочет корчить из себя Рембо, а я больше часа корячусь тут с ним, а он лежит, как полено». Слезы бессилия выступили на глазах у Люсьена, и он изо всех сил оттолкнул Бержера. «Я не виноват, – сипло сказал он, – вы меня напоили, меня тошнит». – «Ну ладно, иди, поблюй, – сказал Бержер, – и не спеши». Затем процедил сквозь зубы: «Хорош вечерок!» Люсьен подтянул пижамные брюки, накинул черный халат и вышел. Заперев дверь туалета, он почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что навзрыд заплакал. Платка в кармане халата не оказалось, он вытер глаза и нос туалетной бумагой. Тщетно он пытался засунуть два пальца как можно глубже в рот, его так и не вырвало. Он машинально спустил брюки и, дрожа от холода, сел на унитаз. «Подлец, – думал он, – подлец!» Он был жестоко унижен, но не мог понять, чего он стыдился больше – того, что терпел ласки Бержера, или того, что они его ничуть не возбудили. Из коридора с другой стороны двери доносилось легкое поскрипывание, и при каждом звуке Люсьен вздрагивал, но он не решался вернуться в комнату. «И все же надо идти, – думал он, – надо, иначе он уйдет от меня… к Берлиаку!» Он уже привстал, но сразу же перед ним снова возникло лицо Бержера, с глупым видом повторяющего: «Стыда у тебя нет, свинюшка!» Он в отчаянии вновь рухнул на унитаз. Но вот наконец его страшно пронесло, что несколько успокоило Люсьена. «Все вышло снизу, – думал он, – так для меня даже лучше». И действительно, тошнота прошла. «Он сделает мне больно», – вдруг подумал он, и ему почудилось, что сейчас он упадет в обморок. В конце концов Люсьен так продрог, что громко лязгал зубами; он подумал, что может простудиться, и поспешно встал. Когда он вернулся в комнату, Бержер встретил его каким-то скованным взглядом; он курил сигарету, пижама его была расстегнута, и был виден его худой торс. Медленно сняв халат и туфли, не сказав ни слова, Люсьен скользнул под одеяло. «Порядок?» – спросил Бержер. Люсьен пожал плечами: «Я замерз!» – «Ты хочешь, чтобы я тебя согрел?» – «Попробуйте», – предложил Люсьен. И в это мгновение почувствовал, как его расплющивает огромная тяжесть. Мягкий и влажный, как сырой бифштекс, рот приклеился к его губам. Люсьен ничего уже не понимал, не соображал, где находится, и с трудом дышал, но ему было приятно, потому что он согревался. Он вспомнил госпожу Бесс, которая, нажимая ему рукой на животик, называла его «куколкой», и Эбрара, прозвавшего его «длинной спаржей», и о том, как он мылся по утрам в тазу, представляя себе, что господин Буфардье войдет с минуты на минуту, чтобы подмыть его, и сказал себе: «Я куколка!» В это мгновенье Бержер издал торжествующий крик. «Наконец-то ты решился! Сейчас, – сопя, прибавил он, – мы с тобой кое-чем займемся». Люсьен сам снял пижаму.
Назавтра они проснулись в полдень. Гарсон принес им завтрак в постель; Люсьену показалось, что у него надменный вид. «Он принимает меня за педика», – подумал он, вздрогнув от огорчения. Бержер был очень любезен: он оделся первым и вышел покурить на площадь Вье-Марше, пока Люсьен принимал ванну. «В сущности, – думал Люсьен, старательно растирая тело банной перчаткой, – все это скучно». Первый страх прошел, и, когда он убедился, что это не так больно, как ему казалось, он погрузился в глубокое уныние. Он надеялся, что все это позади и он сможет поспать, но Бержер не оставлял его в покое до четырех часов утра. «Мне все-таки надо будет решить мою задачу по тригонометрии», – сказал он себе. И старался больше не думать ни о чем, кроме своей работы. День был долгим. Бержер рассказывал ему о жизни Лотреамона, но Люсьен слушал его не очень внимательно; Бержер слегка раздражал его. На ночь они остановились в Кодебеке, и Бержер долго донимал Люсьена своими ласками, но около часа Люсьен решительно объявил, что хочет спать, и тот, совсем не обидевшись, дал ему уснуть. К вечеру они уже были в Париже. В общем, Люсьен остался собой доволен.
Родители встретили Люсьена с распростертыми объятиями. «Ты хоть поблагодарил как следует господина Бержера?» – спросила мать. Поболтав с ними немного о нормандских равнинах, он рано лег спать. Спал он, как ангел, но, проснувшись, почувствовал, что внутри у него все дрожит. Он встал и долго разглядывал себя в зеркале. «Я – педераст», – сказал он себе. И что-то в нем надломилось. «Люсьен, вставай, – послышался за дверью голос матери, – тебе сегодня в лицей». – «Да, мама», – послушно ответил Люсьен, но присел на постель и стал рассматривать большие пальцы на ногах. «Это несправедливо, я не отдавал себе отчета, я… у меня не было опыта». Эти пальцы сосал мужчина; Люсьен в ярости отвернулся: «Он-то все знал. То, что он заставлял меня делать, имеет название – это называется спать с мужчиной, и он знал это». Странно – Люсьен горько усмехнулся – можно было целыми днями терзаться вопросами, умный ли ты, не зазнайка ли, но так и не прийти к ответам. И наряду с этим существуют ярлыки, которые в одно прекрасное утро приклеивают вам, и приходится носить их всю жизнь; Люсьен, например, высокий блондин, похож на отца, единственный сын, а со вчерашнего дня – педераст. О нем будут говорить: «Флерье, вы знаете его, тот высокий блондин, которому нравятся мужчины». И люди будут отвечать: «Ах да! Этот педик? Очень хорошо знаю, что он за птица».
Он оделся и вышел, но сердце не лежало идти в лицей. Он спустился по улице Ламбаль к Сене и пошел по набережным. Небо было чистым, улицы пахли свежей листвой, асфальтом и английским табаком. Идеальная погода, чтобы носить свежую одежду на чистом теле с обновленной душой. Все люди выглядели нравственно здоровыми, и только Люсьен чувствовал себя в эту весну подозрительным и странным. «Это роковой путь, – думал он, – начал я с Эдипова комплекса, потом стал садистско-анальным типом, теперь – дальше ехать некуда – педерастом, и куда он меня заведет?» Конечно, в его случае все было еще не так серьезно; он не испытывал большого наслаждения от ласк Бержера. «Ну а если я к этому привыкну? – со страхом думал он. – Я без этого жить больше не смогу, ведь это, как морфий!» Он станет порочным человеком с клеймом, никто больше не пожелает его принимать, рабочие его отца будут смеяться над ним, если он попытается приказать им что-то. Люсьен снисходительно вообразил свою ужасную судьбу. Он видел себя в тридцать пять лет, накрашенного и жеманного, и то, как господин с усами и орденом Почетного Легиона с грозным видом замахивается на него тростью: «Ваше присутствие здесь, мсье, – это оскорбление для моих дочерей». И вдруг он пошатнулся, мгновенно прекратив эту игру: ему вспомнилась одна фраза Бержера. Это было ночью в Кодебеке. Бержер воскликнул: «Скажи-ка! А ты входишь во вкус!» Что он имел в виду? Люсьен, разумеется, не был бесчувственным поленом и благодаря любовной возне… «Это ничего не доказывает, – с тревогой убеждал он себя. – Но говорят, что у этих людей необыкновенное чутье на себе подобных, это как шестое чувство». Люсьен долго разглядывал полицейского, который регулировал движение перед Иенским мостом. «Неужели этот полицейский может меня возбудить?» Он смотрел на синие брюки полицейского и представлял себе его мускулистые и волосатые ляжки: «Разве это хоть как-то действует на меня?» И он пошел дальше, слегка успокоившись. «Это не так серьезно, – думал он, – я еще могу спастись. Он злоупотребил моим смятением, но я – не настоящий педераст». Он повторял свой эксперимент со всеми мужчинами, которые шли ему навстречу, и всякий раз результат оказывался отрицательным. «Уф! – вздохнул он. – Хорошо, что я счастливо отделался!» Это было предупреждение, и только. Но повторять этого не следовало, так как дурные привычки легко приобретаются и к тому же ему необходимо срочно излечиться от своих комплексов. Он решил, что тайком от родителей подвергнется психоанализу у специалиста. Потом заведет любовницу и станет нормальным мужчиной.
Люсьен начал успокаиваться, как внезапно вспомнил о Бержере: в это самое мгновение Бержер находиться где-то в Париже, очарованный самим собой; голова его была полна воспоминаний: «Он знает мое тело, ему знакомы мои губы, он говорил мне: „У тебя такой запах, что я никогда его не забуду“; хвастаясь перед своими друзьями, он скажет: „Я поимел его“, точно я девка какая-то. И, может быть, именно сейчас он рассказывает о своих ночах… – У Люсьена замерло сердце – Берлиаку! Если он сделает это, я убью его; Берлиак меня ненавидит, он расскажет об этом всему классу, и тогда я пропал, ребята откажутся пожимать мне руку. Я скажу, что это неправда, – исступленно убеждал себя Люсьен, – подам в суд, буду утверждать, что он меня изнасиловал!» Всем своим существом Люсьен ненавидел Бержера: не будь его, не будь этого непристойного и несправедливого сознания, все могло бы уладиться, никто ничего не узнал бы, а сам Люсьен со временем забыл бы об этом. «Если бы он мог внезапно умереть! Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы он умер сегодня ночью, ничего не успев никому рассказать. Господи, сделай так, чтобы вся эта история была похоронена, ты не можешь желать, чтоб я стал педерастом! Во всяком случае, у него на крючке! – в бешенстве думал Люсьен. – Мне придется вернуться к нему, исполнять все его прихоти, да еще говорить, что все это мне нравится, иначе я погиб!» Он прошел еще несколько шагов и из предосторожности прибавил: «Господи, сделай так, чтобы Берлиак тоже умер». Люсьен не мог набраться смелости вернуться к Бержеру. В течение последующих недель ему чудилось, что он повсюду его встречает, а когда он работал в своей комнате, то вздрагивал при каждом звонке в дверь; по ночам его терзали жуткие кошмары: Бержер насиловал его посреди двора лицея Святого Людовика, все «поршни» стояли тут же и, гогоча, за ними наблюдали. Но Бержер не сделал никакой попытки увидеться с ним и не подавал признаков жизни. «Он хотел только моей плоти», – с обидой думал Люсьен. Берлиак тоже куда-то исчез, и Гигар, который иногда по воскресеньям ходил с ним на скачки, утверждал, что Берлиак покинул Париж вследствие приступа нервной депрессии. Люсьен постепенно успокоился: его поездка в Руан казалась ему смутным и нелепым сном, не имеющим никакого отношения к жизни; почти все ее подробности он уже забыл и помнил только спертый запах плоти и одеколона, ощущение невыносимой скуки. Господин Флерье несколько раз спрашивал, куда девался его друг Бержер: «Нам надо пригласить его в Фероль, чтобы поблагодарить». – «Он уехал в Нью-Йорк», – ответил наконец Люсьен. Иногда вместе с Гигаром и его сестрой он катался на лодках по Марне; Гигар научил его танцевать. «Я пробуждаюсь, – думал он, – рождаюсь заново». Но довольно часто он чувствовал какую-то тяжесть в спине, словно мешок давил: это были его комплексы; он спрашивал себя, не следует ли ему поехать к Фрейду в Вену. «Я поеду без денег, если надо, пойду пешком, я скажу ему: у меня нет ни гроша, но я – исключительный случай». Как-то в жаркий июньский день он встретил на бульваре Сен-Мишель Бабуэна, своего старого преподавателя философии, «Ну что, Флерье, – спросил Бабуэн, – готовитесь к Центральной?» – «Да, мсье», – ответил Люсьен. «Вы, – сказал Бабуэн, – могли бы заняться и литературой. Вам легко давалась философия». – «Я и не бросал ее, – сказал Люсьен. – Я кое-что прочел в этом году, Фрейда например. Кстати, – прибавил он, охваченный вдохновением, – я хотел бы спросить вас, мсье, что вы думаете о психоанализе?» Бабуэн рассмеялся. «Это просто мода, – ответил он, – которая скоро пройдет. Все, что есть лучшего у Фрейда, можно найти уже у Платона. Что касается остального, – добавил он не терпящим возражений тоном, – то я заявляю вам, что не верю в эти глупости. Читайте лучше Спинозу». Люсьен почувствовал, как огромный камень свалился у него с души; домой он возвращался пешком, что-то насвистывая. «Это был кошмар, – думал он, – но теперь от него ничего уже не осталось!» Солнце в этот день было резким и жарким, но Люсьен поднял голову и, не мигая, поглядел на него: солнце принадлежало всем, и Люсьен имел право смотреть на него в упор; он был спасен! «Глупости! – думал он, – это были глупости! Они пытались испортить меня, но я им не дался». Действительно, он всегда оказывал сопротивление: Бержер заморочил ему голову своими разглагольствованиями, но Люсьен, к примеру, сразу же почувствовал, что педерастия Рембо – это порок, а когда эта козявка Берлиак хотел заставить его курить гашиш, он послал его куда подальше. «Я едва не погиб, – думал он, – и меня спасло лишь мое нравственное здоровье!» Вечером, за ужином, он с любовью смотрел на отца. У господина Флерье были широкие плечи, тяжелые и медлительные жесты, как у крестьянина, хотя в нем чувствовалась порода, и серые, металлические и холодные глаза хозяина. «Я похож на него», – думал Люсьен. Он вспомнил, что Флерье – и деды, и внуки, – целых четыре поколения, были хозяевами фабрик. «Что ни говори, а семья есть семья!» И он с гордостью думал о нравственном здоровье семьи Флерье. Люсьен решил не поступать в этому году в Центральную Школу, и Флерье очень рано отправились в Фероль. Люсьен с восторгом вновь обрел дом, сад, завод, маленький городок, такой спокойный и безмятежный. Это был другой мир, он решил рано вставать и совершать долгие прогулки по окрестностям. «Я хочу, – сказал он отцу, – надышаться чистым воздухом и запастись здоровьем на будущий год, перед тем как впрячься в работу». Он вместе с матерью нанес визит семействам Буфардье и Бесс, и все сочли, что он стал взрослым юношей, разумным и степенным. Эбрар и Винкельман, изучавшие право в Париже, тоже приехали на каникулы в Фероль. Люсьен проводил время вместе с ними, и они вспоминали, как разыгрывали аббата Жакмара, чудесные прогулки на велосипедах и пели на три голоса «Артиллериста из Метца». Люсьену очень пришлась по душе грубоватая искренность и основательность его старых друзей, и он упрекал себя в том, что забыл о них. Он признался Эбрару, что терпеть не может Париж, но Эбрар не мог этого понять: родители отдали его на попечение какому-то аббату, который глаз с него не спускал; Эбрар был ошарашен посещением Лувра и вечером, проведенным в Опере. Такая простота умилила Люсьена; он чувствовал себя старшим братом Эбрара и Винкельмана и начинал внушать себе, что он не жалеет о своей такой мучительной прошлой жизни: ведь он приобрел опыт. Он рассказал им о Фрейде и психоанализе, немного забавляясь тем, что сильно их шокировал. Они резко критиковали теорию комплексов, но их возражения были наивными, что Люсьен им и доказал, добавив, кстати, при этом, что с философской точки зрения очень легко можно разоблачить все ошибки Фрейда. Они восхищались им, но Люсьен делал вид, что не замечает этого.




