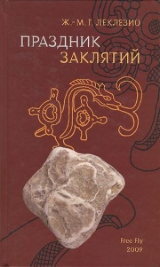
Текст книги "Праздник заклятий. Размышления о мезоамериканской цивилизации"
Автор книги: Жан-Мари Гюстав Леклезио
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Три празднества в Мексике

Гроза в Сан-Хосе
Неспешные волны высоких гор окружают плато, погрузив в тишину, меняют его природу, делая островом в океане. Дорога в Сан-Хосе-де-Грасиа ведет к небу, от асьенды Гуарача устремляясь прямо в облака. Таковы все места, в какой-либо степени отмеченные святостью: они изолированы от мира, окружены одиночеством и ветром и располагаются очень высоко, у самого неба. Как страна индейцев хопи, как горы Хоггар, даже город Лаон…

Подъезжая к Сан-Хосе-де-Грасиа, замечаем, что на западе собирается гроза. Небо так просторно, что видно все. Невероятные контуры тяжелых бело-черных облаков, сталкивающихся, словно скалы, или продирающихся между горными вершинами на восток, к Чапальской лагуне. В черных нагромождениях туч исчезли поросшие лесом склоны и утонули дома деревни Масамильта.
И грянула гроза на западе, превратившись в дерево, ствол которого – дождь – крепко упирается в горные расщелины, запускает туда пальцы воды, словно длинные корни. Серо-черные тучи становятся прекрасной и пышной кроной, а падающая вода сливается в сплошной полупрозрачный поток, беззвучный водопад, соединяющий землю с небом.

Вот и въезд в селение, прямо за поворотом, у самых небесных врат.
Когда впервые видишь Сан-Хосе-де-Грасиа, прежде прочего удивляет вот что: каждая улица ступенями уходит вверх, в пространство. Все, что здесь ни есть, соседствует с тучами. Быть может, все это способно исчезнуть, раствориться в их темной дымке. Или наоборот: здесь все ближе к солнцу и лазури.
Здесь познаешь тишину дня, неповторимое дневное молчание высокогорья. И вечерний шум: журчанье воды, шелест ветра, звук шагов на каменных мостовых, скрежет колес запыхавшихся тяжелых грузовиков, что сумели вскарабкаться так высоко. Или полет колибри вокруг красных цветов фуксии, жужжание пчел над цветками, прозванными здесь «хуан-грубиян». Запах мокрой земли, прелый дух в холодных комнатах, раскаты грозы за глинобитными стенами. Еще можно смотреть, как движутся тени от высоких столбов внутри дома, поддерживающих крышу. Время здесь другое, оно – длящееся.

Это страна лошадей, а не только людей. То же и в других районах Мексики, где сохранился традиционный уклад: человек за любым поворотом готов превратиться в кентавра. Подъезжаешь к селению – откуда ни возьмись крестьянин на своем гнедом «тихоходе». Перед ним на передней луке деревянного седла (которое здесь называют «silla», стул – и правда похоже), вцепившись ручонками в гриву, сидит трех-четырехлетний сын. Всадник индейского типа, с широким лицом, испещренным жесткими морщинами, похожими на шрамы. На лошади он сидит по-простецки, не гарцуя, но с естественной грацией, отличающей людей, связанных с землей. Присвистнув, пускает лошадь вперед. Он счастлив: в горах западнее Сан-Хосе-де-Грасиа бушует гроза, вырастив гигантское древо дождя с кроной из облаков.
Все это нравится ему и, конечно, его сыну, а может, это небезразлично и земле на плато, растрескавшейся от жажды, и скоту на иссохших склонах, заждавшемуся свежей травы. Горные отроги сочатся водой, она течет по ущельям, красная, будто от крови, и наполняет лужи у подножья холмов. Всадник съезжает с асфальтированной дороги на проселок, идущий по ложу высохшего потока. И неспешно трусит вниз, к глинобитному домику в конце тропы, окруженному зарослями гигантской кукурузы.

Чуть ниже, на самом краю деревни, два всадника остановились у лавочки, где продают легкие закуски. Не спешиваясь, они уплетают тортильи с мясом и стручковым перцем. Лошади переступают, цокая копытами и подергивая искусанной мухами кожей. К седлам приторочено пастушеское снаряжение: лассо, ремни, сумки.
Сан-Хосе-де-Грасиа – деревня животных, не только людей. Везде – пахучая навозная жижа, мухи, свежеснятые кожи. Но и молоко, белый сыр, «хокок» – йогурт, приготовленный из сквашенных сливок. Жители Сан-Хосе неравнодушны к молоку, что свойственно горцам; нечто древнее и подлинное проступает в их тяге к стручковому перцу, печеной тыкве и индейскому меду. Может, здесь глубокий отзвук первой встречи Америки с Западом? Молоко и стручковый перец – союз между скотоводческими племенами неолитической Европы и открывателями кукурузы и пряностей из неолитической Америки. Все остальное нетрудно додумать, сидя в Сан-Хосе-де-Грасиа рядом с одинокими горными вершинами, ведь именно на такой же высоте в начале XIV века возникла горделивая столица, Мехико-Теночтитлан, где накладывались друг на друга, исподволь перемешиваясь, секреты и тайны древнейших народов земли.

Нежные, древнего рисунка черты юноши, ведущего ослов, груженных бидонами с молоком, от ранчо Вердолагос до лавчонок в Сан-Хосе. Далекое, таинственное, замкнутое лицо, за ним – навсегда исчезнувший индейский народ, империя тарасков, во времена Конкисты уничтоженная огнем и мечом, голодом и болезнями. Черты чуть стерты, как камни в ручье; обращенный в себя взгляд, который бедность предков сделала непроницаемым.
Очень белые лица сельских стариков, худые и высокомерные, в тени стародавних широкополых шляп; белые шерстяные серапе, кожаные сандалии цвета старого навоза… Бледное лицо дона Анатолио, старого индейца, никогда не отводящего взгляда. Глаз хищной птицы, глаз стрелка, который всаживает револьверную пулю в пустую гильзу, положенную на стену.
Такое же странное несоответствие заметно в лице Луиса Гонсалеса [48]48
Луис Гонсалес – мексиканский историк, автор многочисленных трудов, посвященных работам хронистов от XVI века до мексиканской революции. Его эссе в жанре микроистории «Pueblo en vilo» опубликовано во Франции под названием «Les barrieres de la solitude» (Plon, Paris).
[Закрыть], историка, писателя, наследника основателей Сан-Хосе: густо-черные, жесткие индейские волосы, высокие скулы, миндалевидные глаза, широкие плечи и развитая грудная клетка, обычные у тех, кто рожден на высоте в две тысячи метров над уровнем моря. И некоторые другие черты, вероятно унаследованные от испанского еврея и мулатки, тоже числящихся в предках. Опять смесь молока и стручкового перца, теплого и холодного, ледяных европейских гор и мичоаканских вулканов.
Вселенная дона Луиса – тут, в горах, она состоит из частей здешнего микрокосма. Словно человеческая история со всем ее громоздким багажом должна была обязательно пройти по узкой дороге к плоскогорью, что извивается, уводя все выше и выше, до самого «островка», описанного в трактате историка («Pueblo en vilo»), до того селения, почти подвешенного в центре мироздания, где от самого горизонта на тебя накатывают далекие горные валы.
Быть может, один только Сан-Хосе-де-Грасиа и спасется, когда наступит новый потоп?

Танец в Сан-Хуане-Парангарикутиро, Мичоакан
Рассказывают, что священник Сан-Хуана получил приказ из канцелярии епископа: необходимо прекратить скандал. Целая толпа этих людей, индейцев, стеклась со всего Мичоакана и даже из соседних штатов, чтобы принять участие в отправлении своего языческого ритуала: в семенящем танце перед алтарем Иисуса Христа. Ну, это уж слишком! Такого нельзя было допустить. Священник повесил запрещающую табличку. Отныне никому не дозволялось танцевать в церкви. Казалось, теперь все в порядке. Но однажды ночью священника разбудил какой-то звук. Со стороны церкви доносился знакомый глухой ропот. И вдруг он понял. Индейцы нарушили запрет. Им удалось взломать дверь церкви, и теперь они там танцевали! Не помня себя от гнева, священник выскочил из дома и побежал в церковь. Он торопливо растворил дверь, зажег лампы. Но церковь была пуста, в ней стояла тишина. Думая, что стал жертвой галлюцинации, священник вернулся к себе, чтобы лечь в постель. В ту же секунду звук возобновился. Где-то поблизости очень тихо, ритмично притоптывали ноги индейцев.
Все это повторилось раз десять или двадцать. И внезапно священника осенило: Христу Сан-Хуана-Парангарикутиро, тому самому, всесильному, что остановил поток разлившейся лавы во время извержения вулкана Парикутин, не понравилось решение епископа. Христос хотел, чтобы в его церкви продолжали танцевать, такая молитва пришлась ему по сердцу более прочих. После этого церковь вновь открыла свои двери танцующим, и с тех пор их никто не останавливал.

Стало быть, этот звук ему полюбился, так, а не по-иному, с ним хотели говорить люди, и в его ушах их топотание звучало сладчайшей музыкой, только оно было способно утишить муки Распятого. Да, шум от босых ног, подпрыгивающих почти на одном месте, в центральном пролете храма; три шажка вперед, два назад. Никто ни слова не говорит, никакой музыки, никаких молитв. Только этот мягкий звук – ноги, шлепающие по полу, мужские, женские, детские. Чуть наклонившись вперед, словно им нужно что-то прочесть, с локтями, прижатыми к бокам, индейцы, молодые и старые, вприпрыжку подступали все ближе к алтарю, а дойдя до какой-то невидимой черты, расходились в стороны и, так же пританцовывая, возвращались в задний ряд.

Снаружи жгучее солнце бьет в полотняные навесы ярмарочных ларьков, где прихожане храма и продавцы, праздношатающиеся гуляки и карманники, бывалые перекупщики и разевающие от удивления рты крестьянки из Танакилло и Ауирана толкаются, переходя от прилавка к прилавку. Автобусы подъезжают один за другим, выгружают паломников. По площади слоняются люди, прибывшие со всех концов Мексики. Пурепеча из Месеты или с берегов Пацкуаро, масауа, науа, отоми, мексиканцы из Шочимилько… На рынке, непосредственно примыкающем к церкви, им всем надо что-то продать или купить. Индеанки-тараски из Тарекуато сидят на корточках перед своими ведерками с чайотой («мексиканским огурцом»), перезревшими грушами или плодами авокадо, черными и мелкими, словно маслины. Женщины из племени масауа проводят часы, неподвижно сидя возле прилавков, где разложены образцы расшитой ткани. С другой стороны сьерры на автобусах понаехало множество «хакалерос», горшечников, которые все перекладывают с места на место свои горшки и плошки, демонстрируя качество обжига. Дети тискают куколок из кукурузы и, устав, засыпают, притулившись в тени какого-нибудь пластмассового бидона. А у стены базилики расположились лагерем не претендующие на комфорт усталые паломники, они созерцают рыночную суету и готовятся пуститься в молитвенный пляс перед Христовым алтарем.

К четырем часам дня из-за дверей церкви раздаются глухие удары тепонацтля [49]49
Тепонацтль – большой барабан, употребляемый в музыке «кончерос», бродячих оркестров, пришедших из культуры ацтеков.
[Закрыть], от которых подрагивает земля под ногами… Они разносятся далеко, аж до той маленькой площади, где духовой оркестрик наигрывает польки. Индейский барабан бросает свой властный и мощный клич. А внутри церкви теснится плотная толпа, медленно кружащаяся вокруг «кончерос» – тех, кто заняты в ритуальном танце. Паломники, подойдя к алтарю, почти тотчас отходят к паперти, где «кончерос» с павлиньими перьями в волосах танцуют под звуки барабана. Удары тепонацтля гулко отдаются под сводами, стуча, словно сердце великана, и подчиняя своей пульсации тела верующих. Даже не глядя на «кончерос», мужчины, женщины и дети танцуют в церкви, плечом к плечу, с отрешенными лицами. Барабан ускоряет ритм. Удары все чаще, все оглушительней, пока все не сливается в долгую дробь, напоминающую то землетрясение, во время которого полвека назад рождался Парикутин. Плюмажи «кончерос» содрогаются где-то в центре храма, прямо под взглядом Христа. Но барабанная дробь вдруг разом обрывается, наступает тишина, словно сердце церкви остановилось. И тут под сводами нефа становятся слышны тонкие и резкие, будто голоса маленьких девочек, возгласы «кончерос», звучащие под всхлипы мандолин. Это и песня, и молитва, исступленная и нереальная, словно пришедшая из древних веков. До слуха долетает теперь и звон бубенцов на ногах танцоров, и снова – мягкое шлепанье индейских босых подошв. А прямо к небу возносится ладанный дух копала.

Но вот деревянный барабан грохочет вновь, павлиньи перья продолжают трепетать. Здесь, в церкви Сан-Хуан-Парангарикутиро, может быть, – самое главное место в мире. А солнце за стенами храма уже касается сельских крыш. Но теперь оно обжигает все, что ранее пряталось под навесами, и больно бьет по усталым детским глазам. Ближние улицы усеяны объеденными кукурузными початками. В лужах загнивает вода. К запаху горелого масла примешивается вонь от мочи, а вдалеке на дорогах уже снова рычат моторы грузовиков и автобусов.
В Мексике мечты длятся бесконечно, как прыжки здешних танцоров.

Кукурузная месса в Чун-пом, Кинтана-Роо
Люди сидят под большим хлопковым деревом, они глядят прямо перед собой, туда, где среди кукурузных полей полукругом раскинулось их селение, а за ним темнеет в густеющих сумерках лес. Селение сейчас похоже на мираж со своими глинобитными стенами, выбеленными известкой, и крышами из пальмовых листьев. В северном конце площади – дом Стражей и храм крестов. Женщины собрались у дома Стражей, они стоят в пыли на коленях и мелют кукурузу в ручных мельницах, повторяя все одни и те же размеренные движения, исполненные глубокого смысла. У другого конца площади приготовлены кухни: каждая представляет собой три больших камня, угли под ними краснеют в темноте. Везде уже разносится запах копала и похлебки из тыквенных семечек. Совершенно голые дети бегают под последними лучами солнца. Слышно похлопывание ладоней, готовящих тортильи, – как услышишь эти рукоплескания, сразу хочется есть.
Мужчины целыми часами сидят в тени, пьют «священное вино бальче» из коры одноименного дерева со слабыми наркотическими добавками, баночное пиво или палому – смесь анисовой водки с водой. Рядом под навесом, крытым пальмовыми листьями, радиоприемник, дребезжа, наяривает лихую колумбийскую кумбию. Чуть поодаль в тенистом переулочке стоит старик в белой пижаме и выводит на уастекской скрипке тоненькую мелодию, впрочем, никто его не слушает. Порой музыка отдаляется, скрипка замолкает, женщины перестают работать, и тогда слышится странное поскрипывание, шелест, может, так шумит свет… Солнце тихо садится в красный туман над копаловой рощей.
Когда смеркается, люди направляются к дому Сегундино Коха, прихватив с собой глиняные плошки. Образуется целое шествие, несколько беспорядочное и пьяноватое, а впереди бегут оголодавшие псы. Все движутся к церкви, с ними даже небольшой оркестр: скрипка, гитаррон – огромная мексиканская гитара – и большой барабан. Старики шествуют впереди, все в белом, в сандалиях из сизаля.
Босоногие юноши вступают в храм. Они принесли плошки с мясом, похлебкой из тыквенных семечек и тортильями и теперь ставят их перед главным крестом, окутанным вышитым покрывалом. Слева от крестов – пустое кресло, украшенное цветами гибискуса. В церкви царит густая темень, дым копала делает ее еще непроглядней. Огоньки лампад в потемках мерцают красным, словно собачьи глаза. Коленопреклоненные мужчины, женщины и дети шепчут молитвы, раскинув руки крестом. Их шепот уплотняется, набирает силу, становится мощным, как порывы ветра, и тяжелым, словно гром. Священник стоит перед самым большим крестом, закутанным в покрывало. Сам настоятель тоже облачен в длинную рубаху, расшитую красными цветами. Он говорит с крестом, который высится над ним, словно великан, обращается к статуям, одетым в голубые и пурпурные наряды. Затем преклоняет колени перед пустым троном. Те из прихожан, что принесли плошки с едой, поочередно наклоняются над коленопреклоненными старцами, что-то шепчут им на ухо, какое-то тайное послание. Может статься, все свершится этой ночью. Быть может, именно сегодня владыка должен вернуться: задрапированный в циновку, он появится на центральной площади селения. И тогда Стражи вновь возьмутся за оружие (а на вооружении у них однозарядные ружья, проданные англичанами из Белиза) и освободят майя-крусоб – «крестовых майя» – от гнета уачей, то есть мексиканцев.
Люди выходят на площадь перед храмом. Там уже собрались все селяне, к ним присоединились жители Кинтаны-Роо, пришедшие из Тулума, Чанкаха, Тишкакаля, Шхасиля, Тиосуко. Усевшись в тени хлопкового дерева, они ждут. Некоторые продолжают пить свое пиво и палому. Раздается детский смех. Чересчур нервный петух прокричал невдалеке, да так резко, будто ворон каркнул.
Сумерки внезапно сменяются полной темнотой. Ночное небо – черное, блестящее, ледяное. При свете костров через площадь проходят молодые люди из числа Стражей, неся освященную пищу для большого причастия. Очень сладкие тортильи и неимоверно острая похлебка из тыквенных зерен, обжигающая, словно касание языка ягуара. Звучит музыка, взрываются несколько петард, от грохота которых, быть может, екает сердце старого Сегундино. Наверное, он вспоминает об Отделившихся, до которых войска генерала Браво так и не смогли добраться – не пробились сквозь лесную чащу. А может, ему слышатся последние слова Хуана де ла Крус Сеха, завет, что он продиктовал своему секретарю по имени Юм Поль Итца накануне падения города Чан-Санта-Крус (ныне это Филипе-Каррильо-Пуэрто):
«Есть еще одно, что я должен вам сказать, дорогие мои христиане, жители наших селений. Смотрите, каким я стал: тенью дерева, не больше, вы все, взрослые и дети, можете видеть меня таким, а кроме вас и те, кто считает себя выше других, ведь мой Господь не поставил меня рядом с богатыми, Господь мой не к генералам и военачальникам направил меня, не к тем, кто говорит, что у него много денег, или к тем, кто называет и мнит себя людьми достойными и могущественными, но указал мне Господь место рядом с бедными и несчастными, потому что и сам я беден, и Отцу моему небесному жалко меня, он любит меня, ибо воля Господа такова, что кто одарит меня, увидит, как его собственное добро прирастает. Так скажите мне, есть ли какой-нибудь другой Бог? Нет такого, и я – хозяин этого неба и этой земли, а все дети ее – мои дети, разве не так?»
Луна поднимается в черное небо, в ее лучах блестит белая пыль на площади и на дорогах. Сладкий мягкий хлеб насыщает тела людей, жгучая тыквенная похлебка горит в их жилах. Медленно, один за другим, костры гаснут. Малые дети задремывают, прильнув к матерям, а те придвигаются поближе к горячему пеплу кострищ. От ночного холода камни потрескивают, деревья зябко жмутся друг к дружке. А старый радиоприемник снова дребезжит, наяривая новую кумбию, но далеко-далеко, словно по ту сторону сновидений.

Птичий народ
«Тан-та-ли-ли, ин-па-па-па, ич-яла, ич-яла».
Песнь Несауалькойотля из Аколуакана

Дерево огромно, его темная листва металлически позванивает и посверкивает под вечерним ветром; небесный свет окружает его крону широким желтым ореолом, вблизи ярким, в отдалении мягко угасающим. Дерево стоит у обочины шоссе, ведущего в Хакону, возле кинотеатра, названного в честь Чарли Чаплина, на самом краю земли, затопляемой весенними паводками. Оно очень старое, это дерево, очень высокое, и крона его необъятна. Находятся люди, утверждающие, что его посадили по приказу императора Максимилиана. Это эвкалипт с темными листьями в форме кинжальных лезвий и с громадным стволом, от которого кора отваливается целыми пластинами. Ветви далеко отходят от ствола, и легкие листья под вечерним ветром вращаются, словно корабельные винты, а их изнанка металлически поблескивает. Днем они шумят в солнечном свете, хотя порой их заглушают моторы грузовиков. Шумят, как вода. Будто дождь идет поблизости.
Под кроной пролегло широкое шоссе, ведущее из Хаконы на запад через поля, где работают женщины и дети, но древо-великан царит над округой, в центре своей маленькой вселенной, оно созерцает лишь просторы полей да вершины далеких вулканов.
К нему-то и слетается во множестве птичий народец. В пять вечера, когда солнце клонится к вулканам, свет, струящийся с небес, изменяется тоже. Словно все накрывает полупрозрачная вуаль, почти невидимая, но ощутимая, эта легкая завеса ограждает землю от дневного жара. Она неподвижна. Люди и вещи цепенеют, обращаются внутрь себя, вал зноя нависает над миром, вот-вот накроет, и движения замирают в неустойчивом равновесии, словно вот-вот пойдут вспять.
А птицам только того и надо. Ведь в эту пору стихает ветер в древесных ветвях, не слышно шума дождя, солнце не так печет и ход дневных часов перестает давить на виски.
И они прилетают, вот все уже слетелись. Откуда? Трудно вообразить. Может, с засеянных полей, со стороны каналов или с тех земель, что южнее, от Чавинды либо Сауайо. Или с просторного зеленого мыса Эль-Платаналь у подножия горы Беаты.
Они летят тяжело, бесформенными стаями в два-три десятка, совсем не так, как безукоризненные эскадрильи диких гусей, и даже не как скворцы, которые при полете покачиваются в воздухе и вибрируют, словно рои насекомых. Нет, эти летят без ясной цели, подобно всем грабителям, каковыми они, по сути, и являются, не помышляя ни о порядке, ни о старшинстве, как вздумается, с пронзительно резкими криками. Их пиратские шайки со всех сторон слетаются сюда, быстро пересекая от горизонта видимый глазу кусок светлого неба. Они черны, того странного черного цвета, что с сиреневым отливом; по небу они скользят, широко взмахивая большими крыльями, как напуганные рыбы в водоеме, удирающие от опасности. Да, в этом поспешном бегстве чувствуется страх, каждая стая поспешает к этому дереву, будто здесь приют спасения, и, выпорхнув неведомо откуда, из иных лесов и крон, налетает разом, пронзительно вопя.
И все они стремятся к огромному неподвижному эвкалипту, растущему на обочине Хаконского шоссе.
Одна за другой стаи рассаживаются на ветвях высоко над землей. Вот уже их столько, что на подлете они волей-неволей объединяются и долго кружат вокруг дерева, образуя вихрь, бесконечно ветвящийся в небе и такой плотный, что хлопанье крыльев подчас заглушает шум моторов на шоссе и прочие звуки: журчанье воды, вздохи ветра, скрежещущий шелест листвы гигантского эвкалипта. От гортанного клекота и криков трескается небесная твердь и качается земная; чудится, будто сама крона истошно вопит, ветви бранятся меж собой, передразнивают, спорят, ссорятся, улюлюкают, перемывая друг дружке кости, а гул птичьего вихря все крепнет, ширится, грозя все смести, опустошив пространство вокруг невероятного древесного великана.
Долго ли такое длится? В этом чернокрылом торнадо времени не существует. Его течение замерло от пронзительных воплей, они остановили само движение света.
Солнце зависло, как приклеенное, на западе, над цепью вершин, над вулканом Патамбан, над Серрос Куатес, «горами-близнецами», так оно и стоит, пылая и, должно быть, обрушивая снопы искр прямо в Тихий океан. Кажется, ему больше не стронуться с места, словно птичий вихрь похитил у него всю силу, будто эта колготня черных стай отменила ход вещей и движение мысли, все остановила на земле и на небе.
Вот и Хаконская дорога странно пуста. И вся земля в закатном желтоватом сиянии кажется необитаемой. Обширные поля, улочки города, пустыри, зубчатые силуэты вулканов – все безжизненно.
Еще подлетают последние стаи, кружатся над деревом, ища, куда бы пристроиться. Но все уже занято, от верхушки до комля, от хрупких кончиков веток до их мощного основания, отходящего от огромного ствола. Тысячи черных птиц скопились тут в такой давке, что новая садится не раньше, чем другая, вытесненная соседками, взлетит, громко вопя от возмущения. Сколько их? Десять тысяч, пятнадцать, больше? Гигант дрожит и шатается под их весом, теряет листья. Что ж, он – средоточие всего сущего, в том нет сомнения, раз на нем разместился город птиц, целый народ; он – столп, поддерживающий здешние небеса. Вокруг него приютились людские жилища, вулканы, дороги, плантации помидоров и кукурузы, а еще дальше – совсем уж пустынные места, кедровые и сосновые леса, озера, обдуваемые ветрами высокогорья. Но все это лишилось смысла и силы, замерло, быть может, в ожидании, ибо сейчас птицы – единственные повелители вселенной.
В небе даже их самих уже словно бы нет, лишь мелькание белых просветов, мечущихся в толще черного вихря слепых пятен пространства, – знак того, что танец не закончен, да длинные медленные ленты на краях птичьей воронки продолжают неспешное кружение вокруг эвкалипта – вот-вот развяжется пуп небес.
И тут вдруг гомон их голосов взмывает ввысь еще оглушительнее. Все орут разом, каждая на своем. Звуки яростные, жесткие, они теснят, бьют, отпихивают друг друга. Земля меж тем коснеет в густом молчании, солнце как гвоздями прибито над вулканами в недвижном небе, только где-то на дикой высоте ветер рвет и комкает одинокое облако. Все замерло здесь – и во всех пределах земных, вплоть до далекого Тихого океана, чьи волны тоже застыли.
Крики птиц так громки, что не расслышать ничего другого. В безмерном неистовстве они вещают о себе, их речи достигают края земли и неба, ибо в сих пределах только они живы, только они властвуют. Крона дерева пухнет от их голосов, разрастается, заполняя все пустоты, улицы города, скалистые ущелья…
Но тут солнце, спохватившись, вновь пускается в путь к западу от вулкана Патамбан. Теперь это странное красное пятно, оно растет, меняя облик неба, мнет его, как шкуру зверя. Все, что застыло, оглушенное черным ураганом, оживает. Вдруг появляются люди, вон они стоят на межах своих полей, на плоских крышах домов или на улочках, вдоль которых неимоверно вытягиваются их тени. По шоссе снова снуют, поднимая пыль, тяжелые грузовики с фруктами, бутылками пепси и разным железом. Они катят навстречу ночи к большим вулканам, в сторону Сакапу, Кироги, Уруапана.
Дерево огромно, оно одиноко стоит у дороги, тысячи птиц в его листве переговариваются, толкаются и бранятся, прежде чем заснуть. Воздух прозрачен, небо чуть темнеет на востоке, и уже заметна первая звездочка, мерцающая точка в ночной голубизне. Умиротворение кружит голову, он куда как крепок, этот хмель, а все из-за дерева, где копошится птичий народец.
Да, хмель сквозит в голосах и жестах, но есть и что-то еще, таинственное, неизгладимое, оставленное в памяти этим крылатым вихрем, что на миг остановил движение мироздания.

Аундаро: небосвод
Тцакари, черный певчий дрозд, что пьянеет, наклевавшись винограда, и, как по волшебству невероятно умножившись, уподобляется дыму, клубящемуся в небе, трепещущему вихрю, где птиц больше, чем семян в полях, не говоря уж о людях, о детях и взрослых.
Кхехта, сенсотль (пересмешник)
чей голос скрипит и журчит
как сухая вода,
не увлажняющая
пыльную землю.
Малыши, насекомоядные:
Ситу,
Тцерепапа, птица с клювом, похожим на заступ
Уиуитси, птица, поедающая плоды вишни
Курхукумбатс, полосатая птичка с гребешком на голове
Тититурхи, птица с черной головой, поющая до наступления ночи
Тсерепапуире, зелено-желто-красная птичка.
Эну, Тсиауапу ури, птица с длинным клювом
Питсиката, ласточка
Мирту
Тата-Уриата, Отец-Солнце
Нана-Кутси, Мать-Луна
Тата-Хоскок'эри, Отец-Большая звезда

Эчерендо, земля
Тсирики, колибри
Завидит койота – поет
Танцует, недвижно вися перед красным цветком
Танцует и перед огнем, перед смертью танцует
Люди клана колибри одеваются в перья цвета огня, они – уитцитцилины, ведомые Уицилопочтли, великие жрецы огня в городе, чье имя Тцинтцунтцан: «Свет-от-Колибри».
Белка-летяга спасается от койота
Танец Тсикат Амбази, дикого индюка
Танец Тсауанду, полосатой куропатки
«Затем и другие люди вышли на танец, называемый «параката уарака», танец бабочек, они танцевали его во дворе, обнесенном оградой, или в домах Великих жрецов. Служитель этой богини танцевал там же, тело его обвивало чучело змея, а над ним в небе вился бумажный змей в форме бабочки» [50]50
Relation de Michoacan, op. cit., p 55.
[Закрыть].
«Кататани» – запускать воздушных змеев высоко в безоблачное небо.
Тикури – одинокая ночная сова
Она выдумывает пение флейты
И магию
Хирипуни, голубка Киритати
Зеленый дятел, выбивающий дробь
Куиристи, утка
Хапундарху, белый ибис, которого ни один яд не берет
Хуаки, ворон
Курхисти, бог-коршун,
однажды он облачится в белые одежды тхупутхупуси
и более никогда не опустится на землю
Кирхики, сокол
Куийюсх, ястреб-перепелятник, чья тень быстро скользит
по бледной траве, молчаливый разносчик смерти
похожий на расщелину в морском дне у подножья подводных вулканов
Кхууюзи, клекочущий орел, его клекот как стоны войны

Кумиечукуаро, подземный мир
……………………………








