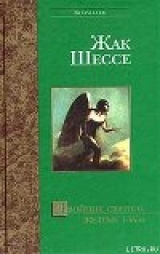
Текст книги "Желтые глаза"
Автор книги: Жак Шессе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
X
Я любил Луи, клянусь моей бородой. Конечно, такое признание выглядит безрассудно, если перед этим я вел речь о смеси гипноза и нежности. Может быть, я правда его люблю.
Может быть, меня очаровало его единственное желание? Я говорю, впрочем, об отцовской любви. Во имя Бога, я правда любил, как отец, этого грязного маленького распутника, виновного в случившихся несчастьях.
Однажды теплым вечером пастор Муари явился к нам в дом, еще более похудевший, небритый; он помолчал несколько минут, затем сказал:
– Мы уезжаем.
Я расслабился и непринужденно посмотрел на него.
– Да, мы уезжаем, и это ваша вина, господин писатель. Ваша ошибка. Вы позволили… вашему сыну… разрушить мир в моей семье. Моя жена в отчаянии, мсье. Она страдает днем и ночью. Она любит вашего сына, мсье. Любит и страдает оттого, что причиняет несчастье нам, нашим детям и мне. Мы больше не видим ее. Она… измождена. Измождена – и это ваша ошибка.
Он остановился, и я не рискнул ответить. Потом он продолжил:
– Я попросил о переводе. Мы покидаем деревню. И лучше будет, если вы не будете знать, куда мы поедем. Считайте, что это миссионерская поездка. Между нами скоро окажется много километров.
Любопытно, что в этот момент я подумал не о тоске Луи, а о страданиях Клер Муари, вынужденной расстаться с любовником и местами, где она прожила всю жизнь, чтобы отправиться восстанавливать здоровье куда-нибудь к неграм.
– Хочу попросить вас кое о чем, – добавил пастор. – Думаю… им нужно разрешить встретиться еще раз. Вы согласны, не так ли?
Я не ответил – но что я мог сказать? Сын все равно скрыл бы от меня время этого последнего рандеву.
– Ваше молчание? – настаивал господин Муари. – Должен ли я истолковать его…
– Нет. Пусть они увидятся еще раз. Но не думайте, что я стану организовывать эту встречу. Они взрослые люди…
– О!… Не надо иронии… – ответил пастор.
Его тон был обвинительным (представляю, каким тоном он говорил с супругой), и я пожалел об этом, поскольку до того момента наша беседа проходила очень спокойно. Я даже начал проникаться симпатией к моему визитеру.
Он вновь уверил меня, что ни секунды не думал о передаче этого дела судебным властям. Без сомнения, увидев, как я испуган его словами, и вероятно, подумав, что я могу ему отомстить, он уточнил, поднимаясь (если бы он знал тогда, что произойдет!):
– То, что произошло здесь, не касается людского правосудия. – Он пожал мне руку, заглянув в глаза.
Наконец он ушел, взяв с меня нелепое обещание не препятствовать возможному желанию любовников провести вместе целый день или ночь. После чего я должен был запереть Луи до отъезда семейства Муари. Мне вспомнились слова из книги Исход: «И двинулись (сыны Израилевы) из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью».[5]5
Исход, 13:20-21.
[Закрыть] О, проповеди евангелистов, призывы Божьего гнева, исступление веры Моисея, о которой сотни раз неустанно рассказывали на площадях, и потом, после проповеди моя мать тащила нас в домик местного пастора, чтобы поприветствовать его: чай, снова чай, опять чай и хлебцы, в памяти сына проповедника всегда ненавистные.
Воспоминание о соленых хлебцах вновь обратило меня к мысли о визите Муари. На самом деле он был забавным. Двое мужчин, сидящие друг против друга, шпионящие друг за другом и выжидающие. Но один из них представляет закон и уверен в ясности своих доводов, в своих правах. Конечно, он страдает, боится потерять жену, увидеть свою семью разрушенной и пытается с помощью бегства восстановить ее. С ясностью и честностью. И напротив него сидит потворствующий низости, увиливающий от правды человек. Ленивый и изворотливый писатель. Зритель. Добродетель и порок сидят друг против друга. Моя жена не обманывала меня так, как обманывала Муари его супруга. Она довольствовалась тем, что соблазняла нашего сына и испытывала от этого дурманящее головокружение. Однако была и та, другая, неверная, целомудренно любившая его плоть и страсть. Мне было стыдно, в этом можно не сомневаться. Я оказался противопоставленным чистому душой человеку, и эта ошибка – наша, моя ошибка – испортила жизнь всем. Когда я думал об этом, я сам хотел встретиться с Муари и подробно рассказать ему о своем стыде. Но я испугался попасть в смешное положение, не желая вспоминать истину, провозглашенную евангелистом urbi et orbi[6]6
городу и миру (лат.).
[Закрыть]: по-настоящему раскаявшийся уже наполовину прощен. Я смотрел на себя, пытаясь хоть как-то оправдаться, получить обещанное прощение, я не нравился себе настолько, что чувствовал слабость во всем теле, с головы до ног. О, заповеди! Я был свиньей, валявшейся в грязи и экскрементах, я проведу остаток дней, испытывая на себе Божий гнев. Если бы это случилось, он был бы действительно испепеляющим. Но, даже зная это, я продолжал отпускать гадкие колкости, гнусно шутить, мой юмор оставался грязным. Кровоточащий нос, устремленные в кабинет глаза, руки, пытающиеся работать, забитая мусором голова. И эта голова была создана, чтобы восхвалять творение! Чем дольше я размышлял, тем сильнее чувствовал желание, которое, как жало, проникало в меня, становилось ощутимее именно в то мгновение, когда я пытался выдернуть его. Заставить замолчать голос свыше! О, заповеди… Желание угнетало и одновременно очаровывало меня.
Вернулась Анна. Я рассказал ей о визите пастора, мы сели на диван возле фортепиано в комнате для занятий музыкой и представили минуты последней встречи любовников.
К моменту возвращения Луи мы были полумертвыми от усилий. Он вошел замкнутый, агрессивный. Без сомнения, он узнал о том, что семья пастора уезжает. Пытался ли он удержать Клер? Ему ведь нет даже четырнадцати. И Клер Муари не могла сопротивляться отъезду, разрушать семью ради мальчика. И как она стала бы жить, если бы осталась? Как подруга моей маленькой прозрачной семейки? Клер уезжала, но приедет другой пастор, а значит, и новая жена пастора поселится в деревне. Конечно же, она будет молода – распоряжения министерства на сей счет однозначны и не приветствуют немолодых женщин в качестве жен пасторов, – и у нее будет несколько детей, которые займут все ее время; но, значит, с ними приедет и бонна, – таким образом, между двумя чашками чая, проповедью и визитом в дом престарелых у нее останется час для обучения несовершеннолетнего. Вечное повторение земных событий! Гармония! Мы сами не далее как сегодня говорили о Луи. Мы не переставали внимательно изучать его, мысленно раздевать, осматривать. Не так давно Анна спросила меня, не хотел бы я побрить мальчика и увидеть его голым и гладким – как зеркало, в котором отражается наше бесстыдство. Луи – зеркало, Анна – прозрачная… Превосходная оптика. А результат оказался пыткой, зрелищем, которому я бы любой ценой предпочел раскаяние в своем недостойном поведении.
XI
Статус наблюдателя отнюдь не прост, и по прошествии некоторого времени я понял, что часть моих планов рухнула. Рассеялась. Была разрушена. Я лишился важной части целого. В полдень того дня, когда должна была состояться последняя встреча Луи и Клер Муари – приближался конец октября, и вдалеке над лесом еще светило живое солнце, – мы ждали, нервные, полные беспокойства; рисуя в воображении грязные картинки, обменивались мнениями, бегали по террасе, глядя в сторону леса. Лихорадка била нас с самого утра, теперь же мы сгорали от нетерпения и любопытства.
Однако тон всему концерту задавала ревность. Кульминацией стало то, что эта ревность остро проявилась в то мгновение, когда мальчика не было с нами: заинтересованный, пожирающий чужие удовольствия взгляд, как раскаленное железо вонзающийся в разрушающееся тело! Взгляд и видение, зрелище и мысли. Театр, состоящий из коротких действий, разыгрываемых на ужасном диване.
Этот кошмар был прерван в восемь часов вечера телефонным звонком пастора Муари.
– Произошла авария.
Я застыл на месте.
– Впрочем, авария это не совсем подходящее слово.
– Рассказывайте, господин Муари, умоляю вас.
Анна была рядом, по моему голосу она поняла, что случилось что-то серьезное; она взяла меня за руку своей дрожащей рукой.
– Авария или что-то еще, не знаю, – ответил Муари. – Машина упала в Брюинн. Может быть, оба утонули. Разбились и тут же утонули, так мне кажется…
Я плохо понял черный юмор Муари. Анна уже вырывала у меня телефонную трубку.
– Машина упала с Шодронского моста.
Он произнес еще две или три фразы и отсоединился; потрясенные, мы молча стояли перед замолчавшим аппаратом. Автомобиль свалился со скалы в реку. С тридцатипятиметрового обрыва; река там очень глубокая, и водовороты неизбежно должны были увлечь машину ко дну. Даже если полицейские и пожарные из Мёртона уже начали доставать ее из реки, все равно операция продлится до утра.
Для нас с Анной было очевидно: двойное самоубийство. Клер Муари направила автомобиль прямо в реку.
Мы сразу поехали к месту трагедии. Прожекторы полицейских высвечивали черную воду, вернее, отдельные небольшие черно-зеленые потоки воды, из которой уже показалась крыша вытягиваемого на канатах автомобиля. Над рулем были ясно видны рыжие волосы Клер Муари. Мертвой, слишком мертвой. Но на берегу, окруженный четырьмя медицинскими сестрами, массировавшими и возвращавшими его к жизни, лежал раздетый, бледный Луи; он улыбнулся при нашем появлении и даже попытался привстать с носилок. Анна бросилась к нему и осыпала поцелуями. Она рыдала и смеялась.
Мальчик начал рассказывать, время от времени его рассказ прерывался стонами. Ему удалось выбраться из машины, когда она упала в воду, и почти час он боролся с течением и водоворотами.
На небольшом удалении от суетившихся в свете прожекторов людей, черный на черном фоне прорезываемой криками ночи, неподвижно, скрестив руки, стоял пастор Муари и смотрел, как его автомобиль вытаскивают из реки.
Инстинктивно мы приблизились к нему.
– Вы довольны? – спросил он. – Ваш бешеный убил ее.
И решительным шагом направился в сторону полицейских.
В нескольких метрах от нас, на носилках, все еще массируемый четырьмя медсестрами в белых халатах, лежал Луи – стеная и подмигивая нам, улыбаясь в перерывах между приступами икоты.
XII
Я больше не выходил из дому, я пил; Анна и Луи не разговаривали со мной, и я слышал, как они резвятся в комнате мальчика. За столом они не смотрели на меня. Они ждали, пока я уйду в гостиную и неподвижно застыну перед очередной порцией алкоголя, бесцельно созерцая пейзаж через окно, – только тогда их шушуканье возобновлялось, они снова начинали смеяться; а испуганная Мария через равные промежутки времени вновь и вновь наполняла мой стакан.
Клер Муари погребли на руврском кладбище.
Церемонии не было.
Три дня спустя пастор с детьми уехал вместе с Миссией. Попрощаться Муари не зашел.
Ровно через неделю после его отъезда Анна объявила мне, что уезжает и забирает с собой Луи. Она требовала развода в течение зимы. Адвокат, с которым она консультировалась на этот счет, сказал, что я смогу видеть нашего сына раз в месяц.
Итак, я остался один в доме, где мы с женой прожили три года, а Луи едва ли пять месяцев своей несчастной жизни.
Я был уведомлен, и любовники уехали. Потом появился юрист в круглых очках со стальной оправой, которого в автомобиле ждала супруга (у него-то она была), и молодой врач, ошеломленный фактом моего одиночества. Именно он и купил дом, намереваясь устроиться здесь, как только будут улажены формальности с деревенскими властями и Судебным Советом. Чтобы практиковать в округе, врач должен был представить серьезные справки. Не то что писатель! Врач приезжает, уезжает, живет где хочет, не важно где – повсюду есть ожоги, порезы, острые шипы. А я – бродяга? Проповедник тоже перемещается с места на место, однако вы скажете, что это делается в силу веских причин, а я распространяю вокруг себя лишь беззаконие и беспорядок. И будете правы. Мои зигзаги гнусны и разрушительны. Самое время молодому практикующему врачу исцелять людей и основать семью на месте моих напрасных попыток. В любом случае, даже если бы я и попытался вызвать жалость, – а я пытаюсь, можете мне поверить, – мое чувство справедливости тут же запретило бы мне делать это. Итак, решено: я не буду больше жаловаться. Анна вновь выйдет замуж – она не скрывала от меня, что уже нашла превосходного любовника, и что его смущение мешает ей общаться со мной иначе, как по телефону. Он чувствует себя слишком виноватым. Она же не собирается никоим образом испытать вновь все ужасы общения со мной.
Я ни о чем не просил Анну. К моему собственному стыду, я понимал, что она права. И что ее новый любовник должен вдохнуть в нее целую гамму образов, которые позволят ей забыть о грязи последних месяцев. Моя прозрачная… Ну, я уже говорил вам.
Власти зарегистрировали происшествие, случившееся с Луи, и вскоре о нем забыли. Кто же, кроме разве что абсолютно порочного в мыслях человека, подумал бы, что там имело место не обыкновенное падение автомобиля в реку, а что-то еще. Тем более дорога там плохая, опасность была не видна, а мадам Муари плохо различала что-либо вокруг. Ее контактные линзы не облегчили ей управление машиной ночью. Ей, которая любезно согласилась подвезти голосовавшего на дороге мальчика к папе-писателю и его жене в их домик на холме…
В округе явно прогрессировало бешенство. К большим красным плакатам добавились другие. Белые, на трех языках сообщавшие: Rage – Тоllwut – Rаbbia[7]7
Бешенство (фр. – нем. – итал.). В Швейцарии три государственных языка: немецкий, на котором говорят 65% населения, французский (18%), итальянский (12%). Александр Дюмюр живет на франкоязычной территории, поэтому на плакате вначале следует текст на французском языке.
[Закрыть], снабженные силуэтами зараженных животных, танцующих инфернальный танец на полях по краям текста. Смертельная эволюция, меры предосторожности, полиция, опасность быть укушенным… о чем еще размышлять, как не о несчастьях и бедах, сваливающихся на непослушных, нечистых и ожесточенных сердцем.
Находясь в состоянии ожидания, я без конца пережевывал свою историю. Недостойный исцеления, я ожидал, что поправлюсь. Ожидал нового, здорового дыхания после праведной исповеди. И это я-то! Когда Господь видит, насколько я эгоистичен, Он должен снисходить к безумцу, но это снисхождение не препятствует мне плыть по направлению к самому худшему! Он должен (если только Господь может быть должным – однако Он должен мерить Своими категориями) понять мои откровения. Секрет прост. Демон бодрствует. Демон, бешенство или жуткое любопытство, не важно. Человека охватывает горечь. Все угнетает его. Общество, постоянные бдения, он не испытывает удовлетворения от работы. К нему не приходят спокойные мысли. Его не радует ребенок. Угнетают стихотворения. И вместо этих сладких плодов – дьявольская расплата, ощущение собственной приговоренности. Вместо приятных ожиданий – горящий взгляд, мучающаяся память, назойливые мысли о настоящем, высохшая, как пустыня, поэма. Драма и притча. История мудреца, потерявшего из виду светлый клубок обещаний, чтобы зациклиться на желании добыть голову медузы.
Часть вторая
I
В 1957 году, когда умерла моя мать, я, с детства любивший и культивировавший смерть, не имел времени заняться этой частной смертью: подумать о ней, поразмышлять, проанализировать ее, почувствовать себя опустошенным, чтобы понять ее. В то время я писал рассказ и сконцентрировался на нем. Этот рассказ мешал мне любить мою мать. Вернуть ей то, что я был ей должен.
Конечно, у меня не было времени подготовиться к смерти, заставить себя – заботливо, разумно – впустить ее в свои мысли и тело. Большинство из тех, кто теряет близких (но была ли близкой мне моя мать?), могли привыкнуть к тому, к чему привыкать я отказался, пережив все это снова пятнадцать лет спустя. Однако даже запоздалые воспоминания о матери были лишены понимания и страдания, которое я должен был ощутить, ведь я посвятил себя написанию рассказа.
Моя мать попала в автокатастрофу; это случилось в полдень, а вечером, в десять часов, она умерла, так и не придя в сознание. Единственный сын, я должен был по крайней мере присутствовать на церемонии, пригласить родственников, распоряжаться на кладбище. Я игнорировал все это из-за неприязни к торжественным похоронам и не принял в них участия. Я получил счет за церемонию и оплатил его в течение тридцати дней, предусмотренных законом в таких случаях. Не драматизировать. Не слишком горевать. Сохранять разум если не холодным, то хотя бы ясным, и за повседневными заботами забывать то, что может увлечь в преисподнюю, отказаться от рвения, слишком напоминающего стремление в ад. Я не пожелал посмотреть фотографии, сделанные на месте происшествия, – на то, что осталось от машины и тела моей матери в исковерканной железной коробке, – страховой агент пытался меня заставить увидеть все это. Я не хотел смотреть на снимки окрестностей. На точку на карте в масштабе один к двадцати пяти, которую он совал мне, «чтобы я мог составить представление о том, где произошло это ужасное несчастье». Наконец, этот тип взглянул на меня, как на чудовище, и когда он удалился, его глаза, кажется, готовы были выскочить из орбит; больше он не вернулся. «К чему представлять подробности?» – спрашивал я себя. Какой контраст с безудержным желанием последних лет, в течение которых я старался восстановить в памяти лицо моей матери, историю ее жизни и подробности катастрофы!
В то время я был любовником женщины, возраст которой был схожим с возрастом матери, и, быть может, это обстоятельство отчасти объясняет отсутствие интереса к смерти супруги проповедника. Я познакомился с Полой Зосс годом раньше, октябрьским вечером, когда оправился бродить в нижний город – в район, где каждую осень у нас останавливается маленький бродячий цирк; я пересек Миланскую площадь, словно предназначенную для оскорбительных встреч с проститутками, нищими и хулиганами всякого рода, так я добрался до зверинца, примыкавшего, как я узнал впоследствии, к ветхому павильону цирка. Вокруг было мрачно: дырявая, протекающая крыша, ржавые клетки, дрожащие в них трусливые призраки и, будто управляющий всем этим, худая пигалица, окинувшая меня лихорадочным взглядом. Снаружи ливень мочил площадку возле входа. Стоя внутри, я разглядывал клетки и испытывал изнурительный страх. Своего рода это наша преисподняя, твердил я себе. Ведите себя отвратительно. Дух бодрствует, Божье око не перестает наблюдать за вами; и однажды вечером вы оказываетесь на маленьком тесном кладбище, под бесцветным фонарем; мы больше не малютки-буржуа с кучей детишек; мы стоим на сквозняке, среди запаха мочи. Огненное озеро и сера Апокалипсиса очаровательны по сравнению с этим позором! Грязные обезьяны, облезлые коты, птицы с выдранными перьями, тощая гиена в железном ошейнике, две-три свиньи, хрюкающие в глубине клетки, ненастоящий индеец, продающий медали, араб, прогуливающий измученного верблюда в надежде покатать какого-нибудь ребенка, и в конце дорожки из опилок неизменный домик Ганса и Гретель, в который часто забредают лилипуты и их самки в розовых костюмах. Чтобы проблеваться.
Итак, я блуждал, углубившись в эту спасительную активность, когда неожиданно кто-то тепло окликнул меня:
– Ну, так что же, господин писатель?
Это была красивая женщина с пепельными волосами, загорелая, ослепительная посреди этого метафизического борделя. Я бы с радостью бросился ей на шею, поскольку она сразу вытащила меня из моего чистилища.
– Значит, мы любим цирк? Приходим погулять здесь перед представлением?
Мне мгновенно показалось, что таково искупление праведников. Господь не хотел, чтобы я сгнил в этой клоаке. Меня спасали из коридоров тюрьмы, и я почувствовал призыв, обращенный ко мне, – нужно было только, чтобы я повиновался ему. Нужно было использовать эту возможность спасения.
– Благодарю, мадам, – ответил я глупо и увидел, как торжествующая улыбка озарила лицо посланницы. Без сомнения, она проникла сюда днем, увидела мою растерянность и сочла, что ее счастье – вывести меня на свет, подальше от миазмов, объедков и язв.
Слава Богу, я не ошибся.
– Пойдемте, – сказала она, – не надо оставаться здесь. В этом зверинце сыро. И сквозняки. Я уже начинаю замерзать…
Пока она тянула меня за руку, я размышлял, что это место действительно проклятое – иначе как такое сильное существо, как она, могло здесь замерзнуть.
– Вы голодны? От вас пахнет алкоголем. В такой холод, как сейчас, вино не может быть единственным блюдом.
Начинается. Упреки. Приказы, все, что я так любил. Как дать понять этому ангелу-хранителю, что мне нравится выделывать зигзаги? Нравится болтаться между сумой и тюрьмой.
Я повиновался.
– Я еще не ужинал. – И эта обычная фраза решила все дальнейшее, ибо мы отправились в пустое кафе на авеню Уши и заказали яйца, ветчину, сыр, вино, еще раз вино, и слишком много киршвассера. В полночь, когда тупой гарсон вытолкал нас взашей, мы были пьяны, общались, как друзья, и большие глаза Полы Зосс казались мне самыми прекрасными из всех, которые я имел возможность когда-либо созерцать.
Я почувствовал себя совсем пьяным, спустившись по проспекту к озерцу, разлившемуся из-за дождя.
– Куда вы? – спросила меня Пола, словно упрекая, что я вновь хочу вернуться к дурной жизни после того, как вечер покровительства завершится. И, как я и надеялся, она втащила меня в такси, раздела, разделась сама, бросила нашу одежду на сиденье, уложила меня на себя, ласкала, нежила и в течение четверти часа пожирала меня одновременно с ненасытностью и изысканностью.
Она была вежливой, изысканной и ненасытной всегда, пока мы оставались любовниками.
Ее возраст соответствовал возрасту моей матери; она была социальным работником, специализировавшимся по работе с умалишенными. Она прекрасно помнила проповеди моего отца и видела мою мать, отводившую за руку алкоголиков в ризницу, где для них готовился знаменитый чай. Эти воспоминания вернули меня на двадцать лет назад; я уже давно сломал свою раковину, и все-таки в ночь, когда мадемуазель Зосс рассказывала мне о чем-то былом, перед моими глазами вновь ясно предстали богослужения, которые я посещал мальчиком, вспомнились слова отца, произносимые с кафедры, дрожащие голоса небольшого, поющего кантики хора, твердый голос матери – тогда еще такой молодой, – выводящий покаянный гимн. И может быть, именно то, что посреди наших безумств я вспомнил о матери, объясняет привязанность, которую я сразу испытал к Поле Зосс.
Сожалею ли я об этой привязанности? Если бы в тот вечер я не отправился бродить, наша встреча не состоялась бы, а значит, не было бы и нескольких месяцев раздумий в объятиях той, что была ровесницей моей матери. Можно спросить себя: что же я делал в вонючем зверинце, в тумане площади? Как я уже признавался выше, я люблю шляться. Бесцельно бродить, двигаться, не зная куда; я размышляю, проникаю всюду, возвращаюсь и снова иду. Меня забавляют резкие и неприятные зрелища – особенно эта Миланская площадь в окружении призраков. Я прихожу в час между собакой и волком, спускаюсь под сенью деревьев вниз, к подножию невидимого холма, застигаю врасплох тех, кто прячется там, шаг за шагом обнаруживаю пороки, неделями встречаю одни и те же растерянные, наглые, вызывающие, лихорадочно горящие взгляды; и – пусть это совсем не важно – ничто так не напоминает балет в ночи, как другой ночной балет, во время исполнения которого все лица становятся одинаковыми в игре отражений. Братья по навязчивым мыслям, соучастники, проклятые! Я неизменно возвращался на Миланскую площадь (где много лет спустя я должен был найти Луи, блуждающего тенью среди теней) со странной радостью, которую вызывали во мне наказание и грезы. Прикоснуться ко всему, не быть ничем, чувствовать, как кружится пугливое желание…
Мадемуазель Зосс поняла эту сторону моей натуры. И не пыталась ее изменить, но, напротив, играла в желание сделать все возможное ради удовольствия, чтобы серые глаза ее «сына» – как она любила меня называть, – светились абсолютной радостью в свете лампы под абажуром. (Это относится и к первым месяцам нашей любви с Анной. А рассказы о моей связи с опытным социальным работником, словно наркотик, одновременно раздражали и вдохновляли мою супругу.)








