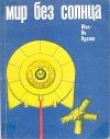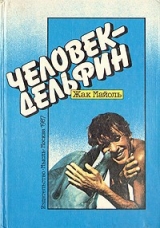
Текст книги "Человек-дельфин"
Автор книги: Жак Майоль
Соавторы: В. Белькович
Жанры:
Природа и животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Ловцы-итомены
В 1970–1971 гг., когда я был в Японии, тренируясь для спортивных рекордов на 75, 76 и 80 м (этот последний не был утвержден по техническим причинам), все мы говорили о необычайных ловцах-апноистах – итоменах. О них рассказывали как о жестоких, агрессивных индивидуумах, живших сектами, которые практиковали любые возможные ремесла. Короче: “Держись от них подальше!” Тем сильнее было мое удивление и даже разочарование при первой встрече с представителями этого вида “обособленных людей” в Окинаве и на острове Исигаки. Сначала действительно я и моя подруга нашли их довольно мрачными. Через несколько дней мы узнали, чем это объясняется. Дело в том, что ловец-итомен чрезвычайно горд, и это проявляется в настоящем женоненавистничестве. Итомены не терпят присутствия женщины на борту, кто бы она ни была, так как женщина, утверждают они, неизбежно создает проблемы независимо от ее воли. Поэтому моей спутнице самым категоричным образом было запрещено подниматься на борт лодки, где я находился с итоменами. Конечно, встречался я далеко не со всеми и не видел их всех за работой, но те, с которыми я погружался в воды Окинавы или Исигаки, не произвели на меня особого впечатления, и их имена память не сохранила. В этих регионах ныряльщики-итомены практикуют систему подводной рыбной ловли широкими сетями, которые подвешены на поверхности к буям и разворачиваются под водой наподобие шатра. Часть пловцов и ныряльщиков, таща за собой лини, к которым привязаны всевозможные шумящие предметы, располагается полукругом, спугивая косяки рыб, наблюдая за ними все через те же традиционные деревянные очки и загоняя их в направлении сети. Так выглядит эта прекрасно слаженная коллективная работа тридцати отдельных человек. Когда рыба поймана, сети складываются вручную водолазами и вместе с завернутой в них рыбой поднимаются на поверхность, В море или у себя дома ловец-итомен полновластный хозяин. Жители цивилизованных стран и особенно феминистки, вероятно, не испытают большой симпатии к этим “орлам моря”, которые презирают женщин до такой степени, что продают продукты рыбной ловли собственным женам.
Иные страны, иные нравы!
Баджао
Между морями Южно-Китайским, Сулу и Сулавеси, к юго-востоку от азиатского побережья, на юг от Тайваня и на север от Калимантана простираются “чётки” из 7100 островов, из которых 90 % необитаемы, а 60 % не имеют даже названия. Это фантастическое скопление маленьких тропических райских кущ, открытых мною несколько лет назад, в те времена, когда я возвращался из Японии, образует Филиппины: смешение культур, религий и языков (там насчитывается 80 различных диалектов), где такие современные города, как Манила или азиатский Майами, находятся на расстоянии ружейного выстрела от самых заброшенных и одиноких регионов на Земле, где обитают на деревьях и в гротах едва ли не самые первобытные из известных существ. Нужны годы, чтобы глубоко исследовать эту область земного шара, и я рассчитываю, что скоро вернусь туда.
Наиболее сильное воспоминание об этих местах связано с моими погружениями вместе с баджао – последними настоящими бродягами, “кочевниками моря”, людьми свободными, поэтами. Благодаря двум моим друзьям – Рикардо Палома, вице-президенту регионального отдела компании “Филиппин эйрлайнз”, и Майклу Джонсу, музыканту и поэту, директору большой организации ныряльщиков “Сэквесты” в Маниле, – я смог встретить несколько семей баджао, и в частности старого морского волка, чьи советы помогли мне достичь моих знаменитых 100 м. Мы находились на борту восхитительной яхты Майкла “М. И. Изабелла”, переделанной в отличную платформу для погружений, и плавали в широком коридоре на юг от большого острова Миндоро. Местом, выбранным нами для погружений, был еще девственный атолл Апо: кристально прозрачные воды, изобилие морской фауны – уголок действительно исключительный. Несколько лодок с живущими на них баджао отваживались плавать рядом, обычно они промышляли гораздо дальше к югу, в море и в архипелаге Сулу. Майкл много рассказывал мне об этом маленьком народе моряков и рыбаков, народе гордом, полном достоинства, до крайности сектантском, живущем веками как “над”, так и “под” водой, но всегда за бортом общества.
В большей части баджао – мусульмане. Говорят они на различных диалектах. Если они не погружаются, значит, находятся на борту своих лодок или в деревнях, расположенных в лагунах, в домах на сваях, словом, вся их жизнь проходит целиком на фоне моря. Большинство из них начинает плавать и нырять гораздо раньше, чем научится ходить, совершенно так же, как известные “дети воды” великой реки Меконг недалеко от Бангкока. В основном дети баджао, особенно мальчики, не имеют возможности ходить в школу. Их школа – Природа и Море, их учителя – их родители. У них врожденное чувство клана, и особенно семьи. Они действительно морские кочевники, но не передвигаются поодиночке: вся семья плывет одновременно, подчиняясь ветрам и течениям этой обширной и живописной области, которой являются моря Сулавеси и Сулу с бесчисленными гостеприимными островками. Одна из таких семей прибыла в прекрасный апрельский день, полный солнца и зеркального моря, к нашему кораблю, стоящему на якоре среди коралловых рифов, окаймляющих атолл Апо. Лодка, которая, должно быть, была длиной с десяток метров, имела двойной балансир. Несмотря на более чем скромное водоизмещение и крохотную жилую площадь, там царил такой беспорядок, что можно было подумать, что мы очутились в уголке местного рынка: большие камышовые корзины с провиантом; рыба, развешанная для сушки на шпагатах, натянутых на центральной мачте, парус которой был сложен здесь же; еще живые черепахи, перевернутые навзничь; клетки с курами, скрытые в тени импровизированной крыши из банановых листьев, и при этом еще оставался маленький пятачок, где свободно разгуливали петухи. Под крышей центральной кабины, напоминавшей скорее соломенный шалаш, среди дыма маленькой жаровни и приятных запахов приготовляемой пищи беспорядочно метались полуголые члены всех возрастов этой многочисленной фамилии. Именно там, на этой лодке, я встретил старого Педро Агинальдо. Педро был не только отцом клана и семьи, но также самым опытным ныряльщиком своей области. Чтобы достичь больших глубин, скажем 30 м, Педро пользовался, как и все баджао, плоским камнем, весящим около 8 кг, вырезанным в форме плавника с двумя большими дырами, чтобы иметь возможность просовывать в них пальцы и регулировать угол погружения, изменяя его наклон. Таким образом можно замедлять или ускорять погружение. Достигнув дна, ныряльщик приступает к работе, а затем его вместе с камнем вытягивает за веревку в лодку помощник. Эта элементарная схема нашла себе место на всех широтах, она же вызвала к жизни и мою систему тормозного балласта и шара для ускоренного подъема. Свое первое погружение Педро совершил в 7 лет и продолжает до сих пор, несмотря на свои 80. И хотя его кожа покрыта морщинами от солнца и морской соли, выглядит он отлично, я дал бы ему максимум 60. Секрет его хорошей формы, как он мне позже поведал после нашего совместного погружения на 20 м, был чеснок. Весь день он буквально пожирал его огромными порциями (у него были все зубы). С тех пор я последовал его совету и тоже начал есть много сырого чеснока, особенно по возвращении в Италию и на остров Эльба для тренировок к погружению на 100 м. К большому удивлению всех моих “суб” (подводников), в течение нескольких недель мое время нахождения в апноэ значительно улучшилось. Совпадение? Не думаю. Прямой эффект воздействия чеснока на бронхи и легкие известен с древности; чеснок рекомендуют астматикам и туберкулезникам – словом, чудо, а не средство. Он использовался даже для лечения некоторых кишечных заболеваний. На Востоке, когда во время знойного лета повышается влажность, несколько съеденных зубцов способны поддержать организм в хорошем состоянии. Египтяне при строительстве своих пирамид уничтожали его в огромном количестве по тем же причинам. А не считается разве, что секрет бархатистой, нежной, как фарфор, кожи прекраснейших китайских женщин кроется в разумном употреблении чеснока и растительного масла? Чеснок, по-видимому, эффективен и при переохлаждении тела, головных болях, катарах дыхательных путей. Логично предположить, что он может стимулировать, например, участие некоторых резервных легочных альвеол, которые обычно не функционируют полностью, что объяснило бы увеличение времени апноэ.
Полинезийские ныряльщики
Если какой фильм и отложил отпечаток не только на мою молодость, но и на мое взрослое подсознание, то это был точно “Табу”, исключительная немая лента Роберта Флаэрти. Снятый в 1927 г. в Бора-Бора, он в простом повествовательном стиле фильма-хроники наших дней рассказывал о жизни и приключениях ловца жемчуга. Я видел этот фильм в мрачные годы фашистской оккупации, и хотя мы с моим братом ныряли тогда на 10 и даже 15 м в небольших бухтах Самены и Моиэ-Па около Марселя в поисках дополнительного пропитания в тот жестокий период, я, конечно, не думал, что смогу сравниться однажды с этими мужчинами, которые в моих глазах символизировали предел погружения и отождествлялись с тем далеким подводным раем, каким представлялись Южные моря. Нужно было поехать туда самому, чтобы на месте в Тихом океане убедиться в том, что ловцы жемчуга в Полинезии и особенно на островах Туамоту отличаются от других ныряльщиков. И если кто-нибудь где-то индивидуально и преодолевает глубину в 35–40 м, никто, кроме маори (народ, коренные жители Новой Зеландии. Маорийцами также часто называют местное население о-вов Кука, не составляющее единого этноса), не может обеспечить стабильность таких погружений в течение всего сезона, длящегося несколько месяцев. Именно это является общим фактором для всех народов (К этническим группам в этом районе принадлежат кроме маори гавайцы, таитяне, туамотуанцы и др.), живущих на многочисленных островах.
Древние легенды о My, затонувшем земном рае в бездонных впадинах Тихого океана еще раньше Атлантиды, рассказывали о существовании народов, живших в прекрасном симбиозе с подводным миром. Полинезийцы с их радостью жить, инстинктивной деликатностью и прежде всего врожденной непринужденностью, свойственной в общении с водой мужчинам и женщинам, молодежи и старикам, не являются ли они далекими и, возможно, последними потомками тех народов? Было бы, безусловно, интересно проследить до конца эту гипотезу, но пока просто посмотрим, как может складываться один день ловца жемчуга.
Мы находимся в лагуне Хикуру одного из островов Туамоту. Сильно дуют пассаты, и температура не настолько приятна, как нам обещали. Семь часов утра, и ловцы жемчуга покидают деревню в балансирных пирогах, на которых роль подвесного мотора исполняют древние весла. В каждой пироге находятся только два человека: ныряльщик и его помощник – тэтэ. Меньше чем за час они уже на месте ловли и принимаются за работу. Молодежь и старики, все обладают одинаковой физической структурой маори: костяк и мускулатура чрезвычайно могучие, сильно развитый торс, рост выше среднего. В течение 5—10 минут, которые предшествуют первому погружению, или после долгого перерыва, ныряльщик выполняет гипервентиляцию, следуя очень характерной технике: длинный вдох, 2–3 секунды задержки дыхания и глубокий выдох, сопровождающийся долгим свистом сквозь губы, сложенные буквой “о”. Одновременно идут приготовления: надевается маска или очки (которые, несмотря на тенденцию к забвению, все же придуманы были под этими небесами), сделанные из бамбука или меди, имеющей преимущество в ковкости; на правую руку надевается жесткая рабочая перчатка – изначально просто отрезок прочного полотна, – которая служит для предохранения от порезов при отрывании жемчужниц от пустой породы. Когда ныряльщик готов, он опускается в воду рядом с пирогой, продолжая гипервентиляцию и, более того, усиливая ее вплоть до того момента, когда, сделав последний глубокий глоток воздуха, не исчезнет с поверхности ногами вниз. Спуск ускорен балластом, который он держит ногами и который соединен с лодкой канатом, скользящим но правой руке. Свободной рукой, если есть необходимость, ныряльщик корректирует давление, зажимая ноздри. Спуск длится от 30 до 45 секунд на глубину 30–40 м. Лишь на дне ловец приступает к сбору, кладя устриц в круглую корзину с двумя ручками, спущенную отдельно помощником. Ее он также может вытащить на канате в любую минуту. Ныряльщик начинает выдувать остаток воздуха чуть раньше, чем высунется на поверхность, и, достигнув се, немедленно делает быструю гипервентиляцию, продолжающуюся 2–3 минуты, после чего вновь скрывается под водой. Для глубокого погружения на 30 м общее время апноэ составляет 2–2,5 минуты. И так как это занятие продолжается в течение шести часов, нетрудно понять, что от частоты, с которой осуществляется апноэ, могут возникнуть многочисленные нарушения в организме – от простой глухоты до частичного и даже общего паралича. Полинезийские ловцы жемчуга больны манией преследования со стороны того, что они называют “таравана”, нечто похожее возникает и у аквалангистов, так называемая кессонная боязнь – боязнь кессонной болезни. Причины везде одинаковы: слишком короткое время быстрого подъема на поверхность не дает возможности крови полностью избавиться от накопленного в ней азота. “Пузырь”, т. е. газовая эмболия (Эмболия – закупорка кровеносных сосудов инородными частицами, приносимыми с кровью.), может возникнуть и у опытного ныряльщика, который погружается с аквалангом и не делает остановок на различных уровнях подъема; но весьма опасна частая серия долгих погружений в апноэ, следующих через слишком короткие интервалы. Таким образом, замечено, что таравана не поражает ловцов, которые заполняют время между погружениями песнями, молитвами или делая длинные паузы и хорошо, но без напряжения вентилируя легкие. Это способ, к примеру, ловцов из Мангаревы, которые погружаются только каждые 15 минут после медленной и выдержанной гипервентиляции, предшествующей традиционным пениям, и практически не знают мучений тараваны. Напротив, их собратья из Туамоту, совершающие свои погружения каждые 4–8 минут, часто подвержены этому недугу. До последних лет незнание фундаментальных законов погружения вело к большому количеству болезней и смертей у многочисленной армии ловцов. Важно отметить, что у ама, которые очень редко переходят рубеж 25 м, инциденты такого рода – редчайшее явление. Однако и здесь, как и в других местах, использование автономного скафандра быстро вытесняет свободное погружение в апноэ, и ловцы жемчуга из свободных людей, какими они были, находясь в тесном и живом единстве с миром лагуны, становятся рабочими моря, анонимно и стереотипно скоблящими дно.
Краткие сведения об истории погружений в апноэ в Европе
Трудно точно сказать, когда этим стали заниматься в Европе. Однако ясно, что человеческие существа, умеющие плавать, на протяжении последних столетий европейской истории умели также и погружаться под воду в апноэ, но делали это в основном для развлечения. В 1918 г., сразу после первой мировой войны, возникло увлечение подводной деятельностью и во Франции. Случилось это во многом благодаря визиту труппы японских ловцов-ама и великолепному их представлению в бассейне Трокадеро в Париже. Тогда же в арсенале японских подводников впервые появились маленькие очки. То же самое произошло и в Италии в 1934 г., опять же “по вине” японцев, а точнее, трех “саканатиуки” – подводных ловцов с Окинавы. Мой коллега и друг Гаэтано Кафьеро из Рима (член CIRSS (Итальянский комитет подводных исследований и изучений), бывший свидетелем моего погружения 23 ноября 1976 г. На 100 м) рассказывает об этом занимательном периоде истории апноэ в своей книге “Жизнь под водой”. Эти трое саканатиуки (“сакана” по-японски означает рыба), два брата – Тукомори и Соги Агарайе – и их дядя Тацуо, были приглашены итальянским профессором Луиджи Миралья дать несколько открытых выступлений с демонстрацией системы подводной ловли в Неапольском аквариуме. Заключалось это в простом погружении без приспособлений под воду. Ловцы были снабжены маленькими деревянными очками и вооружены длинной палкой с гарпуном на конце. Впечатляющее количество рыбы, которое трио поймало до полудня на Шилле в Мессинском проливе, вызвало приступ ревности других ловцов рыбы. Последствия этой истории вы можете прочесть в книге Гаэтано. Мы лишь отметим, что событие это быстро облетело Италию и список последователей погружений, начиная, конечно, с Эджидио Кресси, Людовико Мареса и многих других, пополнился новыми именами.
Первые очки, подобные очкам японских ама, но из мягкой резины с маленькими линзами небьющегося стекла, были выброшены на рынок двумя французами – Ферне и Де Корльё. Впервые европейцы копировали японцев! Появлению же тех, японских, мы обязаны в свою очередь древним деревянным очкам, существовавшим на Соломоновых островах уже 3 тысячи лет, с линзами, как мы видели, сделанными из панцирных чешуек черепахи, подобная модель которых была превосходно описана великим арабским путешественником средневековья Ибн Баттутой. Фолко Квиличи подтверждает: “…во время посещения центра ловли жемчужниц в Персидском заливе Ибн Баттута писал: “Перед погружением ныряльщик накладывал на лицо маску и зажим для носа, сделанные из пластин панциря черепахи””. Европейцы быстро заменили в очках два маленьких стекла на одно большое. Нос спрятали под маску. Обзор, таким образом, увеличился, и появилась возможность вставлять носовой зажим, чтобы осуществлять компенсацию внутричерепного давления непосредственно под самой же маской. Сначала эти маски вырезались прямо из резиновых автомобильных камер. В 1930 г. мой отец, инженер и архитектор, никогда их не видевший, сконструировал подобную для меня: доказательство, что идеи носятся в воздухе и могут материализовываться на разных полюсах Земли в один и тот же момент! С течением лет европейские и интернациональные маски много раз совершенствовались, однако и в наши дни, поверьте мне, они далеки от идеала. Так проблема подводного видения разрешилась, и теперь возникла необходимость улучшения движущей силы. Видимо, напрасно пытаться узнать, кто придумал первые ласты. Коренные жители Маркизских островов, кажется, знали их с незапамятных времен. Конечно, это были примитивные конструкции из плетеных веток и листьев, однако они функционировали. Кто не знает рисунков Леонардо, изображающих пловца, на руках которого надеты настоящие ласты? Кое-кто утверждает, что именно Бенджамин Франклин ((1706–1790) – американский просветитель, государственный деятель, ученый) придумал перчатки, имеющие форму палитры художника, Первые же подводные ласты, поступившие в продажу, были изделием все того же Де Корлъё. С тех пор они прошли изрядный путь. Немало промышленников обогатилось, и сегодня, должно быть, существует такое количество марок ласт, сколько на земле видов перепончатых птиц. Потом появилась эта гениальная трубочка, позволившая дышать без постоянного высовывания головы из воды, которую назвали “сопло”. С появлением этих трех базовых элементов, можно сказать, началась эра возвращения Человека в море. Внезапно и почти одновременно все побережье Средиземного моря заполонили странные люди, они проводили большую часть своего времени в поисках новых средств для более легкого и приятного перемещении в воде. Они шли под воду, снабженные копьями, луками, арбалетами, масками, ластами и трубками все более совершенными. Почти все стремились удовлетворить самый древний инстинкт, присущий всем животным, включая человека, – инстинкт охоты. Кто не помнит имя Джилпатрика, экстравагантного американца, известного по всему Лазурному берегу своими “чудесными” подводными охотами в начале 30-х годов! А подводная охота В. Чемоданова, утверждающего, что он первый использовал для этого самострел собственной конструкции, метающий стальные дротики, выпущенные резиновой тетивой? А Канадо, великолепный атлет и подводник, чернорабочий, каменщик и чемпион по копьеметанию, погружавшийся в воды как Средиземного моря у Марселя в разгар летнего сезона, так и под рождество у Новой Каледонии без трубки, ласт, лишь с маленькими деревянными очками? Повторяю, список пионеров-апноистов был бы слишком велик. Мы назовем лишь самых известных: команданте Ив Ле Приё – усовершенствовавший арсенал апноиста, как охотника, так и фотографа, и позже разработавший один из первых автономных скафандров; Ганс Гасс – снявший в апноэ первые фильмы об акулах Красного моря и самое известное трио мира подводных погружений: Кусто, Таййе и Дюма, они также были великими апноистами, прежде чем прийти в кинематограф, океанографию, подводную археологию, в литературу и экологию. В Италии апноистом, заставившим говорить о себе больше, чем о других, был, несомненно, команданте Раймондо Буше – пилот морской авиации, атлет, мыслитель, фотограф, писатель. В 1949 г. в Неаполитанском заливе молодой Буше поспорил, что погрузится без дыхательного аппарата так же глубоко, как и водолаз в скафандре, работавший на глубине 30 м. И выиграл спор. Этим начинанием Буше открыл двери в спорт нового вида: спорт рекордов глубоководного погружения в апноэ.