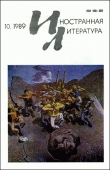Текст книги "Террористы и охранка"
Автор книги: Ж Лонге
Соавторы: Г Зильбер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Запрос социал-демократической фракции после краткого и яркого изложения мотивов кончался следующим заключением:
1) известно ли министру внутренних дел, что состоящий на жаловании у департамента полиции агент по сыскной части Азеф, состоявший в прямых сношениях с чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел и фактическим руководителем как охранных отделений, так и политического сыска за границей Рачковским, с ведома департамента полиции занимался провокаторской деятельностью среди революционеров и состоял одновременно со службой департаменту членом центрального комитета партии социалистов-революционеров и одним из руководителей "боевой организации" той же партии, в качестве какового принимал участие в организации крупных террористических актов, совершенных за время от 1902 по 1909 г.;
2) известно ли министру внутренних дел, что вышеуказанные деяния Рачковского и Азефа не являются обособленным эпизодом в деятельности охранных отделений и агентов политического сыска, но представляет собою органическую часть деятельности политической полиции, особенно ярко проявившейся и достигшей своего кульминационного пункта в настоящее время с деятельностью Рачковского и Азефа;
3) какие меры приняты министром внутренних дел для преследования в судебном порядке Рачковского, Азефа и прочих чинов полиции, принимавших участие в преступно-провокационной деятельности, и для того, чтоб охранить русских граждан от таковой деятельности охранных отделений.
Ввиду того, что в деятельности департамента полиции и его органов видна выдержанная последовательно проводимая система политической провокации, что эта провокационная тактика угрожает безопасности и жизни частных лиц и вносит в общество глубокую деморализацию; что в настоящее время правительство особенно широко пользуется этой провокационной деятельностью в целях усиления реакции и оправдания исключительных положений; что при первых же случаях возможности внесения запроса по этому поводу в Государственную думу, правительство стало принимать меры, чтоб пресечь возможность разоблачений вопиющего факта этой провокационной деятельности, производя в ночь на 18 сего января ряд обысков и, между прочим, у бывшего директора департамента полиции Лопухина, – предъявившие запрос просят признать запрос спешным1.
От имени социал-демократической фракций по запросу выступал Покровский. Его речь была яркая, сильная и резко боевая. Думский зал и хоры были переполнены. Странно выделялись только пустые министерские скамьи. Но Столыпин был вынужден отказаться от этого подчеркнуто-аффективного равнодушия и пренебрежения; во время вторых больших дебатов, вызванных делом Азефа, уже присутствовали вместе с главой правительства почти все министры.
С бичующей силой Покровский прежде всего указал, что "язва чересчур глубоко проникла и приняла омерзительный, гадкий вид и грозит заразить весь государственный организм". Провокация проявляется не только в отдельных случаях, она имеет характер всеобщности. Дело политического сыска покрыто густой мглой таинственности, охраняемою за страх и совесть всеми казенными ведомствами... И Покровский привел красноречивый пример пристава его собственного Пятигорского округа, который в сотрудничестве со своим братом, начальником местного жандармского отделения, задумал и привел в исполнение покушение на собственную жизнь для того, чтоб использовать это в своих служебных целях. Эта гнусная комедия стоила жизни одному неповинному человеку, а пристав остался на службе.
Покровский перечислял целый ряд других аналогичных случаев; затем, напомнив Думе бесстыдные заявления помощника министра внутренних дел Макарова, о которых мы уже говорили выше, показал, каким ярким опровержением лживых этих заявлений явилось дело Азефа.
Лидер социал-демократов, основываясь на официальных документах партии социалистов-революционеров, установил при помощи неопровержимых и многочисленных данных
1 См. стеногр. отчет. Государственная дума. III созыв. II сессия. Заседание 36. 20 января 1909 г С. 33-34.
участие Азефа во всех покушениях "боевой организации". Он ярко осветил сообщничество Рачковского с Азефом и смело и резко поставил вопрос: почему Азеф и Рачковский еще на свободе, почему не привлечен к ответственности генерал Герасимов, а, наоборот, арестован с крайней поспешностью А. А. Лопухин. И, делая общие выводы, он закончил свою речь следующими словами:
"Пусть правительство ответит категорически перед страной, признает ли оно систему провокации недопустимой или оно считает эту систему основным нервом, основной пружиной своей внутренней политики... Настоящие плоды этой политики, которая, я говорю, остается постоянной и неизменной, страна чувствует на себе. Она сказывается (шум справа; голоса: какая страна)... в угнетении, в полном угнетении всякой гражданской жизни, в полицейском насилии, в ужасе полицейских застенков, в тюрьмах и виселицах"... (рукоплескания слева).
Октябрист фон Анреп невольно выдал все смущение своей партий, выступив против спешности запроса и с предложением передать его в специальную комиссию. С комической важностью он заявил, что ему необходимо по крайней мере десять дней, чтоб "разжевать дело" и хорошенько его понять. В конце своей речи он попытался перейти к легкой диверсии, напав на социалистов-революционеров.
Трудовик Булат в злой, остроумной и едкой реплике высмеял октябристов, которые "одни на свете не знали о деле Азефа". Потом, возвысив тон своей полемики, он указал, что речь идет о том, да или нет, "правительство лишено нравственного чувства?". Для него не было сомнения, что ответ может быть только положительный.
После Булата выступили представители кадетской партии.
Но представители левых фракций не обольщали себя иллюзиями насчет намерения и настроения думского большинства. Спешность запроса была отклонена. Комиссии по запросам было поручено представить доклад по делу Азефа в десятидневный срок. Этот доклад был сделан комиссией 11/24 февраля, причем комиссия решительно отвергала запрос социал-демократов.
В общем, первое думское заседание от 2 февраля прошло как-то вяло, бледно и безжизненно; в нем прежде всего образовалось желание Думы избежать во что бы то ни стало столкновения с правительством. Разочарование общества, которое ждало от вмешательства Думы в это чудовищное дело положительных результатов, было полное. Однако волнение, вызванное азефщиной в общественном мнении, не улеглось, и когда дело снова было вынесено на обсуждение Думы, оно достигло высшего своего напряжения.
Таврический дворец в день дискуссии был битком набит, В залах царило лихорадочное возбуждение. Министерские скамьи были все заняты. В трибунах можно было заметить некоторых членов царской семьи и представителей иностранных держав. Присутствовали также почти все члены Государственного совета.
Докладчик комиссии, гр. Бобринский, единственный не совсем бездарный представитель правой в III Думе, прочитал чрезвычайно краткий и сжатый отчет, в котором он прежде всего объяснил, почему комиссия отклонила запрос соц.-демократов, основанный на "рискованных" и "беспочвенных" обобщениях. "Даже если факты, приведенные в запросе, были бы доказаны, – заявил он, – то все же нельзя сделать тех заключений, которые ими сделаны".
Первым выступил от имени социал-демократической фракции Покровский с резкой, уничтожающей критикой доклада, который был им мастерски разобран и осмеян, особенно в той части, в которой доказывалась неосновательность запроса его фракции. В громовой речи он широкими мазками набросал яркую картину преступно-провокационных деянии Азефа и с неопровержимой логичностью установил ответственность правительства. Основываясь на анализе полицейско-розыскных правил, из которых Покровский привел некоторые цитаты, он доказывал, что действия Азефа должны были быть известны во всех мелочах его ближайшему начальству, с которым он находился в постоянных и непосредственных сношениях. Он напомнил, что в 1892 г. Рачковский испросил у директора департамента полиции сумму в 500 рублей "для внесения ее в кассу социалистов-революционеров через своего секретного сотрудника, лично знакомого с Гершуни".
Оратор, обрисовав личность Азефа как правительственного агента, перешел к его деятельности в роли-террориста и главы "боевой организации".
"Дума и общество ждут,– воскликнул он,– чтоб мы представили непреложные доказательства; официальных документов с приложением казенной печати по таким вопросам достать нельзя. Но мы обращаемся к другой стороне и черпаем сведения из другого источника, из сообщений партии социалистов-революционеров".
Правительство и докладчик старались опорочить эти сведения как несоответствующие действительности. Покровский доказывал, что если даже принять на веру их возражения и отказаться от опороченного источника, то мы все же неизбежно должны будем прийти путем дедуктивных заключений к установлению преступной роли Азефа.
"Допустим, как делает это правительство, что Азеф был исправным правительственным служакой, всегда аккуратно доносил. Но неужели мы можем сказать, что в этой деятельности Азефа нет ничего преступного? Неужели она допустима? Неужели правительственные агенты могут не только знать, но и участвовать в составлении плана кровавых дел, могут содействовать доведению этих дел до конца и доносить, предупреждать правительство, доносить своевременно или несвоевременно, предупреждая покушения или не предупреждая? Неужели это доносительство снимает с агента правительства, не скажу нравственную, а уголовную ответственность? Ведь пособничество поощрения, содействие преступлению наказуется уголовным законом... Как равноправный член "боевой организации" организации небольшой, в высшей степени конспиративной и, как показывает само название, активной, он не мог занимать только наблюдательное положение. Он должен был действовать на два фронта, он должен был проявлять особую деятельность для того, чтоб заслужить необходимое доверие и чтоб поддержать это доверие, которое, как известно, несколько раз поколебалось..."
Покровский привел ряд типичных фактов провокации провинциальных агентов, которые вдохновляются примером свыше, остановившись подробно на данных сведениях, сообщенных ему адвокатом Жозефом Латуром:
"В 1907 и 1908 г. членом социал-революционной польской партии М. Вольгемутом, слесарем, было организовано нападение на станцию Межеречье и Соколы, а также совершены многие другие террористические акты. За участие в этих делах вышеназванный Вольгемут был приговорен к смертной казни вместе с другими 14 участниками. Тогда он предложил свои услуги охране, и смертная казнь была заменена 15-летней каторгой. Вскоре дважды тот же суд приговорил его к такому же наказанию с лишением всех прав состояния, но, вместо того чтоб вступивший в законную силу приговор о нем привести в исполнение, варшавская охрана зачислила каторжника Вольгемута в число своих агентов. На основании его заявлений присуждено к смерти, каторге, ссылке много лиц.
И свое письмо ко мне Латур заключает следующими словами: "Ввиду изложенного, интересно было бы запросить нового военного прокурора, почему до сих пор не приведен в исполнение над М. Вольгемутом приговор варшавского суда, и министра внутренних дел, известен ли ему факт, что судьба многих граждан находится в руках каторжника-охранника".
Покровский закончил свою длинную речь следующей фразой: "Правительство не в состоянии опровергнуть всей нарисованной нами картины, а мы уверены, что при всем обладании полностью документов оно опровергнуть этих данных не может, у правительства остается одно: заявить, что центральное правительство ко всему этому не причастно, что центральное правительство ничего об этом не знает, как отчасти оно уж это сделало в своем втором сообщении.
Граф Бобринский, желая довести до абсурда наши выводы, говорит; "Что же, по-вашему, получается, что Столыпин организует сам на себя покушение?" Да, скажем мы... Столыпин, санкционирующий систему провокации, должен считаться с возможными ее последствиями. Если Столыпин чувствует себя за спиною Азефа в безопасности, то ведь чувствует себя в безопасности только до тех пор и постольку, поскольку он доверяет предателю.
Правительство не может дать удовлетворительного ответа, потому что правительство не может отказаться от системы провокации... Не может отказаться от провокации правительство азиатского деспотизма, не может отказаться от провокаторской деятельности правительство канибальски-кровожадное с его политикой каторги, пыток и виселиц. А чтоб быть таковым, для него один путь погибнуть!" (Рукоплескания слева. Шум справа.)
После Покровского выступил трудовик Булат. Главный интерес его речи заключался в двух очень важных документах, с которыми он ознакомил Думу, а через нее общественное мнение, и которые устанавливали с неоспоримою очевидностью активное участие Азефа в крупнейших террористических покушениях. Это было два письма Азефа. Одно из них читатель найдет в главе "Разоблачение предателя", другое, адресованное Савинкову накануне суда, мы помещаем в приложении. Эти письма, подлинность которых, по заявлению Булата, легко могла быть подтверждена экспертами, содержали подробнейшие сведения о революционной деятельности провокатора.
Указав на то, что провокация особенно усиленно культивировалась за последние двадцать лет. Булат закончил свою речь заявлением, что из последних событий можно сделать только один вывод: "Система провокации является венцом, завершающим пирамиду деятельности русского правительства. В борьбе с народом поставили квартального. Но показалось мало: над квартальным поставили жандармов. Над жандармами – охранное отделение. Но и этого оказалось мало и во главе всего поставили агента-провокатора".
Кадет Пергамент подчеркнул в своей речи ту мысль, что провокация Азефа отличается от других лишь своими более крупными размерами и более высоким размахом. Его жертвами являются министры и великие князья. Затем оратор указал на противоречивость правительственных заявлений относительно Рачковского, не имеющего якобы никакого отношения к политическому сыску и который, по последнему признанию, "находится еще на службе департамента полиции".
Речь первого министра Столыпина была очень искусной защитительной речью, хотя отличается больше пространностью, чем убедительностью, а местами представляла яркий образец сознательного политического лицемерия и недобросовестности. Только такое раболепное и послушное собрание, как III Дума, могла позволить представителю исполнительной власти говорить с нею таким языком.
Вся речь Столыпина была построена на голословном утверждении, что Азеф не был ни агентом-провокатором, принимавшим на себя инициативу преступлений, в которые он вовлекал других для их совершения, ни революционером, в части сообщавшим правительству о преступлениях, а в части участвовавшим в этих преступлениях, а был простым "осведомителем", "секретным сотрудником" департамента полиции. И с холодным бесстыдством царский министр прибавил, что такое положение было "очень печально и тяжело никак не для правительства, а для революционной партии". Чтоб свести роль Азефа до степени простого осведомителя, Столыпин должен был отрицать самые очевидные факты или обходить их молчанием. В своем подробном описании деятельности провокатора он систематически оставлял в тени все, что могло вредить его положениям. Так, например, он утверждал, что Азеф до 1906 г. не состоял членом центральных органов партии социалистов-революционеров и что он узнавал обо всем, что подготовлялось в партии, через своих "влиятельных знакомых", сидевших "в центре партии". Столыпин попытался извлечь для своей аргументации пользу и из того факта, что Азеф никогда не находился во время самых крупных покушений на "театре террористических действий". Мы уже указали в предыдущих главах, каким образом предатель, доведя каждое предприятие до конца, действительно старался обеспечить формальное алиби. Но какую ценность мог иметь этот довод после категорических и точных заявлений самых близких соратников по "боевой организации"?
В явном противоречии с развитою Столыпиным теорией находились удачные покушения, совершенные после 1906 г., как, например, убийство фон дер Лауница, Павлова, Максимовича. Нужно было найти им какое-нибудь удовлетворительное объяснение. Столыпин выпутался из затруднительного положения, приписав эти казни организации максималистов. Азеф, естественно, мог не знать о всех планах максималистов. Беда только в том, что утверждение министра относительно этих трех покушений оказывалось совершенно ложным. Максималисты не имели никакого отношения к этим актам. Что касается Азефа, то он о них был прекрасно осведомлен.
Вторая часть речи Столыпина была посвящена Бакаю, все темное прошлое которого было вытащено с плохо скрытым торжеством наружу, причем первый министр не поскупился на сгущение красок. И неслыханно циничными прозвучали заключительные слова премьера о бесчисленных виселицах, возведенных им по всей империи "во имя необходимости обновления и полного переустройства здания современной России".
После речи Столыпина выступил трудовик Дзюбинский с резкой критикой правительства, которое стремится во что бы то ни стало замять дело и прикрыть заведомого преступника. Он привел извещение ЦК партии с.-р., в котором подробно излагалась и описывалась революционная деятельность Азефа и из которого Столыпин мог бы почерпнуть все недостававшие ему доказательства, не говоря уже о собственноручных компрометирующих письмах предателя. Но для этого необходимо было политически честное отношение к делу. Затем Дзюбинский упомянул о последнем крупном предприятии Азефа, о покушении против царя, которое не удалось только из-за случайных обстоятельств. В том же духе были произнесены речи прогрессиста Соколова и социал-демократа Гегечкори.
Вскоре дело Азефа было перенесено с политической арены, где все усилия были приложены, чтоб замять его, на арену судебную. Через два месяца после думских прений, 28 апреля, начался процесс Лопухина перед специальной сенатской палатой. Суд состоял из шести сенаторов, в том числе председательствующего Варварина, и четырех сословных представителей. Прокурор Корсак выступал обвинителем, а Пассовер, один из наиболее популярных и талантливых адвокатов Петербурга, представлял защиту.
В своей думской речи Столыпин торжественно заявил, что "вся истина" будет обнаружена во время этого процесса. В действительности этот процесс от начала до конца явился жалкой и гнусной пародией правосудия.
В чем Лопухин обвинялся? В запрещенных сношениях с "преступной" организацией, которой он выдал "служебную тайну". В чем состояла его защита? В неоспоримых доказательствах того, что агент, предательство которого он изобличил, был не простым осведомителем на жаловании у правительства, но агентом-провокатором, которому принадлежала инициатива ужасающих преступлений и деятельность которого была крайне опасна не только для революционеров, но и для государства. Если бы эти утверждения Лопухина оказались доказанными, то его, разумеется, самое большое можно было обвинить только в легком служебном проступке. И вот вся тактика председательствующего сводилась к тому, чтоб помешать защите поставить вопрос в этой плоскости; каждый раз, когда защита или сам Лопухин пытались доказать, какова была истинная роль Азефа, этот русский Дельгорич прерывал их, заявляя, что это к делу не относится. Зато суд с большим вниманием отнесся к показаниям сыщиков: Андреева, Зубатова, Герасимова, Ратаева и, наконец, Рачковского, которые почти все были замешаны в самых преступных и темных интригах Евно Азефа. Все эти мастера сыска и провокации прислали письменные показания: ни один из них не имел мужества лично предстать перед судом. Точно по предварительному взаимному соглашению, все они стремились доказать, что разоблачения, сделанные Лопухиным Бурцеву в кёльнском поезде в сентябре 1908 г. и подтвержденные им в декабре того же года в Вардор-отеле в Лондоне делегации партии социалистов-революционеров, в широкой мере способствовали провалу Азефа, что, впрочем, вполне соответствовало истине. Но ни один из них ни словом не обмолвился о провокационных действиях, которые инкриминировались величайшему из предателей. Другие свидетели, как, например, князь Урусов, шурин Лопухина, показали, что бывший директор департамента полиции был сам ошеломлен сообщенными ему во время его беседы с Бурцевым фактами чудовищной провокации и что он долго спустя еще оставался в состоянии полного смятения под влиянием этих фактов. После этих показаний Лопухин попросил у суда разрешения огласить некоторые документы, приложенные к делу, и в частности и особенности доклад департамента полиции, содержавший список двадцати восьми покушений, в которых Азеф прямо или косвенно участвовал. Верная своим принципам и директивам свыше палата отказала обвиняемому в его просьбе. Она лишила его, таким образом, возможности доказать всю лживость утверждений обвинительного акта и Столыпина, согласно которым деятельность Азефа парализовалась якобы его вступлением в центральный комитет.
Прокурор, конечно, усвоил официальную интерпретацию роли Азефа, обвиняя Лопухина не только в преступном разглашении и выдаче революционерам государственной тайны, но еще отягощая это преступление курьезным утверждением, что бывший директор департамента полиции состоял "активным приверженцем" террористической партии!
Защитник Лопухина попутно с убийственной критикой – политической полиции и ярким выявлением роли Азефа доказывал, что его клиент не может быть обвиняем ни в сообщничестве, ни даже в пособничестве революции, что его действия диктовались высшими интересами государства и что единственно, что может быть ему поставлено в вину с формальной стороны, это нарушение профессиональной тайны, проступок, караемый специальным законом. Сам Лопухин в коротенькой и сильной речи подробно остановился на побуждениях, которые заставили его действовать.
"Я не мог не поверить Бурцеву,– воскликнул он в заключение,– и, поверив ему, я не мог молчать, потому что тогда всякое новое террористическое покушение лежало бы на моей совести. Но я никогда ничего общего не имел с революционерами". Это было очевидно. Многочисленные свидетели, в том числе бывший непосредственный начальник Лопухина, бывший министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, в своих показаниях единодушно утверждали, что обвиняемый всегда отличался "крайне умеренным либерализмом", и все же, несмотря на блестящую защиту, на очевидную нелепость обвинения и на обнаружившуюся бесспорную лояльность действий Лопухина, суд после двухчасового совещания вынес приговор, осуждавший "бывшего действительного статского советника Лопухина на пять лет каторжных работ".
Почти вся русская печать единодушно выразила свое возмущение этим чудовищным судебным преступлением.
Единственный свидетель, показания которого могли бы иметь решающее значение для суда, не был вызван. Напрасно Бурцев хлопотал о пропуске в Россию для того, чтоб явиться на суд Лопухина. Правительство не сочло даже нужным чем-нибудь мотивировать свой молчаливый отказ.
Через некоторое время дело Лопухина разбиралось в новой инстанции: перед сенатом. Суд оказался и на этот раз жалкой пародией правосудия. Но особенно гнетущее впечатление произвел сам обвиняемый, которого, видно, сломило многомесячное заключение и который держал себя далеко не c той независимостью и достоинством, как на первом процессе. Приговор был смягчен до трех лет административной ссылки в Сибирь.
Осуждение Лопухина еще менее чем позорное решение Государственной думы замять дело Азефа способствовало успокоению общественного мнения. Возмущение общества достигло крайних пределов, когда было обнаружено сообщничество царской полиции в преступлениях "черной сотни", в частности в деле убийства Герценштейна и Иоллоса, в котором руководящая роль принадлежала председателю "союза русского народа" доктору Дубровину. Дело Гартинга послужило, так сказать, достойным завершением этого удивительного цикла полицейских скандалов. Раскрытие предательства таких многолетних сотрудников, как Зинаида Жученко и Серебрякова, десятки лет работавших в революции и в охранке, точно так же как дело Петрова (убившего полковника Карпова) и Богрова (убившего Столыпина), ничего не могли уже прибавить к общей характеристике нравов и приемов русского политического сыска. Некоторую оторопелость вызвало впоследствии разоблачение Малиновского, но в /этом кошмарном деле поражали не столько методы царского правительства, достаточно известные всем, сколько то, что оно осмелилось применять их даже в народном представительстве и ввести "сотрудника" в Государственную думу.
Наряду с общеполитическими последствиями азефщины следует отметить тот глубокий внутрипартийный кризис, который был вызван разоблачением главы "боевой организации". Перед партией социалистов-революционеров встал в крайне острой форме вопрос о пересмотре всей ее тактики. Со времени Дегаева не было еще в истории русского террора примера более яркого, более убедительного, который с такой очевидностью подтвердил бы всю основательность нападок и всю правильность критики противников "непосредственного действия". Отрицательные стороны террора стали понятны и ясны для многих прежних сторонников индивидуального начала в политической борьбе, а для тех, кто и раньше не склонен был преувеличивать роли террора, кто и раньше понимал, что устранением отдельных вредных лиц система нисколько не ослабляется, азефщина выявила еще и положительный вред, приносимый теорией и практикой политических убийств.
Если для русских социал-демократов, не перестававших со дня основания партии социалистов-революционеров усиленно бороться против отвлечения молодых революционных сил на бесплодные, самоличные атаки царизма, крушение террористической практики в азефщине было очевидным и совершившимся фактом, то сами обанкротившиеся террористы продолжали цепляться за жалкие отжившие формулы, бессильные в последовавший затем период (1909-1914) возродить или, вернее, воскресить умерший террор. Правда, в самой партии с.-р. возникло сильное течение против террора, и значительная часть руководящих органов требовала отказа от этой традиционной тактики и посвящения всех сил партии делу пропаганды и организации революционных масс для коллективных действий. Но на специальной конференции, созванной в мае 1909 г., большинство делегатов высказалось за сохранение террористической деятельности как наиболее необходимого средства борьбы против самодержавия. По делу Азефа конференция вынесла следующую резолюцию.
Конференция постановила реорганизовать все центральные партийные учреждения. Она хотя и выразила доверие старому центральному комитету, но высказала при этом свое сожаление, что в деле ликвидации азефщины он не проявил той энергии, которой от него требовали обстоятельства. Конференция приняла также решение об образовании "судебно-следственной комиссии", на которую возлагались обязанности окончательно ликвидировать положение, созданное раскрытием предательства Азефа и которой присваивалось право вызывать "в качестве обвиняемых или свидетелей" всех без исключения членов партии, имевших отношение к провокатору.
Судебно-следственная комиссия вызвала около двадцати своих свидетелей. Она издала довольно богатый материал своих работ. К сожалению, она не сумела всегда оставаться в роли холодных и бесстрастных судей, и на ее работах лежит печать известной тенденциозности, предубежденности, пристрастия, указывающих на ее близкую связь с центром...1
ЛАНДЕЗЕН-ГАРТИНГ
Не заглохли еще последние отголоски азефской бури, как разыгрался новый скандал, вновь взбудораживший всю Европу. Снова Бурцев выступил обвинителем, и спешно опубликованная новая одиссея Ландезен-Гартинга заполнила прессу всего мира и возбудила лихорадочные толки в коридорах Palais-Bourbon, в министерских канцеляриях и среди русских эмигрантов. Переполошились тайные русские шпионы, которых особенно много было в Париже. Более тяжелого удара не приходилось еще испытать преемникам Рачковского. Французское правительство по требованию Жореса вынуждено было, наконец, серьезно приняться за "тайны" русской тайной полиции и положить им конец.
Для того чтобы ясно понять ландезенскую одиссею, необходимо углубиться в историю русского революционного движения за четверть века до этого времени.
В 1887 г. готовилось покушение на Александра III, руководимое Ульяновым, братом Владимира Ильича Ленина. Покушение не удалось; большинство участников было арестовано; Ульянов и товарищи – казнены. Избежавшие же ареста спаслись в Цюрихе, где образовали революционный кружок, посвятивший себя, главным образом, изучению взрывчатых веществ.
22 февраля 1889 г. руководители кружка Дембо и Дембский, производя в окрестностях Цюриха опыты с изобретенными Дембо бомбами, были ранены упавшим к ногам снарядом. У Дембо были оторваны ноги, Дембский же, хотя и раненый, добрался до города и послал несколько товарищей перенести в госпиталь Дембо. Последний прожил еще несколько часов и перед смертью рассказал следователю, что он русский революционер, занимавшийся изготовлением снарядов с целью политических убийств. Происшествие заставило швейцарские власти произвести расследование, результатом которого 19 человек, находившихся в ближайших сношениях с Дембо и Дембским, были высланы из Швейцарии. Кружок перебрался в Париж, где вновь сорганизовался и принялся опять за старое дело.
Одним из наиболее деятельных членов кружка был Авраам Геккельман, пользовавшийся большим доверием своих товарищей. Геккельман прибыл в Париж после цюрихских событий, где он играл какую-то темную роль. В кружке Геккельман познакомился с Бурцевым.
Между членами кружка шли толки о возвращении в Россию, так как находили неудобным злоупотреблять гостеприимством чужой страны и производить здесь опыты со взрывчатыми веществами.
Геккельман, принявший впоследствии имя Ландезена, по паспорту одного таинственно исчезнувшего прибалтийского немца, был прекрасно осведомлен о всех действиях кружка, но ни он, ни его товарищи не подозревали об одновременном существовании в Париже другого кружка, деятельно занимавшегося фабрикацией бомб. Этому кружку достались взрывчатые части, оставшиеся после ликвидации цюрихского кружка, и он усердно продолжал свои опасные опыты.