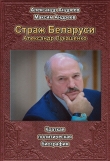Текст книги "Газета Завтра 280 (15 1999)"
Автор книги: "Завтра" Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Николай СЕРБОВЕЛИКОВ __ IT IS MY BUSINESS (Трагифарс)
Нынче все заняты “серебряным веком”.
Но кроме “серебряного”, был и “золотой”: наш Большой стиль XIX века. (Впрочем, он был и в XVIII, и в ХХ, но XIX – расцвет.)
Про литературу XIX века считается, что мы прошли ее в школе, а теперь можем и забыть.
Но традиции XIX вовсе не исчерпаны, мало того, они порою и более жизненны, чем все позднейшие.
В частности, не исчерпал себя “монологический” разговорный стиль той поэзии прошлого, какой она предстала в произведениях классики, сочетающих в себе свободу и прозу жизни, пластичность характеров и особую сниженность изложения. Самые острые образцы этого стиля дает Барков, коего великолепно знал Пушкин, о чем обычно умалчивают. “Граф Нулин”, “Домик в Коломне” самого Пушкина, “Тамбовская казначейша” и “Сашка” Лермонтова... Да что там, и в самом “Онегине” мы порой чувствуем ту же интонацию.
Современный наш автор Н. Сербовеликов хочет возродить эту линию.
Видимо, его привлекает возможность сочетать в стихах драматизм и “низовое начало”, которого сейчас так много в жизни, со свободой и легкостью тона, принадлежащего большой, а не малой традиции...
Почему нет?
Вл. ГУСЕВ
Я умер снова и опять воскрес...
Духовной жаждой я томился...
И шестисотый “мерседес”
на перепутье мне явился...
ПРОЛОГ
Здесь, в центре композиции живой,
опять Милов, знакомый давний мой,
что продолжает эту галерею,
перед которой я всегда балдею...
Расстаться с ним теперь не в силах я.
Об этом дальше речь пойдет моя.
Знач так, родился он в провинции глубокой,
однако же давно в Москве живет,
тоскует здесь о родине жестоко,
особенно, когда запьет.
Милов с искусством навсегда расстался,
но никогда не сожалел о том,
хоть мысленно к нему и возвращался
(см. повесть “Вилково” о нем).
Он утвердился, говоря не строго,
в том, что в душе пошел не дальше многих
иль в миропониманье превзошел,
и в том себя, пожалуй что, нашел.
В нем было все: презрение к страданью
и равнодушье к тайне мирозданья,
отсюда отношенье ко всему,
что б на пути ни встретилось ему
Он был, понятно, не Иисус Христос,
не потому, что духом не возрос
до пониманья высшего порядка,
но не годился страстотерпцем быть,
хоть жизнь его, увы, была не сладкой;
и для себя не находил примера,
где б сочетались истина и вера,
Вместо того, чтоб пулю в лоб пустить,
страдая, тупо продолжал он жить.
Милов обшарил все углы вселенной
и ничего, конечно, не нашел,
и примирился с этим постепенно,
но так покоя он и не обрел.
Была невыразимой мысль одна,
что в самом мозжечке его таилась,
и до абсурда им доведена,
сквозь амбразуры глаз его светилась.
1
Хоть жизнь его катилась по наклонной,
судьба к нему бывала благосклонной.
Сегодня пол-Москвы дуреет с жиру..,
а он как раз наследство получил
от тетушки и “Мерина”* купил,
дом в Подмосковье и в Москве хавиру.
Родная тетка умерла в Канаде,
сбежавшая в семнадцатом году
с каким-то офицером, Бога ради
решившего тогда ее судьбу.
По приглашенью полетел в Америку,
а заодно и Штаты посетил,
но не случилось с ним тогда истерики,
и быстро он обратно укатил.
Итак, он стал подобьем новых русских,
не приложив ни хватки, ни труда,
и говорил, шутя и зло, и грустно:
“В России дуракам везет всегда...”
А мог бы стать обыкновенным бомжем...
Но был ему иной удел положен;
бомж с внешностью Марчелло Мастрояни –
нет ничего у нас экстравагантней..,
иль в облике Христа из Назарета,
что может быть правдивей в мире этом?..
2
Я с ним столкнулся в Доме литераторов
среди богемы, скрытых провокаторов,
и в трепет повергая пестрый зал,
он широко, по-русски, поддавал.
Бухал герой наш в позе супермена
в углу, где нарисован Бафомет
средь шаржей и автографов настенных,
где верхним называется буфет.
Он в шутку “It’s my business” повторял.
Он на себя вниманье обращал.
С Миловым Глебом барышня сидела
и откровенно от всего балдела,
и каждое его ловила слово,
и явно было видно: влюблена;
во всем горой стояла за Милова,
не понимая в общем ни хрена...
Вообразив знакомую картину,
порой я представляю, как гудят
средь вечных женщин вечные мужчины;
всегда о постороннем говорят.
И стоит только женщину найти –
и тут же все проблемы отпадают:
будь то загадка Млечного пути,
загробной жизни, тайны мирозданья...
С Миловым, как спасение от скуки,
товарищ был, ударенной наукой;
он много знал, да мало понимал,
мне чем-то их союз напоминал
знакомые до боли отношенья.
Есть линия такого поведенья,
что выработал для себя Милов
как умный человек без лишних слов
вести себя до гроба обречен,
и в этом был неподражаем он.
Братякин был вообще забавный малый,
но ни о чем поговорить, бывало,
любил: о вечности, о бренном, о мирах;
и что наш Бог, и что их Бог Аллах.
Где б ни скитался, что б ни делал он,
одной лишь мыслью был он угнетен:
что все земное не имеет цели,
а, значит, смысла в мире нет ни в чем,
но каждый в мире думать обречен,
а помирать придется в самом деле.
И это состоянье, как тоска
или отрава, в душу проникает,
и каждый про себя все это знает,
и должен жить, и должен жить пока...
Жизнь в сущности лишь сумма повторений
дней и ночей или иных явлений;
от этого с ума он и сходил,
но выхода ни в чем не находил.
Одно и то ж: закаты и рассветы,
работа – дом, работа – дом, работа – дом,
и в промежутках жизни беспросветной
свой небольшой, но истинный содом.
3
Но Глеб Милов не склонен был серьезно
о том, что нам постигнуть невозможно,
с ним толковать, молчал или хохмил
и на другое речь переводил:
– Ты все долбишь, что в жизни целей нет,
а мы с тобой зачем пришли в буфет?
Вот цель тебе, –
Братякин возмущался
и, выпив водки, в дебри погружался...
Но, баритоном оглашая зал,
тогда Милов Братякину сказал.
Я привожу Милова монолог,
насколько я его запомнить мог.
В нем, мне казалось, все старо и ново,
и в духе Глеб Иваныча Милова:
– Устроен этот мир довольно просто,
и цепким постигается умом;
все сводится к немногим парадоксам,
которые найдешь в себе самом.
Кто это понял, тот давно живет
известным матерьяльным интересом,
того тоска познанья не грызет,
тот менее всего подвержен стрессам.
От дня творенья и до наших дней
тиран любого времени – плебей.
Достаточно представить на мгновенье,
что целый мир – случайное скопленье
двуногих тварей, как сказал пиит,
среди которых большинство – ублюдки,
которыми лишь движут предрассудки
и прочее, и ты уже убит...
Не верят в прошлое и будущее, в Бога,
не верят в настоящее свое,
как надо, сделать зло и то не могут,
все лучшие ушли в небытие.
Нет дружбы без предательства и лести,
и без измены нет любви земной...
Когда все это вдруг представишь вместе –
едва ли сохранишь рассудок свой.
А ежели еще о бездне звездной,
которую представить невозможно,
не говоря о том, чтобы объять,
припомнишь – и тебе уже не встать.
К тому же рухнуть этот мир способен
по умыслу иль глупости иной,
двадцатый век – он миражу подобен,
как жизнь, что пролетела стороной...
Плюс наша патогенная система,
я с ней бороться сроду не желал
и с непреодолимым отвращеньем
я с нею глупо сосуществовал...
Но тут и начинается, друзья,
все то, что жизнью называю я.
Братякин ничего не возразил,
а выпил водки и опять налил...
Так, недоволен миром и собой,
он в каждодневный уходил запой.
4
Он за Миловым, словно тень, ходил,
как девица, в него влюбленный слепо,
и, как Грушницкий незабвенный, был
без имени он у Милова Глеба.
Полуфилософ, полубомж поддатый,
как многие сегодня, без зарплаты
Фадей Братякин не комплексовал
в одном: когда водяру разливал...
Перевалив за тридцать лет с лихвой,
во всем разочарованный до срока,
и на себя давно махнув рукой,
о смерти он задумался глубоко;
и ей в глаза пытался заглянуть,
но лишь волненье наполняло грудь...
И думал он невольно: “Для меня
скорее б все закончилось однажды...
Переступить границу бытия
всего трудней, а что потом – не важно”.
............................................
Их дружба не закончилась дуэлью.
Братякин спился и достигнул цели:
на Бабушкинском кладбище лежит,
где речка Яуза в Медведково бежит...
Но это было позже, а пока
Милов держал его за чудака.
Но радости ему не доставляло,
что самолюбие Братякина страдало,
зашкаливало иногда, и тот,
старался скрыть волнение в груди,
едва смахнув со лба холодный пот,
не ведая, что будет впереди...
Самодовольства вечный вампиризм
давно был чужд Милову, и к тому же
к успеху также стал он равнодушен,
как к неудачам, что сулила жизнь.
Хотя он душу мне не открывал,
я только так его и понимал.
...Итак, друзьями будучи заклятыми,
они гуляли часто по Тверской
при полной выкладке с бравадой напускной,
но по Тверской и я гулял когда-то,
но это было будто не со мной...
5
– Не знал, что ты имеешь отношенье, –
сказал мне Глеб с усмешкою тогда, –
к литературной этой богодельне.
– Я только выпить захожу сюда,
но здесь, – ему добавил осторожно, –
двух-трех людей великих встретить можно.
– Налью тебе я водки, хоть не верю,
что написал свою здесь “Княжну Мери”
хоть кто-нибудь, и славу
здесь вряд ли кто-то заслужил по праву.
– Нас могут здесь побить, – я говорил, –
здесь аккуратней надо быть со словом, –
но кто бы самого остановил Милова,
когда он пил...
Но мне знакомо было это чувство.
Как все, кто жизнь, как Байрон, начинал,
но безвозвратно с творчеством порвал,
так называемых людей искусства
Милов в душе невольно презирал.
...Уже он с вожделением угрюмым
смотрел на окололитературных фей,
и легкой ревностью своей подруги
все чаще раздражался и сильней.
На дерзкий взгляд к кому-то подошел –
и опрокинул на соседний стол...
Перед деньгами большинство пасует,
а у Милова ясно на лице
написано, что он всегда банкует,
и стушевались мальчики в конце...
Здесь надо бы отметить, между делом,
(особенно в Москве и в наши дни)
в Останкине, Кремле иль в ЦДэЛе
одни они везде, одни они...
Ловя косые взгляды на себе,
по сторонам невольно озираясь,
в тот день я благодарен был судьбе,
что наконец с Миловым мы расстались.
6
...Я вышел в ночь. Вокруг Москва шумела..,
но до всего ей было мало дела.
Я умер снова и опять воскрес....
Духовной жаждой я томился...
И шестисотый “мерседес”
на перепутье мне явился...
ЭПИЛОГ
Пока я думал, что мне делать дальше,
чтоб получился Глеб Милов без фальши,
внезапно от Братякина узнал
его судьбы трагический финал:
он застрелился в собственной квартире
из браунинга своего..,
но все, как прежде, оставалось в мире,
как будто не случилось ничего.
В благополучной и чужой Канаде
живут его двоюродные братья...
Но после смерти своего кумира
Братякин до конца ушел в запой
и навсегда уже расстался с миром,
и расквитался с собственной судьбой.
Забытый всеми, Богом не забыт..,
в объятьях вечности в земле сырой лежит.
...Отрывок из романа “Мой герой”
рискнул я дать отдельною главой:
7
“Сижу на лавочке у могил, задумываюсь над прошедшим, но ничего не нахожу в душе, что могло бы дать надежду. Одна и та же конечная мысль, отменяющая все другие, сверлит голову: все там будем... И зачем природе необходимо на земле вечное неравенство умов, душ, судеб, наконец, ежели перед смертью все равны? Уж не признак ли это существования загробной жизни, в которой, может быть, смысла не больше, чем в жизни земной...
Жизнь – чреда разочарований, но когда уже станет не в чем разочаровываться, мы начинаем ценить то, чем ранее пренебрегали. Это приходит само, к кому раньше, к кому позже. Для иных это самообман, но немногие способны противостоять ему, ибо дальше смерть, если не в прямом, то в переносном смысле. А смерть – это расплата за удовольствие жить; а, может, и так: жизнь – наказание за счастье уйти в небытие. Жалкое состояние души, ловушка природы, бессмыслица мира.
Неверие в юности привело меня к мысли о самоубийстве, но я в конце концов избавился от нее простым умозаключением: раз жизнь бессмысленна, то смерть, вероятно, еще бессмысленней, следовательно, самоубийство – втройне бессмысленная вещь. Был в этом, однако, оттенок благоразумия, с чем душа никак не может примириться...”
Александр РОСЛЯКОВ РАССТРЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
КОГДА-ТО Я ПЕЧАТАЛСЯ довольно часто в “Независимой газете” и был с ее редактором Третьяковым в самых превосходных отношениях. Но после того, как хозяином газеты стал гражданин Израиля и господин России Березовский, меня оттуда живо потурили.
Однако это был еще негласный, так сказать, нигде не зафиксированный письменно отлуп. Воспользовавшись этим, я затем снова проник за недостаточно плотно сомкнутые двери. И за напечатанную в результате там мою заметку заработал в той же “Независимой газете” уже письменный запрет на мое злое слово навсегда.
Опубликован приговор был под заголовком “НГ” приносит извинения”:
“...Чем руководствовались сотрудники “НГ”, принимавшие решение о публикации этого текста, лично мне знать неинтересно, а читателям даже вредно.
Как главный редактор “НГ” я заявляю, что за всю восьмилетнюю историю нашей газеты ничего столь безобразного у нас не печаталось.
В связи с этим я приношу свои личные и от всей редакции извинения читателям. Разумеется, отныне опусы г-на Рослякова никогда уже не появятся на страницах “Независимой газеты”.
Виталий ТРЕТЬЯКОВ”.
Читающая публика, естественно, была заинтригована. Не только за всю восьмилетнюю историю этой газеты, пожалуй, ни один главный редактор еще не каялся печатно так, как Третьяков в своем проникновенном “Извинении”. Хлестать для собственного покаяния других – это естественно, это таков у нас уж генный код. Как на себя-то поднялась рука? – вот что дивило.
Я тоже был, признаться, разгоревшимися тогда страстями поражен. В ответ на мою заметку “Раскрытый заговор” явилась масса “круглых столов”, писем трудящихся и гневных отповедей на “Эхе Москвы”, в “Московском комсомольце”, “Общей газете”, “Новых известиях” и так далее. “Независимая” из номера в номер бичевала себя подборками откликов, где словно из пучин всплыла вся якобы отмершая в демобиходе – ан в лучшем виде выжившая лексика:
“Не просто графомания, а оскорбление...” “Нагромождение лжи и клеветы...” “Абстрактный плюрализм в надежде угодить и вашим, и нашим, от которого выигрывают негодяи...” “Советский фашизм, означающий фашизм в квадрате...” “Вход в журналистику должен быть категорически заказан...” И тому подобное.
Конечно, всей удивительной интриги, порожденной тайнами текущего мадридского двора, простому, непридворному и близко автору, как я, постичь нельзя. Но кое-что на этот счет мне все же удалось узнать в итоге.
Мой старый друг поэт Сергей Алиханов выпустил довольно неожиданную книгу. Толстый фолиант, без малого 700 страниц, был запрятан под скупым названием “Судебный отчет”. И заключал в себе стенограмму судебного процесса 1938 года по бухаринско-троцкистскому блоку.
История издания слегка напоминала детектив. В 1938 году стенограмма процесса была разослана спецпочтой по управлениям НКВД страны. Но затем был дан приказ вернуть все номерные экземпляры в центр, а в отдаленных точках – на месте уничтожить. Однако один храбрец этот отчет припрятал. И уже в старости, через десятилетия, поведал о своем поступке внуку. Объяснил же его так: предвидя, что со временем наша, на удивление закрытая, история все оболжет, он хотел сберечь подлинную правду для потомков. И завещал: когда-нибудь опубликовать этот предельно откровенный документ эпохи.
Внук, выбившийся уже в наше время в обеспеченные люди, имел какие-то резоны, которые, как и свое имя, предпочел не раскрывать, чтобы держать документ в секрете до последних пор. И доверяя Алиханову его издание, просил до выхода в свет тиража о нем помалкивать. В итоге всех этих предосторожностей, о справедливости которых я не мог судить, книга и вышла под таким не говорящим лишнего названием – чтобы заранее не засветиться где не надо.
Эту преамбулу я предпослал своей заметке, представлявшей собой рецензию на названную книгу. А дальше достаточно подробно пересказал фабулу процесса, на котором Бухарин и его подельники обвинялись в попытке расчленения СССР, подготовке иностранной интервенции и “дворцового переворота” против Сталина и его присных.
В финале же я позволил себе несколько собственных, сугубо субъективных, разумеется, суждений. Прежде всего – почему мне лично все признания бухаринцев в измене не показались голой выдумкой.
И еще не удержался я поведать об одном исподволь возникающем по прочтении книги эффекте. Уже постфактум зная, во сколько миллионов жизней обошлось предательское “открытие фронта” в 41-м, которое готовил еще задолго Бухарин, невольно хотелось, против всего затверженного, мысленно бросить Сталину упрек не в перегибе в борьбе с изменой, а не недогибе!
И ВОТ Я, СЛЕДУЯ формально даденной свободе слова, понес эту заметку в разные издания, где она сразу возбудила интерес. Ибо документ, который я цитировал обильно, издавал ласкающий редакторские ноздри жареный душок, источник тиража.
Но заковыка в том, что у формально даденной свободы есть еще экономическая подоплека. Газеты, воспевающие рынок и капитализм, в натуре существуют у нас не по законам рынка, а из мошны какого-либо господина толстосума. И потому размеры тиража играют роль такую же примерно, как размеры бюста у красавицы, взыскующей симпатий покровителя. Чем больше – тем на большее можно и выставить; хотя есть, как известно, и любители миниатюр. Но вот не потрафишь золотому тельцу если – при любых размерах пролетишь. Этим тельцам в итоге, как я мог понять, моя заметка-то и не трафила.
Но мое дело – тоже предлагать свое, авось где-то да глянется. И я припомнил, что в “Независимой газете”, куда мне еще не забили вход категорически, у меня в друзьях был заместитель Третьякова, редактор еженедельного книжного приложения Игорь Зотов. Как раз по моему жанру – и я передал статью ему. Он ее прочел и пообещал подготовить к публикации.
Готовилась она целых полтора месяца. Специальный эксперт “Независимой” текст скрупулезно изучал – и я весьма подозреваю, что такую обширную, на всю полосу, статью, да еще под моей сомнительной фамилией, не мог не проглядеть, хотя бы бегло, и сам Третьяков.
И вот она печатается – и вызывает сразу бурный интерес. Как рассказал мне Зотов, было целое нашествие в редакцию за этим номером газеты. Смели все экземпляры из отделов, еле удалось оставить что-то для подшивок. Но звонит мне через несколько дней Зотов: слушай, тут говорят, что этот отчет уже до Алиханова был издан. Ну и что из этого? – спрашиваю. А из этого, говорит он, выходит, что ты всех надул, это никакая не сенсация, а провокация.
Я говорю, что я, во-первых, и не утверждал, что не было других изданий. А только рассказал историю этого, как мне издатель рассказал. А во-вторых, к Алиханову за этой книгой уже кинулись ученые-историки, профессора, в том числе МГУ, в том числе профессор Нью-Йоркского университета Стивен Коэн, председатель Бухаринского общества, самый известный в мире авторитет по Бухарину. Он книгу приобрел и засвидетельствовал, что полного общедоступного издания еще не было, а были только усеченные и искаженные.
Ты, говорит Зотов, тогда все это на бумажке напиши, чтоб было чем прикрыться. А вообще тут что-то странное с твоей статьей, я сам пока всего не разберу.
Но ничего писать вдогон уже мне не пришлось. Поскольку вскорости и началась та показательная порка, когда уже не только в “Независимой”, отметившейся той проскрипцией, но и в любой другой порядочной газете мое отмеченное чуждым плюрализмом слово появиться не могло.
Лупить меня взялись по всем коварным правилам нетленной инквизиции, не в глаз, а в бровь. То есть вцепились перво-наперво в ту вышеприведенную, вполне невинную преамбулу. Лучше всех этот прием представил Третьяков в своем пронзительном по искренности “Извинении”:
“Есть конкретная и громадная ошибка “НГ”, на страницах которой появился этот текст.
Спорить о его содержании неинтересно и бессмысленно. Хотя бы потому, что автор текста выдает за раритет то, что сотни тысяч читателей, в том числе и я, держали в руках до всякого Рослякова. Человек, ошибающийся в столь элементарном, вряд ли может претендовать на “переосмысление” исторического процесса...”
Хороший анекдот есть, как один тоже ошибся: хотел, прошу прощения, пукнуть – а наделал куда больше... Но пусть я и ошибся, хотя тогда вместе со мной в элементарную ошибку впал и уже названный мировой авторитет профессор Стивен Коэн. Но суть не в этом; главное, что от этой, может, справедливой, может, нет, ничтожности и плясала вся дальнейшая логическая пирамида. Ах книга – не раритет, ну, значит, и все в ней – брехня. И рецензент – брехло, и никакого бухаринского заговора не было, но это еще только первый ход.
Следующий делает знатный как при коммунистах, так и при демократах публицист Аркадий Ваксберг. Он, в терминах их стороны, как раз и преуспевший угодить и нашим, и вашим, дополняет явленную Третьяковым искренность своей змеиной проницательностью: “Автор не так глуп, как хочет показаться!” “Эта рекламная “завлекаловка”, – яснее формулирует его посыл “Общая газета”, – пахнет большой кровью”.
И дальше уже бьет, устами академика Яковлева, логический апофеоз – не скрою, отчасти даже лестный для меня по отводимой мне в текущем политическом процессе роли. Уже я, этот “всякий” и не интересный никому, чудесно превращаюсь в некую могущественную силу – “скорее нацизм, чем муссолиниевский фашизм” , “140-150 фашистских газет” , оплот национальной розни и резни, откуда растут ноги абсолютно всех нынешних бед:
“Потерпев два поражения в двух открыто фашистских путчах 91-го и 93-го годов, они, – это я, значит, – увидели, что если еще раз пойдут в открытую, то их на самом деле запретят... Они, – это опять я, – из одного гнезда – фашизм и большевизм... Они, – и это я, – почувствовали, что парламент, власть, суд, прокуратура – это их защита и надежда. Орут больше всех о законности, свободе слова. Они даже на меня подавали в суд...”
Ну и за этот безобразный ор в пользу законности – все ж бывший член Политбюро ЦК КПСС, а не какой-то “всякий” мою персоналку разбирал – уже оргвыводы: публичное символическое сожжение и запрет на деятельность в подначальной, называемой свободной, прессе.
НО САМАЯ СОЛЬ в том, что когда академик Яковлев еще служил в большевиках, то бишь в фашистах, по его определению, и возглавлял у них идеологию, мне от его же службы крепко перепало тоже. На редколлегии тогдашней “Правды” ее член однажды доложил, что неусыпной службой вынесено мнение больше меня в той еще подначальной прессе не печатать никогда. Только тогда мне вешали антисоветчину, антифашизм по-нынешнему. И вот после того, как академик скинул партбилет, а мне, сроду безбилетнику, досталось и от наших, и от ваших, – материальным воплощением того фашизма, главным идеологом которого был он, стал я.
То есть я как-то угодил своей заметкой во что-то потайное за кулисой, что тотчас и пустило в ход весь страшный механизм. Причем спех с запуском его не дал даже толком глянуть в сами тексты его. Например, на “круглом столе” на “Эхе Москвы” того же прокурора Вышинского, бывшего на бухаринском процессе гособвинителем, упрямо называли, вместо Ульриха, судьей. А главным аргументом для всего избрали, наподобие универсального разводного ключа у слесаря, такой: “Параноидальное сознание”. Таким путем какой-то признанный демократический историк, фамилии которого я не запомнил, и развел все по своим местам.
И тут, конечно, поневоле набивался в голову вопрос. Почему все-таки какая-то рецензия на книгу, давным-давно известную, как с нажимом повторяли все, зажгла такой сыр-бор? Академики, профессора, цвет публицистики: Яковлев, Ваксберг, Марк Дейч, Рой Медведев и прочие, – словно по крику “Фас!” напали всей армадой на какого-то, как сами же твердили, графомана, неофита, “выплывшего из алкогольной безвестности” ?
Ведь нынче уже пишутся такие жуткие разоблачения – хоть святых вон выноси. При этом и изобличенные святые в ус не дуют, и армады в бой не прут. Почему ж именно Бухарин явил собой какую-то священную корову для армады? Почему именно на этой теме страшное табу?
Быть может, как мне показалось по наквасу всей кампании, потому что признание Бухарина изменщиком, расстрелянным заслуженно, банкротит саму генеральную идею кампанейцев. Что сталинизм, рубивший не изменщиков, а праведников, – это такое абсолютное зло, ради расправы с коим допустимо абсолютно все. Любое воровство, любые горы трупов – и в Чечне, и в “Белом доме” – вплоть до уничтожения самой страны и населения, которые еще должны за это благодарны быть. Лишь бы не было – но не войны, как прежде верилось, а сталинизма.
Но коль уж из меня в итоге сделали какого-то публичного мерзавца, обвинив и в паранойе, и в расчетливой попытке показаться самого себя глупей, и в плюрализме, и в фашизме, и в разжигании свободы слова, и даже в покушении на честь Жанны д’Арк (Виктор Шейнис), – позволю себе хоть слегка обмолвиться, в порядке самооправдания, по существу предмета.
Указанная книга досталась мне не вследствие какого-то чудовищного заговора, а – хоть верьте, хоть нет – чисто случайно. И больше всего впечатлила восстающим из ее стенографической объемности ощутимым духом той эпохи – в ремарках, интонациях, пикировках действующих лиц, во всей перемываемой дотошнейше фактуре. А Сталин и его эпоха сделались нынче для нас – это витает в воздухе и носится на митинговых транспорантах – действительно живее всех других.
Думаю, и потому, что наша история пошла как бы вторым заходом на те же самые, причем все более кровавые и явно не случайно выпавшие нам под ноги, грабли. Каким бы темным ни считали меня оппоненты, я нипочем не соглашусь с их главным постулатом. Что кровь при Сталине – фатальный произвол отдельной кучки негодяев, а кровь при Ельцине – какой-то, чуть не до оргазма сладкий, тоже фатум, “объективные процессы”.
И там, и там свои реальные и объяснимые – но так покамест убедительно не объясненные, а потому не снятые – причины есть. И в том, что при усатом Сталине в СССР было ужасное количество невинных и виновных заключенных – аж под миллион, а один год и за миллион. И в том, что при безусом Ельцине – тех же виновных и безвинных только в России в лагерях за миллион, по самым скромным данным.
В ту мрачную эпоху, как мы читали еще в капитальных книгах и журналах, люди по ночам при шорохе за дверью приходили в дрожь. Теперь, в такую светлую, что перестали вообще читать о чем-то, кроме нижнего белья и нового хахеля Маши Распутиной, те же ночные ужасы уверенно вернулись в жизнь. Ну и по части убиенных, без вести пропавших, беспощадных стражей и бесплатного труда – те же поразительные, в их видоизмененной узнаваемости, совпадения.
Вышло, как в воистину пророческом фильме “Покаяние”: именно то зло, что с такой страшной силой хоронили, персонифицируя его со Сталиным, и не захоронилось. Все зубья, обагренные уже текущей, свежей кровью, опять вылезли из-под земли. Поскольку дело, очевидно, не в фамилии, и даже от перемены строя и уничтожения самой страны дремавшее где-то подспудно зло не уничтожилось. А наоборот – заполыхало снова истребительным огнем. Но почему? В чем корень зла – вместо которого, как уже явно видно, выдернули что-то, что не следовало вовсе вырывать? Вот в этом суть – а не в каком-то левом споре, раритетна книжка или нет.
В ней есть над чем подумать в этом плане, отрешась от непотребной злобы и того, и нынешнего дня. Когда во время войны Севера и Юга в США Авраам Линкольн приказал расстрелять всех поголовно жителей вражеской деревни, кто-то спросил: “Но маленьких детей за что?” Великий борец с рабством дал ответ, вошедший аккурат в историю: “Из гнид вырастают вши”. Конечно, за такую откровенную, но и предельно адекватную времени жестокость и его можно было б лихо запинать в гробу. Но наши антиподы, раскинув прагматичными умами, своего сурового героя густо пролитой им кровью поливать в гробу не стали. А даже нарекли им свой традиционно президентский лимузин.
У нас пока кого и за что, надо или нет пинать в гробах – вопрос неустоявшийся. И в том, что идеологические копья то и дело схлестываются на родном погосте, вороша былое, – еще не вижу я греха. Но нет паскудней пропаганды, купленной за выграбленные у своего народа деньги, которая пинанием вчерашнего, действительно начертанного кровью, протаскивает сегодняшние кровь, насилие, грабеж и разорение родной страны.
МНЕ ЛИЧНО кровь любая, и при ваших, и при наших, ненавистна. И вся моя, наивная, быть может, цель была – подвигнуть добросовестных историков открыть закрытый от нас толщей всякой пропаганды процесс века. То есть не в том псевдоключе: давило или нет следствие на фигурантов – что несерьезно, на то и следствие, чтобы давить. А докопаться впрямь: имели или не имели место фигурирующие в деле эпизоды? Отсюда уже и судить, откуда исходило это неопознанное обществом доселе зло, которое уже само хоронит нас.
Кстати, именно так многие меня и поняли. Тот же Стивен Коэн, профессор МГУ Ричард Косолапов и другие доки сообщили о своем намерении поднять и именно эпизодически исследовать бухаринское дело. И больше всего реальных писем в “Независимую газету” имели смысл, как раз обратный тиснутым подборкам. При этом часто начинались так: “Хоть я и убежден, что моего письма не напечатают, но...” И как цинично мне поведали, дабы не разубеждать писавших, действительно печатать этот самотек не стали.
Только на самом деле, как разболтал мне некто, кого не могу назвать, тайная пружина всей интриги, и третьяковского пронзительного покаяния в том числе, сидела даже не в иезуитской пропаганде, а совсем в другом. Как для моих писательских амбиций ни обидно, но, по словам источника, на собственно мою заметку нашим мадридским мудрецам было б плевать. И все комиссионное сечение меня имело, по их изощренной мысли, настоящей целью вовсе другое и уже подлинно мадридское лицо. А именно: самого сановника-интернационалиста Березовского.
Секрет же открывался так. Когда мою статью напечатали, кому-то, уж невесть кому, шибает в голову, что публикация возникла неспроста. Статья большая, на всю полосу, не один день писать – ну, значит, точно заказная. Да и может ли, при нынешней свободе купли и продажи слова, быть какая-либо статья не заказной? Конечно, как ребята с нашего мадридского двора лучше всех знают, нет. А значит, публикация – лишь видимая часть какой-то хорошо спланированной и далеко идущей тайной комбинации.