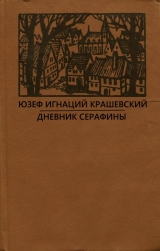
Текст книги "Дневник Серафины"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Еще день-два, и, покончив с делами, он простится с нами. Он едет под Жешув спасать очередного помещика от разорения. Если, с насмешкой сказал он, его пребывание в Галиции не сочтут опасным и не прикажут в двадцать четыре часа покинуть ее пределы. Как это уже не раз случалось.
Я записала его слова по памяти: может, потом пойму, что они значат. А сказал он примерно вот что:
– Как бы смирно ни вели себя мы, несчастные изгнанники, австро-венгерские власти всегда будут относиться к нам с подозрением. В их глазах представляет опасность и наш труд, связанный с передвижением по стране, присущая нам в известной мере независимость суждений. Многие из тех, кто верой и правдой служат австро-венгерской монархии, разыгрывали из себя некогда патриотов, но то была безобидная игра, и продолжалась они до тех пор, пока они не дослужились до высоких чинов. И тогда, облачившись в мундиры тайных советников, они почему-то вообразили, будто им угрожает опасность со стороны тех, кто лишен возможности надеть шитый золотом мундир и величаться превосходительством. Чаще всего их недоброжелательность относится к нам, эмигрантам, в которых они видят не братьев, как оно должно быть, а врагов…
16 декабря
О, я несчастная! Со слезами упросила Опалинского остаться еще на несколько дней. Но что для нас эта живительная капля в кубке яда? Разлука все равно неотвратима.
Когда он рядом и я внимаю его речам, мнится, во мне совершается переворот, перемена к лучшему, – на душе становится покойней и отрадней. На окружающий мир он взирает как бы с высоты и потому видит дальше и шире.
Но стоит после разговора с ним послушать маму, и кажется, будто я вязну в болоте, как в продолжение всей моей несчастной юности. Он уедет, и прощай покой, прощай все!
Еще немножко и я, пожалуй, примирилась бы с нуждой, даже с необходимостью трудиться. Но бедная мама… В ее возрасте трудно менять привычки, да и я – я тоже, – когда он уедет, стану снова прежней…
17 декабря
Но даже этим эфемерным счастьем не дала мне насладиться безжалостная судьба. Поутру прибыл нарочный: у меня упало сердце, – мне показалось, я видела его в Гербуртове. Но время шло, меня никто не тревожил, и я постепенно успокоилась. В десять часов пошла я к маме. Она, как обычно, сидела в кресле, и у нее на коленях лежало распечатанное письмо.
– А я жду тебя, Серафина, – сказала она, едва я появилась в дверях. – Советник прислал ко мне письмо…
Я переменилась в лице. Это не ускользнуло от мамы, и она не докончила фразу.
– Успокойся, пожалуйста, – продолжала она после небольшой паузы. – Речь идет о сущем пустяке, не сделать который ради матери было бы жестоко с твоей стороны. Оскар болен… Он не встает с постели и хочет тебя видеть. Если ты согласишься хотя бы навестить Оскара, советник сулится мне помочь. Как-никак он твой муж, и приличия обязывают тебя к этому.
Я промолчала, – ответом моим были слезы. Но мама, вместо того чтобы посочувствовать мне, рассердилась.
– Серафина, дитя мое, я просто не узнаю тебя! Неужто трудно сделать такую малость ради несчастной матери? Мы сидим без гроша, жалованье прислуге не уплачено, кредиторы досаждают, даже шоколад, который поддерживает мои убывающие силы, не на что купить. Или ты хочешь быть виновницей моей смерти?
Не в силах вымолвить слога, я в слезах выбежала из комнаты. С мамой сделался обморок. Пильская заклинает меня вернуться в Гербуртов. Ничего не поделаешь, завтра еду. Вечером, когда мы с ним прощались, я сделала собой усилие и не показала вида, как мне тяжело.
– Не забывайте обо мне… участь моя достойна сожаления, – сказала я, и глаза наши встретились.
Он припал к моей руке и молча вышел, – волнение мешало ему говорить.
Гербуртов, 19 декабря
Болезнь Оскара – бессовестная ложь, советник хотел таким образом залучить меня в Гербуртов. Встречали меня с почестями, словно знатного гостя. Советник ни на минуту не оставляет меня одну. Оскар, всегда болезненный, но за время нашей совместной жизни несколько окрепший, в мое отсутствие похудел и, мне показалось, его лихорадит, хотя в постели он не лежит. Руки у него дрожат, взгляд дикий, блуждающий. И совсем не может обходиться без палки. После ужина я поспешила к себе в комнату и заперлась на ключ.
Оскар изменился к худшему. Я начала было привыкать к нему, а сейчас он вызывает во мне прямо-таки непреодолимое отвращение. Боясь, как бы он не пожаловал ко, мне, я наказала Юльке никуда не отлучаться. Но никто не нарушил моего одиночества. Лишь утром пришел советник.
– Вчера при Оскаре мне не хотелось оправдываться перед вами, – начал он тихим голосом, – и вы могли счесть его болезнь выдумкой. Он, правда, еще встает с постели, но домашний доктор не скрывает того, что дни его сочтены. Продлить ему жизнь невозможно, однако…
Перо мое бессильно передать, с какой циничной откровенностью советник поведал мне, что единственное его желание – не дать угаснуть их роду. Конечно, его мало трогает, ценой какого невероятного унижения мне придется заплатить за это. Зато как мать наследника, я буду пользоваться всеми правами, в противном случае мне не на что рассчитывать.
Он говорил удивительно хладнокровно. Я вскочила со стула и рассмеялась ему в лицо.
О, жизнь, какие злые шутки она шутит с нами! Более забавного фарса не сочинить ни одному комедиографу! (Дальше несколько страниц отсутствует.)
15 мая
Советник едет с Опалинским во Львов улаживать мои дела. Доктор считает, Оскар больше двух-трех недель не протянет. Он уже не встает с кресла, и речь его совсем стала бессвязной. Я разрываюсь между ним и Стасем, чей плач достигает моего слуха из дальней комнаты. Мне жалко это несчастное, угасающее существо, но мой долг прежде всего заботиться о Стасе, который вступает в жизнь, и его черненькие глазки с улыбкой взирают на весеннее солнышко, на меня и свое будущее.
Я боюсь от избытка чувств задушить его в объятиях, зацеловать до смерти. Когда он спит, я сижу подле его колыбельки, смотрю не насмотрюсь на него, – так любовалась я морем в Кастелломаро. Только море не говорило ничего моему воображению, а его личико сулит чудеса. Мне трудно отойти от его колыбели, точно я приросла к ней. Когда кормилица берет его на руки, меня терзает ревность, страх, беспокойство, и я невольно на нее сержусь.
Счастье мое! О если б ты знал, какие жгучие слезы проливаю я, когда ты спишь… Какой дорогой ценой заплатила я за твою улыбку…
Пришлось отложить дневник: советник пришел попрощаться. Я дала ему длинный список вещей, необходимых Стасю. Вдруг ему захочется играть, а игрушек нет… У него должно быть все, чего он только пожелает: он не должен испытывать ни в чем недостатка. Пускай он будет счастлив.
Опалинский обещал заехать по дороге к маме и рассказать ей про Стася. Он сумеет это сделать лучше, чем кто-либо другой.
Он зашел ко мне, как раз когда Стась проснулся, и я была наверху блаженства. Задрав ручки и ножки, малыш Улыбался и протягивал ко мне розовые кулачки. Я опустилась на колени. Хмурое, печальное лицо Опалинского было мне словно укором. Не понимаю, как можно не испытывать счастья при виде Стася и не забывать обо всем на свете. По-моему, это грешно!
16 мая
Сегодня был чудесный день. После дождя распогодилось, потеплело. Я распорядилась придвинуть кресло Оскара к окну. Он обратил поблекшие глаза в сторону сада, откуда наплывал аромат сирени и пихтовых шишек, но, казалось, ничего не видел. Изо рта у него текла слюна. Я ласково заговорила с ним – мне жаль его, – а он заскрежетал зубами и сжал кулаки. Если бы у него были силы, может, он побил бы меня. С ним такое бывало. Стася я боюсь показывать ему, – он пожирает его взором василиска.
Доктор нашел, что Оскару хуже: он очень ослабел. Ему дают хину, железо, микстуры, разные настойки, но пользы от них мало, разве что, выпив лекарство, он забывается глубоким сном. А я, счастливая, бегу к Стасю.
Сколько еще протянется это состояние между жизнью и смертью? Доктор ничего определенного сказать не может. Сердце мое преисполнено любви, я всем желаю добра, и если бы знать, что Оскару хорошо в этом полусне, я сделала бы все, чтобы продлить ему жизнь. Хотя я столько хлебнула с ним горя…
Если бы не советник… Ему я обязана тем, что жизнь моя стала сносной.
20 мая
Только что вернулась с похорон. Страшно устала. Одна эпоха в моей жизни завершилась… Что ждет меня впереди? Знаю одно: у Стася не будет соперника, – я целиком посвящу себя материнству, больше мне в жизни ничего не нужно.
Хотя решение мое твердо, я испытываю беспокойство, и у меня есть на то причины.
23 мая
В продолжение нескольких дней после похорон я лишь мимолетно виделась с советником, – наверно, он решил мне дать передышку. А сегодня утром он явился в детскую со своей притворно-добродушной, а на самом деле холодной, даже зловещей улыбкой. Он явно намеревался мне что-то сообщить.
Я не люблю, когда он смотрит на Стася, мне отчего-то становится страшно, поэтому я попросила его пройти в мою комнату.
Прежде чем начать разговор, он огляделся по сторонам. По его лицу я догадалась, что у него ко мне важный разговор и он не знает, как приступить к делу.
– Дорогой дядя, – сказала я, – говорите, пожалуйста, прямо… без обиняков… Вы имели возможность узнать меня поближе, так что будьте откровенны…
– Вы ошибаетесь, дорогая племянница, я не собираюсь сообщать вам ничего особенно важного и никаких затруднений не испытываю. Слава богу, все устроилось, как вы того хотели. За вами закреплено право на пожизненное владение всем движимым и недвижимым имуществом при условии, что вы не выйдете вторично замуж. И опека над сыном до его совершеннолетия утверждена за вами, а в нашем лице вы всегда найдете верных помощников. Тут есть только одно обстоятельство…
– Что вы имеете в виду?..
– При жизни Оскара, – сказал он, – среди тех, кто вас окружает, бывает в вашем обществе… – Он кашлянул. – Не видите ли вы сами необходимости некоторых перемен ради собственного спокойствия, благополучия в будущем, а также для пресечения могущих возникнуть пересудов.
Говоря это, он посмотрел на меня так, что я покраснела.
– Поразмыслив над моими словами, – продолжал он, – вы поймете, что я имею в виду, и не будете на меня в претензии.
С этими словами он встал и вышел из комнаты.
Увы, я сразу поняла, к чему он клонит. Он хочет, чтобы я удалила от себя Опалинского.
С моей стороны это будет большой жертвой, но ради Стася я на все готова. Советник прав: ни малейшее подозрение не должно коснуться его матери, и малейшая тень не должна пасть на его колыбель.
Да, пускай уезжает, хотя я очень привязалась к нему и мне нелегко с ним расстаться.
«Теперь ты свободна»… – читаю я в его глазах. Но если я выйду за него, люди скажут: я узаконила давнюю связь супружеством. Нет, это невозможно! Надо с ним поговорить. Но как к этому подступиться?
После обеда снова зашел ко мне советник.
– Ну что, прав я или нет? – спросил он.
– Да, я должна признать вашу правоту, – тихо ответила я.
– Я не требую, чтобы вы расстались навеки. К чему такая; жестокость, но сейчас это необходимо.
– Может, вы сами поговорите с ним? – спросила я. – Как опекун, вы легко найдете предлог, объяснение…
– Не знаю, – сказал он после минутного раздумья, – право, не знаю, как лучше поступить. Надо хорошенько все взвесить. Но это дело не терпит отлагательства.
На этом разговор прекратился. А вечером я не вышла в гостиную. Мое отсутствие можно было объяснить тем, что я у Стася. Лучше всего мне возле него и с ним. Когда я смотрю на своего сыночка, у меня перестает болеть сердце.
25 мая
Задумавшись, напевала я Стасику песенку, тут вошла Юлька и сказала: меня хочет видеть Опалинский. Казалось бы, что в этом особенного, – ведь мы видимся ежедневно, но у меня подкосились ноги, закружилась голова, и, чтобы не упасть, я ухватилась за детскую кроватку. Мне стало страшно. Лишь смочив одеколоном виски и немного успокоившись, я вышла к нему.
Он стоял у окна, глядя в сад, и настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как я вошла, не слышал моих шагов. И я смогла всмотреться в его лицо, – обычно отмеченное печатью грусти и раздумья, оно было мрачно, как небо в непогоду. Видно, на душе у него было тяжело. Глаза застилали слезы, но он не давал им пролиться, чтобы облегчить сердечную муку.
Вдруг он вздрогнул и обернулся. Хотел улыбнуться, но губы его искривились. Долго, не отрываясь, смотрел он на меня, и от его взгляда мне стало не по себе.
– Я уезжаю и пришел проститься, – сказал он едва слышно.
– Надолго? – спросила я.
– Заранее никогда неизвестно, сколько продлится разлука. Иной раз чаешь вернуться через час и никогда больше не возвращаешься.
– К чему этот высокий стиль? – сказала я, не желая продолжать разговор в таком трагическом тоне. – Куда вы собрались ехать?
– Куда? Сам еще не знаю. Но ехать непременно должен.
– Вы говорите загадками.
Он с нежностью посмотрел на меня, улыбнулся и взял мою руку.
– Господин тайный советник находит, что мне необходим отдых и перемена обстановки. Он озабочен моим здоровьем и настоятельно советует мне уехать, а желание его равносильно приказу.
Я смешалась. Мне стало грустно, в сердце накипали слезы. Он не выпускал мою руку.
– Его превосходительство прав…
– Оставьте иронический тон! – заметила я. – Он лишь причиняет боль.
– А ирония судьбы? Она разве не заставляет страдать? – промолвил он печально. Но страдание порой исцеляет, оно бывает неизбежно и благотворно…
Взявшись за руки и словно не замечая этого, переступили мы порог детской и приблизились к колыбели, где под голубым пологом спал Стась, закинув за голову ручонки, не окутанные свивальником. Мы стояли в молчании, боясь нарушить его сон. Но природа наделила детей чудодейственным инстинктом, благодаря которому они распознают присутствие людей. И Стась открыл глаза, поднял голову и, улыбаясь сквозь сон, потянулся к нам.
Стась уже узнает его и улыбается ему. Не успела я опомниться, как он взял Стася на руки, прижал к груди, поцеловал и отдал мне с улыбкой. А Стась обхватил меня ручонками за шею.
Когда я обернулась, его в комнате не было.
За обедом советник сказал мне:
– Вы, наверно, уже знаете: пан Опалинский уехал. Для нас это большая утрата. Найти ему замену нелегко. Но по состоянию здоровья он давно нуждался в отдыхе, к тому же и семейные дела потребовали его отъезда. Надеюсь, он еще вернется…
1 июля
Заглянула в дневник. У меня уже нет потребности писать его изо дня в день, как бывало прежде. Теперь меня целиком поглощает мой Стась. Иной раз за какой-нибудь час переживаю я целую драму. Он плачет, – как отгадать причину его слез? Только инстинкт да материнское сердце может подсказать ее.
Но вот он смеется, – как продлить благословенный этот миг? А когда он капризничает, как отказать ему в том, что повредит ему? Любовь неподвластна разуму. И пренебрегши опасностью, она на все готова ради любимого существа. О материнство! Кто способен постичь твои тайны?
Хотя сердце мое преисполнено любви, я ощущаю вокруг ужасающую пустоту, но вздыхать, сетовать на судьбу, думать, что принесла себя в жертву ради Стася, я не вправе. И он никогда об этом не узнает.
Ах, как пусто, пусто вокруг! Кажется, не два месяца минуло, а два века. Ведь писать ему не возбранялось. Значит, нет у него в этом нужды. Не раз бралась я за перо, но где он, куда писать? Может, советник знает его адрес, но не спрашивать же у него…
Милые сердцу картины расплываются, меркнут – так идущий ко дну корабль исчезает в волнах. Однажды я наблюдала в Неаполе, как утлый рыбачий баркас наскочил на большой корабль и стал погружаться в воду. Напоследок над поверхностью моря торчала лишь верхушка мачты, но вот она накренилась, покачнулась, и ее поглотили волны.
Моя ладья тоже плывет по волнам житейского моря, и я вижу над ней черный, траурный парус. И меня охватывает дурное предчувствие. Всякий раз с нетерпением поджидаю я почту, а когда не нахожу письма, вздыхаю с облегчением…
4 июля
На недостаток общества я пожаловаться не могу. Благодаря советнику, который оказался радушным, любезным хозяином, в Гербуртов часто наезжают гости. Если он полагает, что это доставляет мне удовольствие, он глубоко заблуждается. Но зачем огорчать его? Пусть пребывает в счастливом неведении. Только мама никак ко мне не выберется: не может расстаться с Сулимовом и со своей Пильской. А Пильская пишет, что она никуда не выходит из комнаты и по целым дням молится. Зато тетя часто навещает меня, а с ней ее неизменный спутник – ротмистр. Дядюшка тоже наведывается в Гербуртов. Не забывает меня и папа.
Вчера они случайно столкнулись у меня, и я оказалась в затруднительном положении, потому что в мире нет двух других людей, которые относились бы друг к другу с такой неприязнью.
Дядюшка называет папу пятидесятилетним юнцом, а папа его – мужланом. Однако «мужлан» терпеливо сносит присутствие папы, в то время как папа и двух минут не может высидеть в гостиной в его обществе.
Дядюшка был крайне удивлен, узнав об отъезде Опалинского, к которому мирволил.
– Вам крупно повезло, напали на порядочного, толкового человека и того поспешили спровадить.
– Насильно, против воли никого не удержишь, – оказал советник.
Дядюшка недоверчиво покачал головой.
– Так я тебе и поверил, старый Макиавелли! С вашей стороны это непростительная глупость, – другого такого управляющего вам не найти.
Я не вмешивалась в разговор.
Утром ко мне пожаловал отец: поговорить по душам.
Сначала попросил взаймы денег, что я с величайшей охотой сделала. Когда с этим было покончено, он стал жалостливо поглядывать на меня и вздыхать.
– Ты что же, решила похоронить себя в деревне? – спросил он. – Нянькой заделаться? Стать затворницей? При твоей красоте – а ты еще никогда не была так хороша, как теперь! – и молодости грешно сидеть в четырех стенах в глуши. Кому как не тебе блистать в обществе?
– Я счастлива!
– Как бы не так! Счастлива… Женщина в расцвете сил не может быть счастлива, если она одинока. Это противоестественно.
– Я не одинока: у меня есть сын.
– Этого недостаточно.
– Ему принадлежат мое сердце и жизнь.
– Ты не создана быть нянькой. Твоя сфера – светская жизнь. Твое предназначенье – блистать в обществе. Ты обладаешь всеми необходимыми для этого качествами: искусством вести беседу, остроумием, очарованием и прочими достоинствами.
С полчаса уговаривал он меня переехать в город. В конце концов мы порешили на том, что впоследствии мне придется переселиться во Львов для воспитания сына. Но когда это еще будет… Отец вообще не признает жизни в деревне.
Получила письмо от Адели. Со времени нашего знакомства в Карлсбаде мы с ней изредка переписываемся. Она вышла замуж, причем по любви, и очень счастлива. У мужа ее нет состояния, и они вдвоем едва наскребли деньги на аренду какого-то имения. Но она пишет: ей так хорошо, что лучше не бывает, и ей ничего больше не надо.
Как была, так и осталась идеалисткой. Une chaumiere el son coeur [57]57
С милым рай и в шалаше! (фр.)
[Закрыть].
От души желаю ей не разочароваться. В ответ написала глинное письмо, добрую половину которого посвятила Стасю.
Но вряд ли она поймет, какой необыкновенный, чудесный ребенок мой Стась. Я убеждена: другого такого нет в целом свете.
Как быстро он развивается… С каждым днем пробуждаются его ум и сердце. Душа освобождается от сковывающих ее пелен.
Август
Опять забросила дневник. Болел Стась: у него резались зубы. Ни днем, ни ночью не отходила я от него. Бедняжка, как он намучился! А меня не покидала смертельная тревога, пока не вылезли хорошенькие, беленькие – но какие же гадкие! – зубки. Мальчик исхудал, но доктор говорит, он скоро поправится.
Ради него я живу отшельницей в Гербуртове, и каждый мой шаг, каждая мысль порождена заботой о нем, о его будущем. Я мечтаю о замках, о роскошных дворцах для него, в моем воображении он – златокудрый королевич из сказки о спящей красавице. Всю себя отдала я ему!
Странно, Опалинский ни мне, ни советнику, ни даже дядюшке, с которым коротко сошелся, не подает о себе вестей. Уехал и точно в воду канул. Я сержусь на него, хотя понимаю: не по своей воле он поступил так, а по настоянию советника и с моего молчаливого согласия. Но, видно, ему это легко далось, а я до сих пор ощущаю вокруг пустоту, и даже Стась не может мне заменить его…
Советник поглощен хлопотами: он заказывает в Риме великолепный памятник Оскару. А в Гербуртове заранее строят часовню для мраморного надгробия. Оно будет изображать покойного и двух ангелов: одного с опущенным книзу, погасшим факелом и второго с перстом, указующим на небо. Скульптор по фотографиям Оскара должен воссоздать некий идеальный образ.
Спросили бы мое бедное сердце, какое воспоминание хранит оно об этом несчастном. До сих пор не могу думать о нем без содрогания. Иногда просыпаюсь ночью в ужасе оттого, что мне мерещится его скрипучий голос, каким он звал меня и… бранил во время болезни.
От кого-то слышала я, будто в Спарте умерщвляли слабых и болезненных младенцев, которые были бы обузой для общества, останься они в живых. Мне этот жестокий обычай кажется справедливым. Но к чему воскрешать прошлое… ведь оно никогда больше не вернется. Не лучше ли покропить его святой водой забвения…
15 августа
Стась снова хворал, – сейчас ему уже лучше, но я чуть не умерла от страха. Что бы я без него стала делать? Доктор успокаивает меня, а между тем сыночек мой тает на глазах: румяные щечки покрыла бледность, глазки ввалились, ручки сделались прозрачными. По ночам он не спит, не хочет есть, все время плачет, и ничто не забавляет его.
Только когда я возьму его на руки и прижму к груди, он, склонив головку ко мне на плечо, успокаивается и ненадолго забывается сном.
20 августа
Я сказала доктору: пусть возьмет мою кровь и перельет Стасю, пусть делает что хочет, я ничего не пожалею, лишь бы спасти Стася. Нет, бог не допустит такой несправедливости, – не лишит меня единственной радости в жизни. О, я несчастная!
22 августа
Мой Стасик на небе с ангелочками, а я одна-одинешенька на земле. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Мне остается только умереть, и как можно скорей. Тельце его уже остыло, а я все не отдавала им моего сыночка. Мне казалось, я вдохну в него жизнь и он оживет.
Не знаю, что со мной сталось. Им пришлось силой отрывать меня от него. Советник тотчас же уехал. Мама так и не решилась покинуть Сулимов. Со мной остался только доктор; вскоре в Гербуртов прибыли тетя и дядюшка, а вслед за ними – отец. Они в один голос твердят, что мне надо уехать отсюда в Сулимов или в город. Я не разрешила трогать Стасину кроватку, игрушки, пеленки… ничего…
Как мимолетно было мое счастье! Лучше бы не знать его вовсе, чем утратить… Бедная моя крошка! Мне мерещится, будто душа его витает где-то рядом, принимая разные обличья. Вчера бабочка порхала вокруг и садилась мне на голову: это он, подумала я. Птичка билась о стекло, и я опять подумала: это мой сыночек…
25 августа
Я плачу, сидя у детской кроватки, а моих родственников заботит другое: останусь ли я владелицей Гербуртова и прочего имущества?
Отец полагает, советник сам женится, чтобы род не угас, хотя он заядлый холостяк. Другие утверждают: он усыновит мальчика из обедневшей родни. Слушая их, дядюшка в недоумении пожимает плечами и сердится. Однако папа с тетей всерьез озабочены моей судьбой; они Даже обратились за помощью к адвокату. Но этого мало, – папа собирается сам ехать к советнику и поговорить с ним в открытую.
Меня все это мало трогает… Лишь бы кроватку его не отняли и дорогие, памятные мне вещички. Но они-то, бесспорно, моя собственность…
27 августа
По словам адвоката, бумагу можно истолковать и так и эдак: и что за мной сохранится право пожизненно владеть имением, если я не выйду замуж, но при желании можно его и оспорить. Обеспокоенный этим папа поехал с адвокатом к советнику. Завтра они, наверно, вернутся. Тетя и ротмистр воображают, что развлекают меня. Я сижу точно окаменев и молча плачу, а им кажется: они улыбнутся и мне станет легче на душе.
29 августа
Папа задержался дольше, чем предполагал. Советник хочет решить дело о наследстве полюбовно, без суда и чтобы я не была в обиде. Он намекнул, что вынужден будет жениться. Это в шестьдесят-то лет!.. Впрочем, говорят, в старину и в семьдесят женились. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно и гадко…
Советник взамен за отказ от Гербуртова предлагает мне довольно значительный пенсион. Из дома он разрешил взять все, что я пожелаю. Отец настаивает, чтобы я согласилась и переехала к нему в город.
Мама зовет меня в Сулимов. Но меня всюду будет преследовать тоска, всюду не хватать будет моего Стася. Где доживать свои дни, мне безразлично.
Я уполномочила отца вести переговоры от моего имени, и они поехали с адвокатом подписывать бумаги. Мне всюду одинаково плохо. В Гербуртове все напоминает о постигшем меня горе. Жить в Сулимове с мамой, которая целыми днями молится и плачет, тоже тяжело.
Пожалуй, я склонюсь к предложению отца. Правда, можно отправиться в путешествие… Нет, оно воскресило бы в памяти то – первое…
1 сентября
Завтра я навсегда покидаю Гербуртов и забираю с собой Стасикины вещи и все, что принадлежит мне. Советник приехал со мной проститься. И держался так подобострастно, точно управляющий с наместником или наместник с монархом.
Представляю себе безмерное счастье будущей супруги престарелого превосходительства. Небось и в супружеской жизни он будет педантичен, как на службе.
Интересно, кто мог польститься на богатство и честь называться его женой?
Поговаривают о некой баронессе-бесприданнице, которую родители отдают на растерзание этому дряхлому минотавру. Ей двадцать пять лет, и она обладает множеством достоинств.
Из Гербуртова я поеду сначала в Сулимов повидаться с мамой, а потом – во Львов, где для меня уже приготовлена квартира. Отец изъявил желание поселиться со мной. Я не против, лишь бы он не вздумал меня сватать, это у него idee fixe [58]58
навязчивая идея (фр.).
[Закрыть]. Один раз я испила сию чашу до дна, и с меня хватит! Лишать себя жизни, дарованной богом, грешно, ну что ж, стану жить памятью о Стасе, мыслями о дорогом моем сыночке.
Я спросила у советника, не писал ли к нему Опалинский, и он поклялся, что ничего не слыхал о нем с самого его отъезда.
Дядюшка не возражает против моего переезда в город; он понимает, что мне необходимо сменить обстановку. Сегодня он беседовал со мной в кабинете.
– Дорогая Серафина, – сказал он, – за короткое время ты много пережила, перестрадала и многому научилась. Познала счастье, приобрела жизненный опыт. Все проходит на свете, пройдет и твоя печаль. Ты еще молода, и желание жить возьмет свое. Смотри, будь осторожна в выборе знакомых, друзей, общества. Я предпочел бы, чтобы ты не жила с отцом. Старый греховодник познакомит тебя со своими разлюбезными дружками и начнет сватать, уговаривать…
– Я не маленькая и…
– Не зарекайся, – перебил он. – Никто наперед не знает, как поведет себя в новой обстановке, среди незнакомых людей. Не скрою от тебя: мне внушает страх все – и твой отец, и пережитое тобой горе, и теперешнее одиночество, и молодость твоя… Помни, ты хозяйка своей судьбы…
– Если вы имеете в виду замужество, то на этот счет не беспокойтесь: я не собираюсь выходить замуж. И отцу невыгодно меня сватать: он ведь заинтересован в моем пенсионе.
Последний довод его несколько успокоил.
– Лишишься пенсиона, тоже не беда, – продолжал он. – Когда я умру, мое состояние перейдет к тебе. Только пока я жив, не посягайте на него, – видя, как оно преумножается, я радуюсь, точно мать на свое дитя.
4 сентября
Сулимов произвел на меня гнетущее впечатление. Мама очень изменилась. У Пильской вконец испортился характер. Она выходит за Морозковича, говорит: ворчать не на кого и не с кем вечера коротать. В Сулимове все обветшало, пришло в негодность и хотя наружно ни на конюшне, ни на кухне никаких перемен не заметно, и прислуги столько же, сколько было, но заведенный издавна порядок потерял смысл. Отсутствие хозяйского догляда ощущается и в доме, и в саду. Признаться, жить с мамой мне было бы трудно. Она плачет целыми днями, молится, жалуется на судьбу и неблагодарность барона, который не оставил завещания.
Сразу же по моем приезде она осведомилась про Опалинского и как-то странно при этом посмотрела на меня. Я отвечала, что ничего не знаю о нем, но она, кажется, не поверила. Когда с тем же вопросом ко мне подступилась Пильская, вспомнив Стася, я расплакалась, и они оставили меня в покое. На груди в медальоне я храню его волосики.
Львов, октябрь
У меня пропала охота вести дневник. Да и в самом деле, к чему это, когда у меня нет ни планов, ни надежды на будущее, и вообще я ничего уже не жду от жизни. Правда, двадцать с небольшим лет считается молодостью, но я чувствую себя древней старухой. К счастью, в городе оказалось много старых знакомых, подруг по пансиону. Жаль, Адели нет, они с мужем засели в деревне. Зато здесь Юзя, Антося, Флора и другие. Когда вчера лакей доложил о графине, прочтя на визитной карточке совершенно незнакомую фамилию, я не знала, принять ли ее, и подумала: наверно, недоразумение. Но тут распахнулась дверь, и в комнату с громким смехом вбежала Юзя, а за ней вошел tire a quatre epingles [59]59
франтоватый (фр.).
[Закрыть]господин преклонных лет – лысый, с довольно солидным округлым брюшком. Я была в полном недоумении. Оказывается, гусар – золотая мечта ее юности – подался в Венгрию, и место его занял граф, из числа тех, о ком с сомнением спрашивают: «Il est comte? Est-il noble?» [60]60
Граф? Значит, он дворянин? (фр.)
[Закрыть]Завладел ли он также сердцем красавицы Юзи, не знаю. Граф помалкивал, словно боясь сказать какую-нибудь несообразность. Юзя помыкает им, – впрочем, престарелые мужья обычно под башмаком у молодых жен.
Познакомив нас, она поспешила отправить его с каким-то поручением, и мы остались вдвоем. Она рассказала мне, как рассталась с вероломным гусаром, который, как выяснилось впоследствии, одновременно волочился за ней и за служанкой из пансиона. За последней будто бы с большим успехом. Юзя, как натура практичная, выкинула из головы вздорные мысли о любви и стала женой графа.
Потом настал мой черед, и я поведала ей о своей горестной, несчастной жизни. И тут я имела случай убедиться в том, что моя история, казалось бы, сокрытая от посторонних глаз и даже хранимая в тайне, была известна в обществе в разных версиях. Много нелепостей пришлось мне опровергнуть. Под конец я провела Юзю в комнату, где стояла Стасина кроватка, и расплакалась.
У Юзи тоже на глаза навернулись слезы, но она быстро вытерла их и прошептала:
– У меня уже двое детей, и я в ожидании третьего. Конечно, я их люблю, но, если бы ты знала, какие они криксы…







