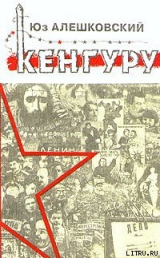
Текст книги "Кенгуру"
Автор книги: Юз Алешковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
8
Простить я себе, Коля, не могу, что, когда обговаривал с Кидаллой условия, попросил отправить меня в лагерь с особоопасными врагаьвю Советской власти, бравшими Зимний, и с соратниками Ильича, которых подловили в тридцать седьмом.
Отошел я от наркоза в кузове трехтонки. Катаюсь по кузову в черном бушлате, на ногах кирза, на грапках брезентовые руковички, на стриженой, на бедной моей голове солдатская, фронтовая еще, ушаночка с дыркой на лбу и за ухом. Ветер в этой дырке свистит. Сентябрь. Тоска на земле. Даже выглядывать из кузова неохота. Знаю: на воле, по черным полям поземка метет, белая, как глаза у Кидаллы, и вдалеке несчастные огоньки на вахтах мерцают.
В сорок восьмом я как-то летел в Хабаровск на встречу с Томом-контрабандистом, так веришь, Коля, самолеты тогда низко летали, ночью вся земля под крылом желтыми квадратиками была расчерчена, одни больше, другие меньше: на освещение предупредительных зон в лагерях току не жалели. К тому же много строилось новых ГЭС и электрификация всей страны шла как по маслу. Сердце у меня кровью в том полете обливалось: лагерь на лагере, лагерь на лагере, Ты-то ведь сверху ни разу на это безобразие не кнокал, а я тогда нагляделся. Где-то тут, думаю, и твой лагерек, дорогой Фан Фаныч. Приехали. Растрясло меня на колдобинах. Печенка – в одном углу кузова, мочевой пузырь – в другом, в остальных – руки, ноги. Вылезаю. Отдолдонил Он же, он же, он же, он же Харитон Устиныч Йорк… пятьдесят восьмая, через скотоложество с подрывом валютного состояния Родины… по рукам, по рогам, по ногам и тэ дэ. Вышел поглядеть на меня сам Кум – здоровенный хохол. Я ему сходу раскинул чернуху, что числюсь за самим Берией и пусть сделает из этого выводы, так как, – говорю, – ваша псарня создана для моей охраны, ибо меня официально хотят выкрасть пять разведок мира.
– Прошу, – говорю, – нары в правом дальнем углу и в теплом бараке.
Тут кум меня спрашивает:
– Упираться, чума, будешь? Говори сразу!
– Всегда, – говорю, – готов, но надо суток трое оклематься после общего наркоза. А потом гудите громче гудками и бейте, господа, морожеными своими яйцами по заиндевеаой рельсе. На общие, кстати, работы, я сроду не выходил, поскольку, – поясняю, – номенклатура, а вот полное собрание зеркальца революции нашего ясного, Льва Николаевича девяносто томов согласен начисто переписать ровно за двадцать четыре года и шесть месяцев. Полгода, извините, господа, пропало у меня на предварительное тюремное заключение. И если, – добавляю, – можно, то пожалуйста, держите из Иркутского централа какую-нибудь завалящую Софью Андреевну мне в помощницы.
Короче, Коля, так я истосковался в своей третьей комфортабельной по отвратительным человеческим лицам, что растрекался неимоверно. К тому же отогрелся на вахте. Кум на всякий случай кое-что из моего треканья записал. И пришел я в барак веселый оттого, что я живой, руки-ноги кукарекают, небо сияет по-прежнему над головой, земля, хоть и казенная, носить меня продолжает, и главное, самое страшное позади, а впереди что будет, то будет, спасибо тебе, ангел-хранитель, друг любезный, и прости за выпавшее на твою долю трудное дело вырвать такого окаянного человека, как я, из дьявольских лап уныния и смерти!… Вхожу, значит, в барак вместе с кумом Дзюбой! Глаза у него были темнокарие, а белки желто-красные. Он напоследок сказал, что если начну чумить, то он быстро приделает мне заячьи уши, потому что лично расстрелял и заставил повеситься от невыносимости следствия тысячу девятьсот тридцать семь человек в честь того замечательного года и не дрогнет перед тридцать восьмым, хотя ушел вот уж как год в отставку. Пока мы шли в барак по зоне, я успел спросить, были ли среди расстрелянных Дзюбой врагов знаменитые люди? Оказалось, что были. Каменев, Розенгольц, Блюхер, граф Шереметьев, графиня Орлова, сыновья Дурново и, в общем, все больше представители высшего дворянства и священники, а выдвинули его на это дело после того, как он без промаха поразил свою высшую цель – царского сыночка Алешу, оказавшего чекистам сопротивление невинным и тихим взглядом. – Еще, – говорит, – премию мне на проводы дали: вывод в расход составнтеля учебника арифметики Шапошникова и писателя Симонова. – Я говорю: – Не чешите мне уши, гражданин Дзюба, все они живы и на свободе. – А он отвечает, что я, хоть и чума, известная всему миру, но фраер, если не понимаю, что и арнфметик Шапошников и «Жди меня и я вернусь» не настоящие, а заделанные после расстрела в номерной мастерской.
– За что же их, – спрашиваю, – замочили?
Ну, когда Дзюба сказал, что Шапошников в учебнике навредил и дзюбин сын поэтому таблицу умножения третий год выучить не может, а жену Дзюба застукал во время преступной близости с его родным брательником, и патефон в этот момент играл песню Симонова «Жди меня и я вернусь», то я понял, Коля, что Дзюбу пошарили в отставку по «этому делу». Поехал он. Стебанулся, злодей.
Входим в барак. Все встают, как в первом классе, только медленно. Дзюба говорит:
– Вот вам староста, фашистские падлы! Выкладывайте международные арены, пока шмон не устроил, сутки в забое продержу!!! Живо! Смотрю, таранят несколько зэков какие то дощечки и тряпочки с какими-то стрелками и кружочками. Они на этих дощечках и тряпочках, поскольку жить не могли без политики, занимались расстановкой сил на международной арене.
– Сколько можно напоминать, проститутки, что азартные игры запрещены? Фишек не вижу! Живо сюда свои монополии, концерны, картели, колонии, буржуазные партии и так далее… Экономический кризис капитализма опять притырили? Не дождетесь, бляди, нашего поражения, сколько бы вы не тешили себя на нарах! Расстановка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские хари и эсерские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденыши?
Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известии твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худыв, забитые, голодные, бледные зэки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе:
– Да поймите вы, наконец, гражданин надзиратель, что у вас и у нас одна конечная цель – мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исклюпетельно из желания, чтобы некоторые наши тактические и стратегические задумки стали орудием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала. Поймите и то, что мы приподнялись над личными трагедиями, над наветами, над самой страшной для человека нового типа из всех земных мук – мукой отлучения от партии и ее дел. Приподнялись ради веры в объективный ход истории, ради глубокого уважения к несгибаемому слуге Исторической Необходимости Сталину. Отошлите наши труды в ЦЕКА. Товарищи оценят ваш шаг. Вы окажете неоценимую услугу рабочему движению! И разрешите нам передать приветствие партии в связи со взрывом водородной бомбы?
Дзюба на это отвечает:
– Про взрыв, Чернышевский, забудь. Тебе не положено иметь информации. А задумки свои стратегические и тактические давай. Чернышевский по-новой его спрашивает:
– Спасибо. Партийное спасибо. А на наше предложение совершить террористический акт против Тито и его клики пришел ответ?
– Пока нема ответа. Думает партия.
– Странно. Сейчас очень выгодный момент для ликвидации Иуды и превентивного нападения на Югославию. Неужели ЦЕКА не понимает, что ревизионизм должен быть уничтожен в зародыше? Скажите, гражданин надзиратель, проект о внедрении в ряды республиканской партии США и консервативной партии Англии наших товарищей отослан Кагановичу?
– Отослан. Разглядывают его. Прикидывают, что к чему.
– Как мы все-таки медленно чешемся! Как мы привыкли к тому, что время работает только на нас! И еще один вопрос: два года тому назад вы сказали, что наш план объявления Америке зкономической блокады одобрен Сталиным. Как в таком случае обстоят дела?
– Дела обстоят, как говорят, неплохо. На бирже у них паникуют. В половине штатов рабочие объявили безработицу. Пить начали. А как побросали наши послы яду, который ваш этот… ну он еще дуба дал… ага, Хабибулин, то пшеница вся полегла, скот мрет и в Чикаго мясокомбинат прикрыли. Такие дела. Бурлит Америка.
– Вот это – радость! Товарищи! Почтим минутой молчания память настоящего партийного химика Хабибулина. Он не дожил двух дней до победы. Ведь это же кризис мировой капиталистической системы! И опять, Коля, бывшие большевики начали целоваться, а Дзюба говорит:
– Я знаю, Чернышевский, куда ты, пропадлина, гнешь, но мне мозги заебать трудно, Кто их заебет, тот и дня не проживет. Скидывай портки, вставай раком, вертай из заднего прохода фишку мирового кризиса! Вот так! Ты гляди! И национально-освободительные движения ухитрился туда же засунуть! И соцреализм вбил! Вот чума! Староста! Как заметишь, что снова гады не сплят, а силы на аренах восстанавливают, так сходу стучи на вахту! Спать, сволочи! Отбой! Отвалил Дзюба, а Чернышевский, Коля, подходит ко мне и руку протягивает:
– Вы давно с воли, товарищ?
Я отвечаю, что уж полгода, как захомутали, и тогда они на меня, как мураши на палого жучка, накинулись и давай тормошить. «Что нового?… Что нового?… О чем думает Ленинградская партийная организацияа По-прежнему ли кадры решают все? Издают ли Маяковского? Большие ли очереди в мавзолей? Скажите, как Сталин? По-прежнему ли Микоян курирует еду и экспорт, а Каганович – Украину и метро? А как молодежь? Будьте добры, товарищ, пару слов об энтузиазме масс и международном положении, будьте добры! И главное, понимает ли так называемый свободный мир, куда он катится?»
Надо сказать, Колк, что режим у этих фраеров был сверхстрогим. Они ни хрена не слушали радио и забыли, что такое газета «Правда». Ну, я и понес им парашу за парашей.
– Черчилля, – говорю, – судят в Мосгорсуде за Фултонскую речь, а в Швейцарии к власти пришли люди с чистой совестью – украинские партизаны-разведчики, и весь почти мировой капитал теперь наш. Ну, что еще? Еще ленинградская организация думает, что ее вовремя и совершенно верно обезглавили. А над Африкой летают наши воздушные шары и кидают вниз призывы резать белых колонизаторов. Латинская Америка бурлит. Все обречено на провал. Основным фактором этого провала является образование Китайской народной республики. Ну, Коля, тут они совсем очумелн.
– Он был прав!.. Ильич был прав!.ю Все-таки Джугашвилли при всем его хамстве – гениальный практик! Ура! Надо сделать из простыни мировую арену и взглянуть, что же это теперь у нас получается! Поем про себя «Интернационал»!!!
Это сказал Чернышевский, и все они, Коля, встали обалдело, по щекам слезы текут, по горлянкам кадыки так и ходят, кого-то на нары уложили: сердце схватило, но допели про себя свой гимн до конца Допели, Чернышевский, жилистый, желтолицый, партийное собрание открыл. Выбрали они почетный президиум в составе Кырлы Мырлы, Энгельса, Ленина, Сталина, Бухарина, Буденного, Жака Дюкло, Тореза, Тольятти, Мао-Цзе-Дуна, Николая Островского и Ежова. Резолюцию приняли: одобрить деятельность политбюро. Голосовали, кто за, кто против. Воду из чайника выступавшие пили. Все чин по чину. Хлебом, я понял, их не корми, а дай посидеть на собрании. Потом Чернышевский мне говорит, чтобы я рассказал партгруппе о себе.
– Ну, я, – говорю, – буду краток: ваш ум, вашу честь и совесть вашей эпохи я в гробу видал в красных тапочках. Мир переделывать никогда не желал. Милостей у природы силой не брал. Экспроприировал только лишнее у сильных мира сего. Двигал фуфло многим государствам, но людям зла не причинял, хотя знаю шесть с половиной языков. Принципиально не участвую в строительстве сомнительного будущего. Оставил на свободе музей бумажников, портфелей и моноклей выдающихся политических деятелен Польши, Румынии, Англии, Японии, Марокко, Германии, Коста-рики и других стран. Болел два раза триппером. Изнасиловал и зверски убил в Московском зоопарке в ночь с 9 января 1789 года на 14 июля 1905 года кенгуру Джемму, за что и приговорен к четвертаку Нарсудом Красной Пресни. А теперь, – говорю, – благодетели человечества, друзья народа, друг к другу прижатые туго, бай-бай, ладошки под щечки.
Пошумели они, посовещались и вынесли, Коля, резолюцию, что подсадка к старейшим членам партии, бравшим Зимний и бок о бок работавших с Лениным, уголовника-рецидивиста – злобный цинизм и нарушение Женевской конвенции о чудесном отношении к политическим заключенным. Постановили также рук мне не подавать, но поправку Чернышевского об объявлении мне красного террора отклонили, как противоречащую ленинским нормам полемики с идейным врагом. Я им много еще чего натрекал о внутреннем положении, о голодухе, о посадках, о великом полководце всех времен и народов, которого надо бы пустить по делу об убийстве и расчлененке миллионов солдат, о сроках за опоздание на ишачью работу, о том, как колхознички девятый член без соли доедают, а старички сказки им передают родительские о крепостном праве и светлой колхозной житухе. Натрекал я им, как простой человек, пока из конца в конец Москвы до работы доедет, намнется в трамваях и редких троллейбусах, перегрызется с такими же затравленными займами и собраниями харями, как он сам, что встает на трудовую вахту в честь выборов в нарсуды злой почище голодного волка. И только из страха, что посадят, поджимает свой хвост и зубы скалит после стакана водяры.
– Зато у нас самая низкая в мире квартплата! – говорит мне, сверкая тупыми глазами, Чернышевский.
Тут я им, спасителям нашим, врезал кое-что о плотности душ на метр населения в коммуналках и как в комнатухе невозможно достойно переспать папе с мамой, потому что детишки просыпаются и плачут или же смеются, не понимая душевного, простого и великого, почище, чем рекорд Стаханова, события, происходящего на узкой кровати. Молодым же людям разгуляться негде после свадьбы. Какое же при родне в одной комнате гулево?
Я, Коля, до звонка от Кидаллы давал многим соседям консультации насчет прерванных половых сношений и перманентной неудовлетворенности. Я все про это дело съел и полные штаны наложил.
– Самая низкая квартплата! Вы бы поглидели, как самые передовые люди планеты глотки друг другу грызут на кухонках перед краником одним единственным, или же в очереди поссать и посрать! Вы бы поглядели, как они каркают в борщи соседей, шпарят их кипятком, выживают, доносят, травят, песен петь не дают, пустые бутылки воруют. Я сам соседке Зойке клопа перед арестом подкинул из уважения к живому существу. Вы бы поглядели, спецы херовы по народно-освободительным движениям, как ваши человеки нового типа яростно возненавидели одно только соседство с другими двуногими и сходят от этой ненависти с ума, или же перекашивают их несчастные рыла инсульты и разрывают ожесточившиеся и слабые сердца инфаркты! Вы бы поглядели! А в отдельных, – говорю, – квартирах живут отдельные же товарищи, их по пальцам сосчитать можно, и прочие народные артисты, они же кукрыниксы, они же броненосцы потемкины, они же мистеры твистеры, они же разгромы, они же железные потоки, они же рабочий и колхозница, они же коммунисты на допросе, они же веселые ребята, они же атомная бомба, танец сабель, короче говоря – утро нашей родины.
А Чернышевский все не унимается:
– Весь мир завидует нашему бесплатному медобслуживанию, нашим лекарствам и нашим человекокойкам! Вы и это отрицаете?
– Да, – говорю, – отрицаю, потому что жил с пятью участковыми врачихами, и они мне такого порассказали о бесплатном медобслуживании, что у меня волосы дыбом встали. Ведь у них, – говорю, – времени на больных нету. Они их шуруют быстрей, чем детали на заводе Форда, а за ваше бесплатное обслуживание приходится платить самым дорогим – здоровьем. К тому же, если врачиха долго держит работягу на больничном, то ее в партком дергают, и последнюю мою бабу за саботаж просто посадили, из-под меня в четыре утра взяли. видите ли, вовремя не выписала на работу какого-то бригадира монтажников, они баз него запили и к первому мая Берию и Молотова не успели повесить на Доме Правительства. Так что, – говорю, – помалкивай, Чернышевский, он же «Что делать?» – Эх, и завизжал он, Коля, забился:
– Энтузиазм двадцатых годов! Энтузиазм тридцатых годов!
А я ему отвечаю, что, если энтузиазм двадцатых годов вычесть из энтузиазма тридцатых годов, то останется всего-навсего десять лет за контрреволюционную пропаганду и агитацию. И вообще, – говорю, – идиоты, ваше счастье, что играете вы здесь на казенных нарах в игрулечки, в капиталистов-разбойников и в палочку-выручалочку кризиса и ни хрена не знали и не знаете реальной жизни, ибо всегда вы ее бздели, и ваша же партия избавила вас, самых нежных ее членов, от страха смотреть на построенный новый мир с Никемом, ставшим Всемом. Поняли, – говорю, – сохатые? А я специально приехал вам спасибочки сказать, потому что кого же мне еще благодарить, как не вас, за все, что происходит с нормальным человеком Фан Фанычем? Историческую необходимость? Ей лапку не пожмешь! Говоришь, Чернышевский, что замысел у тебя был толковый, а исполнение вшивое, и ты за него не ответственен? Хуюшки, братец, хоть я и матюгаться ненавижу! Ежели я, Фан Фаныч, решаю, например, молотнуть германского дипкурьера на пароходе «Титаник», то я все стараюсь прикинуть. Я понимаю, что он думает о своих сраных нотах, меморандумах, пактах больше, чем о лопатнике с долларами. Я замечаю, что до обеда курьер нервничает сильней, чем после ужина. Я прислушиваюсь к интуиции, думаю о катастрофах на море и решаю, что вообще, хрен с ними, с долларами, провались они пропадом, потому что ноет как-то душа к неприятности и подальше, подальше велит уносить ноги от исторической необходимости молотнуть дипкурьера. Сами знаете, что в тот последний раз произошло с пароходом «Титаником». Вот что значит как следует обдумать замысел и не приводить его в исполнение! В замысле искать надо ошибочку!
Неожиданно, Коля, четыре рыла побросали Чернышевскому свои партбилеты и залегли на нарах.
– И я, – говорю, – с этапа устал, спать хочу, скорей бы утро – снова на работу!
Выпьем, Коля, друг мой, душа моя, за антилоп, обезьян и рыжих лисиц! Если мы с тобой неважно себя в лагерях чувствуем, то представляешь, каково им? 0б этом лучше не думать. Особенно антилопе тяжело. Ей же убегать от львицы надо! А лисичке каково? Ходит нервно из угла в угол, как ходят обычно врожденные мошенники по камере и вспоминает, рыжая, хитрые свои объебки петушков и курочек. Обезьяне-то один хер, где в человека превращаться. Но все ж таки, Коля, на воле лучше, а главное, превращение обезьяны в человека на воле происходит гораздо медленней, чем в зоопарке. Проклятое, грешное перед микробами, змеями, бабочками, китами, травками, птицами, слонами, водой, горами и Богом человечество!
Но ты знаешь, заснуть мне в ту, первую в лагере, ночь Чернышевский никак не давал. Устроил дискуссию: кончать меня или не кончать, Мое появление, видишь ли, поставило под угрозу единство рядов ихней подпольной партгруппы и внесло в сознание членов бациллу ликвидаторства и правого оппортунизма. И вообще я – Фан Фаныч, собрал в себе, как в капле воды, все худшие и вредоносные взгляды мещанского общества, для которого цель жизни – в поездке на работу в пустом троллейбусе, в сиденьи по целому часу со своими любимыми болячками, сосудами и раками в кабинете врача, во фланировании по магазинам, заваленным продуктами и промтоварами первой и второй необходимости, которую это мещанское общество цинично противопоставило, в своей так называемой душе. необходимости исторической, самой любимой необходимости партии и правительства.
– Господину Йорку и ему подобным господам, – говорит Чернышевский, – плевать на все трудности наши, плевать на происки реакции, плевать на то, что лучшие сыны народа США брошены в застенки, плевать на трагедию Испании, Португалии и княжества Лихтенштейн. Плевать на раны войны, залечиваемые комсомолом, плевать на шедевральное открытие марксистской экономической мысли – тру-до-день, плевать на план ГОЭЛРО, плевать на ленинскую простоту и скромность, плевать на наши органы, работающие в сложнейших условиях, подчас в темноте и наощупь, плевать на ВДНХ, ОБЭХЭЭС, ВЦСПС, РЭСЭФЭСЭРЭ, Центросоюз, ИМЛИ, ЦАГИ, ВБОК, МОПР, плевать на Стаханова, на Кожедуба, на Эйзенштейна, на Хачатуряна, на Кукрыниксов, а главное, на голос Юрия Левитана, мировой экономический кризис и ЦПКиО им. Горького. Все взять от партии и не отдать ей ничего, кроме черной неблагодарности за бесплатное медобслуживаююе и самую низкую в мире смертность и квартплату – вот, собственно, в двух словах, – говорит Чернышевский, – цель новой оппозиции и не мудрено, что она бесится с жиру, разлагается и уже дошла до сожительства с представителями экзотических животных, направленных партией и правительством в зоопарки для сохранения в неволе своих видов от полного уничтожения на свободе сыновьями мультимиллионеров и горе-писателем – душегубом Хэмингуэйем. Позволительно, – говорит Чернышевский, – спросить у господина Йорка, когда он проснется, сколько серебренников получил он от плана Маршалла за бешеную, за ядовитую каррикатуру на наши коммунальные квартиры, эти прообразы коммун грядущего? Мы обязаны сейчас же вынести на голосование две резолюции. Первая – о кооптировании в члены ЦК старшего надзирателя Дзюбу, ибо он в сложнейшей внутриполитической ситуации служит связным между нами, субъективными жертвами объективной исторической ошибки, и Сталинским политбюро. Вторая резолюция: мы, старые большевики, с риском для жизни бравшие Зимний и работавшие бок о бок с Ильичом, полны решимости ликвидировать пробравшегося в наши ряды ликвидатора, оппортуниста и злостного кенгуроложца Йорка Харитона Устиновича. Кто за? Предлагаю голосовать за обе резолюции сразу.
Подсчитал, Коля, Чернышевский голоса, протер пенсне, потеребил бородку и, оказывается, все воздержались. Он один проголосовал за кооптирование в члены ЦК Дзюбы и мою ликвидацию. Проголосовал, спросил уныло собрание: «Что делать?» – и сам же себе ответил: «Делать нечего. Приговор партии будет приведен в исполнение. Мы вынуждены сделать принципиальную уступку нечаевщине.»
Все же, Коля, интересно мне было побывать, первый и последний раз в жизни, на партсобрании. Конца я его не дождался. Закемарил. Сладко спалось мне на нарах, лучше, чем на тахте, отначенной Ягодой у Рябушинского. Только сон приснился страшный, будто пасусь я на горячем асфальте города Мельбурна, ищу зеленые травинки в трещинках. Губы жжет мои замшевые, нос высох, жрать охота, в душе тоска по траве, толкают меня, пихают, а я ведь в шкуре меховой – жарко, и задыхаюсь от вонищи бензиновой. Безнадега. А мне надо детишкам травки принести, желательно зеленой. Они ведь ждут меня. Я их подбросила на часок в приемную Шверника на Моховой улице. И ужас меня разбирает оттого, что я одной ногой в Мельбурне, а другой там, в Москве. Но это еще ничего. Нашла я наконец травку. Росла она в метро, на выходе с эскалатора, пробиваясь между зубьев стального гребешка, под который ступеньки уносит. Ступеньки-то уносит, а я прыгаю против их хода и рву травку. Откуда она там взялась? Ноги, ведь, ноги, ноги топчут ее… Нарвала травки, набила полную сумку, вдруг чую, как в нее кто-то залез. Я его хвать за руку, стервеца, а это, Коля, оказался ты и говоришь, чего же я скрываю, что карман имею, в нем на футбол пиво таскать можно и жареные семечки. И так мне обидно стало, что ты ко мне в карман залез и что детишки мои от голода в приемной Шверника и Калинина помирают, что завыла я на все метро, эскалатор остановился, и я вниз поскакала. Поскакала по ступенькам вниз, а им конца не видно. Я опять и завыла. Ву-у-у-у-у-а?
Тут у меня вдруг из левого шнифта искры посыпались, очень больно стало, я просыпаюсь, думаю в первый момент, что Чернышевский покушение на мою особу устроил и решаю со злости ноги у него, извини, из жопы выдернуть, поскольку я не либерал какой-нибудь Витте, а нормальный человек Фан Фаныч. Просыпаюсь, значит, окончательно, а в бараке – последний день Помпеи! Света нету, шум стоит, зубы скрипят, хрип.
Зажигаю спичку. Человек двадцать бьются в падучей в проходах между нарами и отдельно друг на дружке. Совершеннейшая каша. Ты представь, Коля, … ты что? Обиделся, что я тебя во сне увидел? Но ты же не украл у меня тогда травку, да и вообще не знал, в чей карман лезешь, человеческий или кенгуриный и потом, согласись, добрый тюлень, ты же не нарочно мне приснился. Нехорошо и печально говниться из-за таких пустяков. Ну что ты расстроился, Коля? Вот и я вместо того, чтобы тискать тебе дальше роман моей жизни, вспомнил жуткий случай, мне его за чифирком рассказал Кидалла. Он завербовал в стукачки одну бывшую великосветскую гадалку, толковательницу царицыных и фрейлинских снов. Фармазонка она была или не фармазонка, неизвестно, но к ней ходили жены всяких ответработников – быдло и интеллигентки. А в те годы чего им только не снилось! Шарлотта Гавриловна и передавала их сны Кидалле, а он на основании учения Павлова насчет того, что сны – это ночная жвачка нашими мозгами дневных мыслей, замастыривал разные дела и получил даже за них кликуху поэт наших органов», Говорит жена одного дипломата Шарлотте той Гавриловне, что приснился ей ее муженек и два секретаря его посольства в Италии. Будто они берут за руки, за ноги сначала Молотова, потом Кагановича, Калинина, Маяковского, Микояна, Ворошилова, Водопьянова, Мамлакат Мамаеву и других членов политбюро и бросают их в форум Колизея шакалам, гиенам и грифам в день Конституции. И посвящают все это киданье товарищу Сталину, у которого через шестнадцать суток – день рождения. Но шакалы, гиены и грифы почему-то не хавают членов политбюро, носы от них воротят свои и пасти зубастые. А Сталин сидит в ложе в грязной простынке и в сандалиях и говорит Муссолини:
– Извини, дорогой товариш Дуче, что-то недоброкачественные гладиаторы завелись в наших рядах.
Шарлотта и толковала такой сон как очень хороший, к свиданию, деньгам, марьяжу в партийном санатории и поражению генерала Франко, а потом доносила об этом Кидалле. И Кидалле оставалось только вызвать из Италии муженька милой ламы и его секретариков, предъявить им обвинение убрать в сговоре с итальянским фашизмом нашу партийную верхушку и часть актива. Дамочку, рассказавшую сон Шарлотке, надзиратели по очереди пилили на глазах дипломата, пока тот не раскололся и не продал сообщников. А Кидалла ему сказал напоследок, чтобы благодарил следствие за то, что им всем не предъявлено обвинение в попытке бросить целый ряд товарищей на съедение львам и тиграм под руководством Бориса Эдера во время циркового представления в честь делегатов съезда победителей. Тогда бы вышел им вышак, не всего червонец с поражением в правах и конфискацией имущества… И ты представь, Коля. в бараке – каша, в окно луна светит, на вышках, на всякий случай, стреляют в эту белую луну, а эпилептики от выстрелов попадали с нар, бьются в падучей, стонут, хрипят, языки перекусывают, зубами скрежещут. Надо им под головы подушки подкладывать, ложками языки прикусанные освобождать. руки-ноги держать, жалеть, испарину со лба вытирать, а Чернышевский сидит на нарах, покуривает солому из матраца и говорит мне, как ни в чем не оы вало:
– Эта эпилептическая зараза от Достоевского у нас пошла. Почему мы с Белинским тогда его не ликвидировали? Не понимаю, Ведь ничего подобного мы бы сейчас с вами не наблюдали,
Пришел надзор с керосиновыми лампами. Стоят мусора, от хохота надрываются, за животы держатся, некоторые даже своих баб и детей привели посмотреть на такое представление. Начали я и еше четверо, побросавших вечером свои партбилеты, успокаивать больных. К утру успокоили, Смотреть на них было страшно. Рыла синие, рты в крови, еле дышат, и несчастные у всех, мертвые уже почти, нечеловеческие глаза. В зрачках по желтой лампочке Ильича. Они зажглись под утро.
Подкемарить, Коля, в ту ночь я так и не успел. Рельса звякнула. Подъем. Птюху притаранили. Потом налили по миске ржавой шелюмки. Подхожу к Чернышевскому и говорю, что если только замечу вторую попытку покушения на мою личность, то вечноголодные вохровские псы обглодают его, Чернышевского, до самой шкелетины, а обглоданную шкелетину я, освободившись, оттараню в музей революции и выдам за останки батьки Махно или Родзянки или еще какого-нибудь политического трупа. Схавал он мои слова и отвечает, что речь шла, действительно,обо мне, но не о покушении на меня, а о попытке привлечь к изучению истории партии, которое зквивалентно моей ликвидации и даже еще более эффективно.
– А теперь расскажите, товарищ Йорк, что еще нового на воле? Как организация объединенных наций? По-прежнему ли это послушное орудие действует по указке США, и неужели партия не понимает, что Вышинский – палач и провокатор охранки на трибуне ООН – компрометанс? Ведь мы сами компрометируем себя на каждом шагу! Тут, Коля, Чернышевский потрепал меня по плечу, ухмыльнулся, как провинциальный босяк, и говорит:
– Ну, хвахит, хватит. Мы раскололи вас. Вы – английский товарищ. Чувствуется почерк Галахера. Большой мастер. Я не удивлюсь, когда узнаю, что английский двор вступил в партию. Где ваш мандат, Йорк?
Тут я сходу затемнил, разошелся, похвалил всех за то, что не поддались на провокацию и продолжают оставаться крупными деителями Коминтерна и МОПРа.
– А посажены вы, – говорю, – лично Сталиным по согласованию с Торезом, Тольятти и Тельманом для сохранения ваших жизней. Ибо на воле во всем мире идет тотальная война на уничтожение старых большевиков, бравших Зимний и работавших бок о бок с Лениным и Свердловым. Даже внутри нашей, – говорю, – страны трудно поддающиеся разоблачению силы не останавливаются ни перед чем. Поэтому план партии вынужден был быть, как всегда, гениальным и простым. Так что от имени политбюро тридцати компартий имею честь передать вам, героям нашего времени, о том, что вы не осуждены. Вы, товарищи, тщательно законспирированы, и ни Гестапо, ни ФБР, ни Сюрте женераль, ни наш интеллижент сервис и другие выдающиеся легавки мира не дотянутся кровавыми своими лапами до ваших жизней! Сначала, Коля, я просто растрекался от злобы и мертвой тоски, но смотрю: разрыдались по-новой, слушая меня, мои большевички, за руки взялись, и даже те, которые после групповой падучей, закукарекали потихонечку, задышали поглубже, бедняги, глаза у них слегка ожили и синие губы порозовели.








