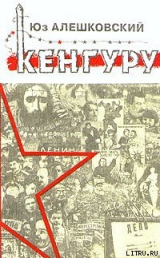
Текст книги "Кенгуру"
Автор книги: Юз Алешковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
14
Направляюсь домой. На улицах все то же самое. «Слава КПСС». Слава труду». «Печать – самое острое». «Партия и народ едины». Да здравствует наше родное правительство!» «Вперед к коммунизму!» «Догоним и перегоним!»
Все это, Коля, трудно и невозможно понять нормальному человеку. В Англии я ни разу не видел лозунга «Слава лейбористской партии!» или «Да здравствует наше родное консервативное правительство!» И во Франции, и в Амернке ничего подобного я не видел. Разве что в дни выборов в сенат и прочие шарашки. Там уж если тратят денежки, то на рекламу, и денежки окупаются. В общем, Коля, шел я по улицам, лезли в мои глаза все зти «Славы» и «Вперед», и думал, что в нашей стране, к сожалению, нечего рекламировать, кроме партии, труда и вечно мсивого Ильича, а какая и кому от зтого польза и прибыль, совершенно неясно. Впрочем, почему неясно? Наши вожди, направляясь кто в Кремль, кто на Лубянку, кто на Старую площадь, кнокают, небось, из окон своих машин на всякие слова и думают: «Правильно. Это по-деловому. Слава нам. Хорошо мы работаем. Народ зря хвалить не станет. Слава!»
Да ну их, Коля, к лешему.
Прихожу домой. Дверь открыта. Вонища – не продохнешь, и какая-то баба в противогазе пульверизирует плинтуса, тахту и тумбочки с мягкими стульями. И все это в общем коридоре. Кричу бабе, по всей видимости, Зойке. Не слышит. Я нос зажал и толкнул ее. Обернулась и на тахту валится. Снимаю с нее противогаз. Зойка! Разжирела только слегка.
– Как увидела тебя, так думаю, чокнулась от хлорофоса или противогаз неисправный. Вот, клопов и тараканов морю. Спасенья от клопов нету, – говорит Зойка.
– Откуда ж клопы взялись?
– Как ты пропал, так они и развелись постепенно, Сроду в квартире их не было.
Тут, Коля, я вспомнил, как пожалел клопа и подсадил его к Зойке перед уходом на Лубянку. «Живи, – сказал я еще тогда, – ведь жить, тебе, клоп, положено пятьсот лет». Вот он и нашел себе подругу, или она его нашла, расплодились, допекли Зойку. Она вот, продолжалась тут без меня жизнь.
Достаю из заначки ключ. Вхожу в свою берлогу. Воздух чистый. Я ведь форточку не закрыл. «Хрен с ней, – подумал уходя, – с шаровой молнией. Пускай влетает.» Воздух чистый, но зато стоит в комнате жуткий писк. Залетела в комнату пара воробьев с бабочками в клювиках, засекли меня, вылетели и перед окном икру мечут, влететь боятся. Смотрю: на буфете гнездо, за моим фото «Я в Венеции» – другое, в моем цилиндре – третье. И в каждом гнезде голодные птенцы клювы пораскрыли, шеи вытягивают, тонкие, как у лагерных доходяг, весь пол в помете, стол тоже, а на столе бутылочка постаревшего на шесть лет коньяка, тоже задристана с ног до головы, словно обросла пылью веков в подвале герцога Орлеанского. Сколько же поколений воробьев родилось тут и выросло, пока я чалился?
– Давай их тоже выморим, как клопов, – говорит Зойка.
– Не надо, – отвечаю, – никого морить. Они сами через пару месяцев улетят, а может, и раньше.
– Как же ты жить вместе с воробьями будешь? – Проживу. С людьми уживался, да еще с какими, а с птичками тем более уживусь.
Подхожу, Коля, к окну, открываю его, чтобы папам и мамам влететь с добычей удобней было, и вот – судьба моя – напротив по тротуарчику, в туфельках-шпилечках, с сумочкой в булочную спешит та самая деточка! Я не мог, Коля, ошибиться. Ласточке тогда лех пятнадцать было, и я уже прощался со свободой, отсчитывая последнее ее время, и смотрел в окно, и это была она в коричневом платьице с белым передничком. Коля, я твердо сказал своему старому знакомому снайперу Амуру: «Как всегда, беру огонь на себя!» Амур соответственно прошил мое сердце длинной автоматной очередью, и я крикнул в окно:
– Деточка! Деточка!
Остановилась. Думала, что оклнкнули не ее. Я еще раз позвал.
Подняла личико и с улыбкой спрашивает:
– Это вы меня?
Я кричу:
– Немедленно зайдите в квартиру семь!
Пожала плечиками, но я серьезно машу рукой, и вот она, глазам своим не верю, переходит улицу… Я вышел из хлорофосной смердыни на площадку. Все выше, Коля, все выше стремим мы полет наших птиц! – Извините, – говорю, – я человек чудовищно интуитивный, и мне на расстоянии показалось, что вы имеете какое-то отношение к биологии.
– Да. Я учусь на биофаке. Вы угадали, если, конечно, ничего не знали об этом.
– Не мог знать, – говорю, – кстати, у нас тут морят клопов. Запах. Зажмите, пожалуйста, нос, и зайдемте ко мне. Я вас порадую. Ну, слово за слово… «Заметил, – говорю, – что вы с симпатией смотрите на воробьев…» Хотя ничего такого не замечал.Провожу деточку, ее звали Галей, в свое большое гнездо и даю пояснения насчет превращения в него моей комнаты. Деточка Галочка ловила мух и кидала их в клювики птенцов. Я что-то тискал, она весело ругала Сталина, угрохавшего ее двух теток, двоюродного брата и немыслимое число соседей по коммуналке, спрашивала, читал ли я в лагере стихи Пастернака и, наконец, мы раскупорили дождавшуюсятаки меня бутылочку. Воробьи, кстати, плюнули на опасность, не оставлять же детей голодными, и стали влетать совершенно внаглую. Я, Коля, с твоего позволения, для того, чтобы двинуться дальше, забегу немного вперед. Ласточка Галочка ушла. Через пару дней забежала по-новой, притаранила птенцам мотыля и умолила меня тиснуть ей все то, что тискаю теперь тебе я. И вот, когда я дошел до процесса, она заплакала, поцеловала меня в щеку и говорит:
– Для того, чтобы все это слушать, Фан Фаныч, нужно стать женщиной… Извините…
Коля! Поверь мне: мы несколько недель не вылезали из гнезда. А вылезали на смрадную улицу только для того, чтобы купить пожрать. Лямур, милый, лямур. А потом улетели птенчики-воробушки. Оперивись и улетели. И мне пришлось сделать ремонт. Это я, извини, забежал вперед. Ушла, значит, потрекав со мной, Галочка, а я уже совершенно окосел от Свободы. Как бы глупостей, думаю, не наделать. Закружилась моя голова. В самый раз бы прилечь на закаканный птичками диванчик, покемарить часок, перешибить сном сумасшедший хмель жизни. Но нет! Все-таки фан Фаныч – полная чума, Первым делом он очистил от помета столик Марии Антуанетты, за который Стальной предлагал ему состояние, но в ответ слышал: «Жамэ». Очистил, полюбовался им, потом взял бутылку в гастрономе, захожу за угол, подхожу к пивной и говорю Нюрке, падле бессмертной и позорной:
– Кружечку! – Даю монету. Нюрка сдерживает пиво, оно, как нефть из новой скважины, бьет вместе с газом, одна сплошная пена, которой только пожар в рейхстаге опять-таки тушить. Другой рукой дает мне Нюрка сдачу. Увидела наконец. Узнала, гадина. А рожа ее лиловая с прописью так заплыла, что она хавало свое от удивления раскрыть не может, только шнифтами хлопает продажными, быдловыми и поросячьими, Вольфганг Мессинг такие не прошибет, попростуй он с гипнозом потребовать у Нюрки долива пива после отстоя пены. Я же интеллигентно, как всегда, жду. И еще пара человек ждет. А Нюрка остолбенела, пиво, вернее, пена уже через край бежит, и вдруг оседает Нюрка в белом халате с посиневшей харей, тает за стойкой, грохнулась на пол. Пришлось Фан Фанычу дверь с замком вырывать, вытащить Нюрку за синие ноги на свежий воздух, пивом в рыло плеснуть и сказать на ухо: «ОБХС! ОБХС! ОБХС!» Будь уверен, Коля, тут же очухалась, а я отпустил пива, долив его тютелька в тютельку хипежившим алкашам, сам выпил пару кружек, бубличек соленый пожевал и сказал Нюрке:
– Советую тебе сесть на годик, тогда похудеешь и не врежешь дуба от удара, а во-вторых – раньше сядешь, раньше выйдешь. Нюрку я покинул задумавшейся, хотя, Коля, следов мысли на ее роже не взял бы даже Ингус – верный друг пограничника Карацюпы. Так. Затем Фан Фаныч берет шефа.
– На Лубянку. Подождите меня у приемной.
Подъезжаем. Шеф спрашивает: долго ли ждать? Отвечаю внушительно, что от двадцати минут до десяти лет. Главное, спокойствие! Подхожу к окошечку. – Мне, – говорю с английским акцентом, – очень надо бы повидать, очевидно, уже полковника, следователя по особо важным делам товарища Кидаллу.
Попросили подождать. Минут через пять выходит в приемную гриф средних лет в штатском.
– Здравствуйте. Документы у вас при себе?
– Вот справочка об освобождении. Она же ксива.
Завел он меня в какую-то комнатушку. Рядом с Лениным темный квадрат от снятого Сталина. На столе бронзовый железный Феликс. Я разъяснил, что желаю узнать о состоянии здоровья своего следователя Кидаллы. Можно по телефону, но и не возражаю против свиданки. Это не для эксцессов, жиганской мести, либеральных воплей и так далее. Просто я испытываю душевно-историческую необходимость услышать или увидеть товарища Кидаллу, чтобы поблагодарить его, кроме всего прочего, за то, что свела нас чудесная во многих отношениях моя судьба, а если бы не свела, то и не познакомился бы я сегодня с прекрасной, с лучшей из ласточек, которая бежала, деточка, в коричневом платьице с белым передничком в черный день моего пленения, в булочную. Могу я увидеть или услышать товарища Кидаллу? Отпускать мне такси или не отпускать?
– Вы немного выпили и возбуждены, но такси не отпускайте, потому что некоего Кидаллу вы не сможете ни услышать, ни увидеть! – Чехты ему? Верней, кранты? То-есть, пошарили вы его из органов? – спрашиваю в крайнем удивлении.
Гражданин по фамилии Кидалла в органах не работает и никогда не работал, – отвечает гриф в штатском.
– Ну, миляга, начальничек, вы мне чернуху не раскидывайте. Взгляните в мое досье и поймите, что перед вами не парчушка, а Фан Фаныч, державший, несмотря на мягкость характера, тюрьмы Старого и Нового света. Кидалла вел мое дело и состряпал процесс будущего. Я – Харитон Устинович Йорк, зверски изнасиловавший и убивший в ночь с 14 июля 1789 годв на 9 января 1905 года кенгуру Джемму! Я срок отволок, а вы мне чернуху лепите, «не работает и не работал». – Вам необходимо встать на учет в психодиспансер, Фан Фаныч и подлечиться. Дело ваше вел не какой-то Кидалла, а бывший майор Мохнатов. Бывший, потому что, восстанавливая ленинские нормы соцзаконности, партия очистила органы от мохнатовых и им подобных. И бросьте вы на себя наговаривать. Никого вы не изнасиловали и не убили. Вас арестовали по ложному обвинению в попытке покушеыия на Кагановича и Берию. Вы будете реабилитированы и получите бесплатную путевку в дом творчества писателей Переделкино. До свидания.
– А на хрена мне, пардон, в дом творчества ехать? – тупо спрашиваю, ибо одурел от услышанного.
– Многие, не пережившие того, что вы, писатели, остро нуждаются сейчас в лагерных сюжетах. Вот вы и подкиньте им за столом, в биллиардной, и так далее, парочку бериевских ужасов. Пусть пишут. Нам это нужно. Ну, до свидания.
– До свиданья. Передайте, начальник, председателю вашего комитета генералу Серову, что я в любом случае уважаю глухую несознанку. Привет также Кидалле, если вы его не замочили, заметая следы. И еще скажите Серову, что Фан Фаныч не фраер и на учете в дурдоме состоять не намерен. Адью. В дом творчества поезжайте сами. Ну что ты скажешь, Коля? Чисто сработано? А мне после всего, что я испытал, видите ли, подлечиться надо! Ну, падлюки! Ну, наглые мусора! Действительно, какая-то новая порода людей. Тьфу, сучий ваш мир! А шеф мой, бедняга, издергался начисто. Увидев меня, хвостом завилял, визжит от радости, того и гляди в нос лизнет.
– Куда, – говорит, – хозяин, едем?
– В зоопарк, Вася, в зоопарк. Тебе известно, что преступник любит возвращаться на место своего преступления?
– Это вы насчет амнистированных и реабилитированных?
– Вот именно, – говорю, – догадливый ты парень, Вася.
15
Попросил я его высаднть меня на Больших Грузинах у служебного входа. Отблагодарил за нервотрепку стоянки у КГБ. Повторяю затем все свои действия, как в кино на родном процессе. Воровато оглядываюсь и хочу шмыгнуть через служебный вход, хотя сам не понимаю, зачем мне это сейчас нужно.
– Гражданин! Гражданин! Пропуск! – окликнул меня, как говорят плохие писатели, до боли знакомый голос. Иду, с понтом не слышу. – Стой, тебе толкуют!
Оборачиваюсь, Коля, и вижу натуральнейшего, слегка постаревшего сторожа Рыбкина, с медалью «За оборону Сталинграда» на стареньком пиджачишке.
А! Это ты, артист! Здорово! – буднично говорит Рыбкин. Я к нему бросаюсь, обнимаю, трясу за плечи, целую, и у него, алкаша старого, нос напудрен для маскировки багровости от дирекции, разит, разумеется, пивом изо рта и портвейном, но я чую почему-то родство с этим человеком.
– Здорово, Рыбкин, здорово, кирюха!
– Не дадут тебе народного. Опять с утра надираешься, – говорит Рыбкин. Я и то терплю. У сменшика вчера двух соболей ляпнули и большого бобра. А это знаешь,сколько на валюту? Идем в помещение, – говорит Рыбкин, а сам кнокает на мою оттопыренную скулу».
Поддали, И веришь, Коля, сколько я ему не вдалбливал, что я тоже натуральнейший Фан Фаныч, а никакой не артист, он только лыбился и говорил, что мне по-новой надо ложиться на улицу Радио антабус принимать, не то скожусь от белой горячки, как один негр из африканского посольства. Он приехал ночью на кремовом «форде», перелез через забор, и поутрянке негра нашла служительница в крокодиловом бассейне. Негр сидел в воде и плакал, а крокодил забился от страха куда-то в угол. В органах он, протрезвев, объяснил, что пьет от тоски по Африке и уже не раз ночевал по пьянке в слоновнике, антилопнике и обезьяннике. Его и выслали в 24 часа, даже опохмелиться не дали.
– Представляешь, каково было лететь, не поправившись?
– Представляю, – говорю, и понимаю, что не удастся мне доказать Рыбкину, что я это я, потому что он с туфтовым Фан Фанычем вместе снимался, пил, получал гонорары и ходил обедать в дом Кино. На все, что я втолковывал, он отвечал:
– Наливай и не ебли мне мозги. Дай от радио отдохнуть.
– Хорошо, – говорю, – сбегав еще за бутылкой, – а кенгуру убивали или не убивали?
– Убили. Как же не убить? Тогда бы и кина не вышло. Все было, как в жизни.
Тут я, Коля, уронил голову на руки, хмель с меня сошел, и не знаю, сколько я так просидел. Рыбкин, наверно, подумал, что я задрых, вышел и тихо дверь прикрыл. Ну что мне стоило тогда взять у Кидаллы на себя не изнасилование Джеммы, а покушение на Маленкова, Кагановича, Молотова, Булганина и примкнувшего к ним Шепилова? Ну, чтоб Их, идиотов, все равно никто и не думал убивать, ибо убивают и покушаются на личностей, а такого дерьма, как они, в России хоть пруд пруди. Отволок бы я за них тот же срок, а бедное животное было бы живым и здоровым. Дрянь я, дрянь. Кроме всего прочего, Никита шарахнул бы мне сейчас медаль «За отвагу», а может, под настроение и Героя Советского Союза дал бы, как генералу Насеру. 0б отдельной квартире и даче я уж не говорю. Будь здоров, Коля! Помянем невинную Джемму…
– Рыбкин! – кричу, – Рыбкин! – а он не идет. Подхожу к окну, смотрю, мой подельщик Рыбкин шмонает каких-то студентов. Проверяет ихние цилиндры для чертежей. – Ну что, – говорю потом, – обнаружил похищенных кобр или выдру?
– У нынешней молодежи, кроме глистов, ничего за душой нет, – отвечает Рыбкин. – Очухался?
– Ты когда меня последний раз видел? – спрашиваю.
– Месяца за два до смерти генералиссимуса. Потом ты куда-то пропал. Ну, думаю, заелся, завязал и в гастроль ушел.
– Так. Значит, его убрали? Убрали.
– Кого?
– Меня.
– Ну, и куда же они тебя… того? – спрашивает Рыбкин. Нормальные люди, Коля, очень иногда любят поговорить с людьми на их взгляд поехавшими и стебанутыми.
– В крысиный забой они меня закомстролили. Темно там было, как до сотворения мира. Выпьем, Рыбкин.
– Ха-ха-ха! Что же ты там делал, в забое?
– Крыс бил обушком между рог. План выполнял.
А вот тут, артист, я тебе и зажал яйца дверью! Как же ты их бил, да еще между рог, в сплошной темноте? Опомнись! Ты не чокнулся, а распустился. Возмись за ум, мудила ты из Нижнего Тагила! А крысы и мне представляются минут за десять до белок горячки. Иногда гуси черные в валенках белых и у каждого в клюве орден «Мать-героиня».
– Будь здоров, Рыбкин. Я действительно бил крыс.
– Ладно, допустим. Как ты, однако, их видел?
– У меня третий шнифт открылся, он же третий глаз. Вот здесь, на затылке. Пощупай. Не боись.
Рыбкин дотронулся, Коля, до моего калгана, как до чумы.
– Ври! У меня тоже есть такая шишка.
Тут что-то зло меня взяло на людей, в высшую, так сказать, реальность не верящих и отрицающих наше трагическое и радостное бытие, хотя, Коля, люди-то они сами по себе часто неплохие. Я и говорю Рыбкину, что могу помазать на бутылку и встану сейчас рылом к стенке. Он пусть делает все, что пожелает. И посмотрим, вижу я или не вижу. Помазали. Встаю в угол, выдернул штепсель из розетки, чтобы Юрий Левитан заткнулся со стотысячной тонной чугуна, выданной на гора хлопководами Норильска. Встаю. Массирую третий шнифт и, представь себе, Коля, безо всякого труда вижу все нехитрые поступки Рыбкина. Сначала он язык мне показал, потом неприличный жест руками сделал, покривлялся, бесшумно налил полстакана и бесшумно же выжрал водяру, поставил ружье дулом вниз, задумался, чего бы еще совершить, но ничего ему в голову не приходило, что само по себе любопытно. Подумал. Застегнул мотню. Перевесил Крупскую с одной стены на другую. Снова покривлялся. Зажал рот, чтобы не захохотать. Снял сапог. Понюхал портянку. Обулся. Десять раз подряд отдал кому-то честь. Протер рукавом медаль. Проверил пропуска у нескольких человек. Снова добродушно показал мне язык. Пошел открывать ворота верблюду и тигру в клетке. Вернулся. Тоскливо кнокнул на бутылку и вздохнул. Помоему, ему стыдно стало, что выжрал полстакана без меня.
И вообще, Коля, вел себя Рыбкин так, словно двумя руками отмахивался от мысли, что я вижу его, но однако, и перетрухивал в глубине души: а вдруг, и на самом деле работает у меня третий шнифт, а он, Рыбкин, кривляется, жесты делает неприличные, честь, как дурак отдает кому-то, и если поглядеть на него со стороны, то и сам, пожалуй, ведет себя вроде стебанутого второй группы. А я все стою и помалкиваю. Не выдержал старик, нос багровый напудрил, еще глоток бесшумно выжрал, сырком закусил и не чавкал при этом громко. Глубинный страх, что за ним, возможно, наблюдают, сделал его воспитанным человеком. Он уже не кривлялся, а смотрел мне в спину человеческим взглядом тепло, сочувственно и немного виновато.
– Ну, ладно, хватит херовину пороть. Поворачивайся, артист. – Проиграл ты, – говорю, – но бутылку я тебе прощаю и сам за ней сбегаю. Славный ты человек, Рыбкин.
Тут он запсиховал, закапризничал, совсем разговнился, натолкал мне членов полные карманы, оскорбил как актера, нажирающегося до горячки и унижающего при этом старого солдата, хотя тридцатку, которую я у него взял на съемках, и не думаю отдавать.
– Беги за бутылкой, а то я тебе как врежу сейчас прикладом, так сразу вылечу от дури.
Я после этого взрыва и рассказал Рыбкину детально, до мелочей, что он делал, умолчав только насчет неблагородного распития водяры без собутыльника, ибо простил человеку его слабость. Он меня обшмонал, думал, я в зеркало подглядывал, и потом уж только, пораженный моим даром, раскис. Совсем раскис.
– Вот бы мне такой же, – говорит, – третий шнифт. Я бы на двух работах сторожил. Эти оба спят, а тот смотрит. Потом наоборот. Сбегал я по-новой. Сидим, трекаем, но сбить Рыбкина с того, что я не артист, а Фан Фаиыч, мне не удалось. Справку об освобождении он даже смотреть отказался. Третий глаз, – говорит, – только у безумно юродивых бывает. Рассказал пару баек, как его баба на Тишинке купила мясо на щи, грудинку. А перед этим как раз с площадки молодняка кабанчика южноамериканского шлепнули. С овчаркой мусора пришли. Она и бросилась на Рыбкина, из чего тот заключил, что кабанчика забили и продали на Тишинке, и от него разило этим кабанчиком, кило которого стоило рублей пять золотом, Хорошо, что у Рыбкина в тот день было алиби, его в вытрезвитель забрали. Потом рассказал, как приехал полковник в черной машине, показал директору какой-то приказ. Директор зоопарка лично поймал павлина и затырил его в багажник черной машины. Рыбкин совершенно точно знает, что павлина отвезли в Кремль и выпустили в огромном кабинете, где Сталин пятые сутки подряд уговаривал маршала Тито не курвиться и не вбивать клин в международное рабочее движение. Два дня ходил павлин по кабинету и нервничал. Сталин то же самое делал, а Тито сидел на стуле и хмуро молчал. Наконец павпин предстал перед ним во всей своей красе. Сталин и говорит Тито:
– Ты чего, тезка, распустил хвост, как этот павлин?
– А я твою маму… туда-сюда! – вроде бы отвечает на это наглый и самоуверенный маршал. Тогда Сталин вызвал Маленкова и сказал
– Увезите его.
– Кого, Иосиф Виссарионович? – спросил Маленков, Сталин еще двое суток ходил по кабинету, курил трубку, не кемарил, а Маленков стоял руки по швам, не обедал, не ужинал и ждал ответа, кого увезти. Маршал же Тито вроде бы крепился, чтобы не наложить в штаны. Наконец Сталин ответил:
– Увезите павлина. – И немного погодя добавил: – Он считался и считается лучшей и красивейшей из птиц так называемого свободного мира. В отличие от некоторых бывших орлов.
Маршал Тито вроде бы вздохнул с огромным облегчением, попросился сходить во двор, вышел, да так и не вернулся. Рыбкин своими руками вынимал павлина из багажника той же черной машины. С тех пор он «поехал» и ни разу не распустил хвост, а Никита жрет нынче трижды очищенную водяру с маршалом Тито, от которой голову не ломит с похмелья.
– Ты, артист, прости меня. Нехорошо я сделал. Я без тебя выпил, пока ты в углу стоял, – вдруг, всхлипнув, говорит мне Рыбкин. – Старина, – толкую я ему. – Слава Богу за то, что я сегодня втрескался в одну ласточку и встретил тебя – нормального доброго человека! Слава Богу! О чем говорить? Ну, вышил и выпил.
– Нехорошо. Я думал, ты не видишь. Нехорошо! Извини. Только не еби все-таки мозги, что ты меня сегодня в первый раз встретил. – Ладно, – говорю, – держи мой долг. И брал я у тебя не тридцатку, а три тыщи, когда постановочные нам платили. Помнишь? С трудом доказал я, Коля, Рыбкину, что постановочных получил он не две старыми, а пять, но три я у него взял на телевизор и чтобы он не пропил.
– Бывает же, – сказал мне Рыбкин на прощанье, – что человек вроде не сумасшедший, а на самом деле… того. А бывает и наоборот. Захаживай. А к кенгурам не ходи. Опять расстроишься, и возись тогда с тобой. Я же на посту все-таки.
Но, Коля, хоть и обалдел я порядочно, не пил-то ведь сколько лет, а до кенгуру добрался. Подхожу к вольеру, словно на свидание пришел: сердце колотится. Впрочем, сердце, может, и от водяры колотилось: она же, гадюка, с каждым днем все больше и больше в яд превращается. Нарочно нас, что ли, травят? Смотрю. Все, как в кино, а самого животного не видно. Вон на том месте я ее насиловал, бедную Джемму, вон там нанес несколько ран финским ножом, там прикончил. Вдруг из-за зеленого строения нелепейшей походкой вышла кенгуру. Читаю табличку: «Кенгуру Джемма. Года рождения 1950». Копия той, убитой.
– Джемма! – кричу, – Джемма! – Подходит к решетке.
– Здравствуй, детка! – Кинул ей французскую булку. – Значит, это я тебя хотел, заметая следы, взорвать вместе с мамой, положив в ее сумку гранату-лимонку? Вот ты какая, – говорю, – отгрохала! Большая. Красивая. Ешь, миляга! – просунул руку за решетку, Джемма дохнула на нее жарко, ткнулась в ладонь трепетным носом, а я думаю, Коля, что только электронной машине могло придти в голову, что Фан Фаныч способен захотеть трахнуть, а потом убить заморсков животное. Все-таки мы лучше, чем о нас думают машины и Кидаллы.
– Ешь, миляга, хавай. Я тебе раз в неделю кешари притаранч вать буду. Кукурузы, – говорю, – тебе достану, пшенички, зелени украду в ботаническом саду. Если бы ты сидела в Гамбургском зоопарке, я бы тебя выкупил и этапировал на волю, в Австралию со справкой об освобождении, а здесь… пардон, вся власть принадлежит советам и поэтому совершенно не с кем посоветоваться, что делать. Что нам делать, Джемма? Как нам быть? Ты знаешь, сколько лет моей жизни, ты ешь, ешь, хавай, превратилось в страшный опыт? Не знаешь. А зачем он мне, ты знаешь? И я не знаю. Но я верю, Джемма, что я не знаю этого по глупости и несовершенству души. Вкусно? И я люблю хлеб. Я, Джемма, в ласточку втрескапся. А она, запомни, пожалуйста, она есть – сама жизнь. Теперь у тебя будет верный друг Фан Фаныч, сирота ты моя милая.
– Гражданин! – это, Коля, лягавый ко мне подканал. – Как вы себя чувствуете?
– Хорошо. Прекрасно. Тужур, ажан, прекрасно.
– Не надо разговаривать с животными в нетрезвом виде, – говорит. Сам молоденький. На смену бериевским костоломам пришел. Вежлив. – Вы приезжий?
– Да, – говорю, – приезжий. Хочешь выпить?
– Откуда вы приехали?
– На днях, – говорю, – я проснулся на свободе в анютиных глазках, объективно в бороде Кырлы Мырлы. Ре-а-би-би-би-ли-ли-ли… Проводил он меня до выхода, а я канаю с ним под руку и хипежу на весь зоопарк: – Свободу Джемме!… Свободу оцелоту!… Свободу семейству кошачьих и подотряду парнокопытных! Руки прочь от гиен и шакалов! Мы с вами, белые медведи! Свободу слонам и тапирам! Руки прочь от антилоп и горилл! Руки прочь от шимпанзе и морских львов! Нашу дружбу не задушишь, не убьешь!
Добрался на шефе до дому без приключений. Только вхожу в подъезд, слышу за спиной типичный голос коллеги:
– Синьор Фанфани!
– Си, си! – отвечаю.
Трекали мы потом по-итальянски. Оказывается, он командирован ко мне Ди Лазурри – боссом небольшой чикагской мафии. Очень удивился, что я всего пятый день, как освободился. Зашли. Пищат птенцы. В бутылке немного коньяку осталось. Выпили. Ведет себя невозмутимо, хотя на плече уже воробьиная какашка. На итальянца не похож.
– Как, – спрашиваю, – поживает Ди Лазурри?
Плохо поживает, как оказалось, Ди Лазуррл, и более того, скоро вообще перестанет поживать. Поэтому он перебрал в уме всех, кто мог бы принять из его рук большое и сложное дело и остановился на моей кандидатуре. У меня опыт работы в сложнейших социально-политических условиях, безупречная репутация и бескорыстная энергия. В моих жилах течет немного итальянской крови, но этого вполне достаточно для того, чтобы топнуть, когда следует, ногой на зарвавшихся мафиозо! Что я об этом думаю? Ответ он хотел бы получить через два дня, так как есть сложности с обратной дорогой.
– Ну, а как вы… сюда, пардон, добрались?
– Правда путешествует без виз, – на ломаном русском языке, с бандитской ухмылкой ответил мне эмиссар. И я сказал ему, недолго думавши, что лестное предложение Ди Лазурри принять, к сожалению, никак не могу. Масса работы на родине. Крупнейшая финансовая операция в истории. Сотни миллиардов рублей. У итальянца глаза на лоб полезли после этих слов. Даю пояснения. Правительство и лично наш Никита Сергеевич страшно обиделись на народ, у которого оказались в долгу, надавав ему на много лет кучу облигации по куче займов. Народ привык к розыгрышам, погашениям, аппетиты растут, и правительство вынуждено возвращать народу чуть ли не ежемесячно огромные суммы. А ведь в прошлом народ сам спровоцировал правительство взять у него в долг на восстановление и развитие сельского хозяйства. Сложилась ненормальная обстановка. Правнтельство изнемогло от вампирских привычек народа-ростовщика. Партия сказала: «Будет!» Никита приказал прекратить такое безобразие. «Руки прочь от официальных таблиц розыгрышей всех займов!» «Нет – народу Гобсеку!»
– Сами понимаете, – говорю, – синьор, в связи со всем этим у меня много работы.
– О! Ваш босс Хрущев – великий мафиозо! – восхитился синьор. – Он принял нашу славную мафию от Сталина и вынужден расхлебывать его кашу. Ничего не поделаешь. В финансах должен быть порядок, – говорю. – Так что чао, голубь, чао.
– Это окончательный ответ?
– Синьор Фанфани не бросает последних слов на ветер. Передайте Ди Лазурри привет и пожелание выздоровления. Привет также маэстро Тосканини. Чао. Проводил его. Пошел к Зойке телевизор смотреть. Торжественное заседание какое-то. Без всякого удивления тыкаю пальцем в экран и втолковываю Зойке, что третий справа от Никиты – Чернышевский. Я с ним вместе срок волок и попал ему за все ланцы, сахарки, и птюхи в «буру».
– Слово предоставляется старейшему члену нашей партии, соратнику Ильича, участнику боев за взятие Зимнего дворца Николаю Гавриловичу Чернышевскому…
Я пошел кемарить. Прилег на диванчик, но уснуть не могу. Протрезвел. О ласточке думаю, как мальчик, тишина теплая и темная в моей душе и в мире, только воробьи шебуршат еле слышно крылышками во сне, в гнездах птенцы слепые попискивают и я благодарю Творца за то, что явлен мне образ Свободы и губы от ужаса кусаю, вспомнив, как сигали ночью с нар зпилептики-большевики, а я расхлебывал эту мычащую и хрипящую человеческую кашу. Слава тебе, Господи, все это позади!
Кстати, Коля, вот-вот должна вернуться из Крыма Галочка. Давай вынесем во двор посуду, позволим себе ее не сдавать. Смотри, сколько мы вылакали! Молодцы! Здоровяки! Вынесем, приберем ласточкино гнездо и сходим в «Березку», в славный магазин имени Октябрьской революции и Сталинской конституции. Я тебе объясню, откуда у меня сертификаты. Вдруг вызывает меня иньюрколлегия и говорит: – Согласно завещанию австралийского миллионера Джеймса Кларка вам положено наследство в 200 000 фунтов стерлингов.
– Кларк, – спрашиваю, – не ошибся?
– Нет. Ни у него, ни у нас ошибки быть не может. Вас это наследство дожидается уже 76 лет. Завещано оно человеку любой национальности, который изнасилует и зверски убьет кенгуру, нанеся ей ножом четырнадцать ран. Так что все сходится. Распишитесь.
– Одну минутку, – говорю, – но ведь органы ушли в несознанку и утверждают, что я был осужден за попытку убрать антипартийную группу еще при жизни Сталина, а кенгуру – это мой бред, лагерная паранойя и так далее.
– Вы – неглупый человек и понимаете, что речь идет о крупной сумме. О валюте. Стране она сейчас необходима. Если промедлить, то слух о завещании пронесется по всему миру и начнутся массовые убийства и изнасилования несчастных кенгуру лжепретендентами на наследство. Партия считает, что вы являетесь единственным законным наследником Кларка. Распишитесь.
– А он что, – спрашиваю, ибо спешить мне некуда, – был с легкой припиздью?
– Кенгуру много раз совершали набеги на его поля, опустошали их, и под конец жизни Кларк заимел кенгурофобию ужасно тяжелой формы. Он прыгал на четвереньках, носил на животе сумку с золотом и,умирая, оставил вот зто странное, лежащее перед вами завещание. Из-за утечки информации о вашем преступлении и о суде над вами узнал атташе культуры посольства Австралии, и делу, с согласия Никиты Сергеевича, был дан ход. Распишитесь, пожалуйста. Сумма прописью. Двести двадцать один рубль. 86 копеек цифрами.








