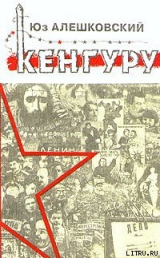
Текст книги "Кенгуру"
Автор книги: Юз Алешковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Продолжайте наблюдение! – велел Берия.
Под утро, Коля, улетели от нас стюардессы. Улетели. Словно бы их и не было. Профессор закемарил, как убитый. Улыбается во сне, что мужчиной стал на семьдесят восьмом году жизни и слюна как у младенчика с уголка губ на казенную подушку, подаренную некогда Сталиным Бдюхеру, капает.
Я тоже уснул. Мне было, Коля,тяжело. Я ведь бедную бабу не трахнул, а всю ночь помогал ей готовнться к зачету. Давай, выпьем за белых и бурых медведей и за голубых фламинго!
Ты веришь? Целый месяц мы кантовались с почетным членом многих академий мира, лауреатом Сталинской премии, депутатом Верховного Совета СССР, академиком Боленским. И не осталось на земле таких сведений о кенгуру, которых бы я, Коля, не знал. А уж зато старикаша пошел у меня по вопросам секса и женской психологии. Под конец он у меня вслепую рисовал большие, малые и проже ихние замечательные устройства. На практических же занятиях, так сказать, загулял мой ученичок по буфету. Девки к нам, наверно, после того, как стюардессы великолепно сдали зачет, влетали теперь каждый вечер и все в разных формах и ролях. Официантки – первые в мире стукачки, шахматистки, певички, доярки, крановщицы номерных звводов, лаборантки из ящиков, вокзальные бляди, писательницы, продавщицы, кандидатки наук, слепые, глухонемые и после полиомиелита. Кидалла всех обучал, потому что был профессором закрытого секретного техникума и мы со старикашей явно понравились ему как преподаватели. Ты уж, Коля, не завидуй, пожалуйста, что тебя тогда с нами не было. Чтоб мне головку члена, которую ты упрямо и грубо называешь залупой, изрубили в мелкие кусочки на Советском пятаке, если я кинул за это время хоть одну палку. Вот если бы без сбора информации перед половым актом в плане подготовки к зачету или экзамену, тогда бы кинул. И не одну, и потягалсв бы еще с профессором. А так я не мог. Не мог – и все! Что ты меня, в конце концов, пытаешь? Почему? Почему? Потому! Сам не знаю, почему!
Особенно интересную информашку поставлял девкам профессор, вернее, половой маньяк, как однажды объявил по радио Кидалла после восьмой профессорской палки. Его любимым коньком стал, с моей легкой руки, огнетушитель. Он в него притыривал чертежи водородной бомбы, заливал напалм, закладывал долгодействующий фотоаппарат, магнитофоны, излучатели дезорганизующей энергии и тэдэ. И, конечно, Коля, передавали ему огнетушители представители всех разведок мира, включая папуасскую. По дороге профессор продавал девчонкам вымышленных сообщников: Черчилля, померших коллег, секретарей партбюро, несуществующих соседей, любовниц и даже самого Лысенку. Старикаша однажды расцеловал меня за то, что он счастлив, стоя одной ногой в могиле, иметь такого истинного и светлого учителя жизни, как я – Фан Фаныч.
Вдруг баскетболистка на карачках вошла в нашу третью комфортабельную: все же два метра десять сантиметров росту, – и понеслась тут у нее с профессором любовь. Вот это была любовь! Кидалла зарычал по радио, что если Боленский не слезет с агента по кличке «Частица черта в нас», то он тут же пойдет по делу арестованного врага народа Зои Федоровой, Но дело не в палках. Тогда две души встретились, несмотря на разновеликие тела и годы и втихую дотолковались никогда не разлучаться.
У тебя бывало так в детстве? Лежишь на раскладушке под яблоней на даче и спишь. Вдруг тебя будит котенок. А котенка тебе разрешила после говнистых слез и разбивания черепа об забор, навсегда оставить дома маменька. Ты открываешь сначала один шнифт, потом другой и думаешь, что котенок тебе приснился и стараешься не просыпаться: страшно, что серый теплый комочек – всего лишь сон. И вот ты просек, наконец, что не спишь, но тебе странно поверить, извини уж, Коля, за выражение, в реальность счастья. А счастье, милый мой, вернее, свобода, запомни навек, это – пылинка в солнечном лучике, лежащая между снами детства и ужасами жизни. Баскетболистка, в общем, берет голенького профессора здоровенными маховиками подмышки и держит над собой как котенка, и он мурлычит что-то, а она смотрит на него, тихого, странными глазами, пока амурчик из загашника достает новую стрелу. Причем профессор, как ребеночек, перестал стыдиться посторонних взглядов.
– Это они, – говорит, – псины и мусора, пускай сгорают со стыда, а я не виноват, что именно здесь счастлив соответствовать человеческому. В тот раз, кстати, я волындался, с кем бы ты, Коля, думал? Ни за что не угадаешь! Волындался я с лилипуткой из оркестра «Карельская березка». А ты-то, – говорю, – сукоедина мизерная, на кого стучишь?
– Меня, – отвечает, – многие дипломаты добиваются, чтобы потом карточками торговать в Париже, ну, а я должна узнать день и час, когда в нас водородную бомбу бросят, или всю Волгу отравят кока-колой.
Уходя от нас на карачках, баскетболистка на себе эту лилипуточку увезла. Вот только сейчас я вспомнил, что был потолок в накадей третьей комфортабельной. Был.
Сам понимаешь, расстались мы с профессором друзьями. Вери ь плакал старикаша на груди у меня перед тем, как его дернули. – Я, – говорит, – за зту неделю прожил с вашей, Фан Фаныч, помощью огромную жизнь, и не считаю, что изменил Дашеньке – ей, Коля, с баррикады в висок булыжник пролетариата, если помнишь, попал. – Мне даже кажется, что дашенькина душа невероятным образом находится в изумительном теле моей тяжелоатлетки. Я никогда не исключал подобного трансцензуса. Я ждал его. Спасибо, дорогой Фан Фаныч! Лично я, не беря с собой никого по делу, прощаю все зло мира за радость знакомства с вами и ничего не боюсь. Ни-че-го! Справедливость восторжествует!
У старикаши милого действительно страх пропал. Разделся догола, закурил сигару и ходит себе из угла в угол, лекцию мне тискает, про образ жизни кенгуру. Я ему сказал напоследок пару слов на счет торжества справедливости.
– Торжество, – говорю, – уже было, да прошло. Свечи погашены, лакеи плюгавые фазанов дожирают. А нас с вами, голодных и холодных, на том торжестве не было, нет и не будет…
4
Тоскливо мне без него стало. Тоскливо. Ласточек я велел Кидалле больше не присылать, так как мне надо организовать накопленные знания, посочинять сценарий и набросать пару версий и вариантов. Лежу целыми днями. Курю, и дымок все улетает, неизвестно куда… На солнечные часы смотрю. Окон, Коля, в камере, действительно не было, не лови меня на слове, а солнечные часы были для садизма, и черт его знает откуда бравшаяся тень показывала мне время. Тоска, падла, тоска. Почти не хаваю, «Телефункен» не включаю. От постельного белья Первой Конной воняет, от хлебушка – крова вой коллективизацией. Читаю «Гудок», он снова выходить начал, «Таймс» и «Фигаро». Кидалле по телефону говорю:
– Переведи ты меня отсюда куда-нибудь в настоящую тюрьму. Тут я чокнусь, стебанусь и поеду. Или пожар устрою. Сожгу простынки Тухачевского, стулья Орджоникидзе, указы Шверника, болтовню Троцкого, полотенце Ежова, «Три мушкетера» Бухарина, Государство и революцию» Ленина! Сукой мне быть все сожгу! За что ты меня изводишь? Хочешь, возьму на себя дела ста восьмидесяти миллионов по обвинению в измене Родине? Хочешь, гнида, самого Сталина дело на себя возьму? Не хочешь? Тогда давай пришьем ему сто девятую, злоупотребление служебным положением, и семьдесят четвертую, часть вторую: хулиганские действия, сопровождавшиеся особым цинизмом? Молчишь, мусорина поганая, фашист, трупную синеву твоих петлиц в гробу я видал. Переведи меня отсзеда в одиночку, пускай лед на стенах и днем прилечь не дают! Переведи! Печенку на бетоне отморожу, чахотку схвачу, косточки свои ревматизмом кормить буду, сапоги твои вылижу, пускай глаза мои оглохнут, уши ослепнут, кровь в говно превратиться, только переведи! Переведи меня в лед и в камень, где Первой Конной не воняет, Перекопом, правой оппозицией, коллективизацией, Папаниным на льдине, окружением бедных солдатиков, сука, причем тут я? Переведи, умоляю! Дай мне заместо пива и раков света кусочек дневного за решеткой! Я на ней сам с собой в крестики и колики играть буду, ну кому ж я мешаю? Ко-му я ме-ша-ю???
Хипежу, Коля, а сам чувствую, вот-вот чокнусь, вот-вот стебанусь, вот-вот поеду. Кидалла молчит, терпеливо выносит оскорбления в разные высокие инстанции и в круги, близкие ко взятию Зимнего. Ничего не щелкает, «Буденный целует саблю» от юного безбородого Курлы Мурлы не отодвигается, рыло надзирательское не появляется и в зубы мне маховиком не тычет. Побился я в истерике, но все бесполезно, и забылся вдруг. Под наркоз меня Кидалла бросил. Тогда я, разумеется, этого не знал.
Выхожу из наркоза обалдевший и связанный по рукам и ногам. Лежу почему-то на полу, на свежем сене, перед глазами миска сырой морковки и незнакомые веточки с листиками. Оглядываюсь. Обстановка камеры все та же. Только почему-то у Кырлы Мырлы на портрете борода стала отрастать и в шнифтах безумный блеск появился. Уставился он на меня и словно говорит: «Хватит, Фан Фаныч, мир объяснять! Надоело! Пора его, паскуду, перелицевать!»
Да, Коля, чуть не забыл! Ряд картин и фотографий исчез почему-то со стен. «По большевикам пошло рыдание», «Ужас из железа выжал стон», «У гробов Горького, Островского и других», «Сталин горько плачет над трупом Кирова», «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди», «Кулаки на Красной площади», «Маршал Жуков на белом коне» – все эти картины, Коля, и фотографии исчезли и на ихних местах появились другие. «Наше гневное НЕТ!!! – кибернетике, генетике, прибыли, сверхнаживе, джазу, папиросам „Норд“, французской булке и мещанству». Рядом «Члены политбюро занимаются самокритикой», «Жданов сжигает стихи Анны Ахматовой», «Конфискация скрипичного ключа у Шостоковичей и Прокофьевых» и немного повыше «Микоян делает сосиски на мясокомбинате имени Микояна». Я подумал, что в верхах произошли кое-какие изменения и наверняка кого-то шлепнули. Потом оказалось – предгосплана Вознесенского…
Руки у меня затекли. Дотянулся я губами до морковки. Пожевал. Понюхал листики. Щелкнуло. Слышу какие-то радостные голоса: «Ест! Ест!… А я уж хотел с женой и детьми прощаться!! Ест! Главное – нюхает! Поздравляю вас, Зиночка, с орденом Красной Звезды!» Я говорю Кидалле:
– Послушай, холодное ухо – горячая печень, если ты меня не развяжешь, то я обижусь и уйду в несознанку!
Нет ответа. Но вот наконец-то «Наше главное нет – французской булке!» отодвигается от «Иуд музыки нашей», и в камеру на цирлах входит милая, более того, Коля, прекрасная, только что-то уж очень бледная женщина, Молодая. Лет двадцать семь – тридцать пять. Волосы искрятся. Мягкие. Пышные. Русые. Близко, близко ко мне подходит. Я поневоле смотрю снизу вверх. Вижу ямочки на коленках, молока в них налить парного и лакать, и сердце у меня заходило ходуном, если бы не веревки, выскочило бы из ребер! Вижу трусики голубые, Коля, и в глазах моих потемнело от душной крови. Смотрит женщина сверху вниз на меня связанного, нежно улыбается, присела на корточки, по лицу погладила, я успел пальцы ее холодные поцеловать, и говорит:
– Ну, успокойся, милый, успокойся, хороший… Тебя любят… Тебя жалеют… Тебя в обиду никогда не дадут.
– Я, – говорю, спокоен уже, спасибо, но кто вы? И согласитесь, что связанный по рукам и ногам Фан Фаныч не может вполне соответствовать такой королеве, как вы. Вы похожи, ха-ха, на Польшу до первого раздела!
А она мне, Коля, словно глухая, опять говорит:
– И глаза у тебя как сливы лиловые в синей дымке. Я вижу в них себя. Глубоко-глубоко… На донышке колодца… Это я плещусь… Это – я… Милое, хорошее, славное, красивое животное… Губы у тебя замшевые… Уши нежные… Ноги сильные…
Что за еб твою мать, занервничав слегка, думаю и говорю:
– Развяжите меня, пожалуйста, Руки затекли и, извините, пур ля пти не мешало бы…
Смотрю – берет женщина баночку, расстегивает, вытаскивает, а он стоит, и я никак помочиться не могу.
– Послушайте, – говорю, – вы не можете ответить, до каких пор я буду связан, и передайте Кидалле, что он, псина мусорная, погорел с делом о кенгуру. Я не Рыков и не Бухарин и не Каменев, и издевательств не потерплю. Ими меня вообще не удивишь, как говяжьей кровью Микояна на мясокомбинате имени Кагановича. Помочился лежа. Делать нечего. А она снова нежно гладит меня по волосам, перебирает их и мурлычит так нежно, что понт какой-нибудь просечь в ее голосе, Коля, абсолютно невозможно.
– Милое, странное животное… Ты, наверное, скучаешь по своей Австралии… Поэтому у тебя глаза грустные… и лапы дрожаг и сердце бьется… Тук-тук-тук. ѕ ѕ Совсем, как у нас… совсем, как у нас…
Я психанул, задергался, но посвязали меня крепко, и кричу Кидалле: – Мусор! Какая каракатица ебала твою маму? Какой зверь? И жива ли вообще твоя мама? Если жива, то приведи ее в свои органы! Пусть полюбуется, как ее сыночек пьет кровь из безумной женщины и нормального человека Фан Фаныча! Приведи! Может, крови тебе моей мало? Тогда говна поешь, мочи попей, закуси моим сердцем, падаль! … А ты, – спрашиваю несчастную, потому что никаких сомнений насчет того, что она поехавшая, у меня не осталось, – ты думаешь, я – кенгуру?
Теперь, Коля, я приведу тебе полностью весь наш разговор.
– Ты думаешь, что я – кенгуру?
– Наверное, мой милый заморский друг, ты мне хочешь что-то сказать? ѕ
– Не коси, сволочь, не коси! Фан Фаныча на понт не возьмешь! Я не кенгуру! Я битая рысь и тертая россомаха!
– Только не кусайся… Ай, ай! Тете бобо… Хочешь что-то сказать и не можешь? Не можешь, бедный? Я понимаю: тебе не хочется лежать связанным. И людям это тоже не по душе. У тебя есть душа?
– Нет! – говорю вслух, – Фан Фаныч – не битая рысь. Фан Фаныч – обсосанный котенок. Битой рыси судьба не заделала бы такое крупное фуфло и не приделала бы заячьи уши! Битая рысь осталась бы в свое время в Эфиопии, а не испугалась бы итальянских фашистов и не отвалила бы на Советскую Родину. Фраер! Моральный доходяга! Лагерная параша! Парчушка рваный! Мизер! Ты мог сейчас вот, в зту секунду пить кофе с императором Селассие, а не валяться в подвалах Чека! Подонок!
– Я тебе не враг. Ты мне нравишься. Ты хо-ро-о-о-ший… Я люблю тебя гладить… Понимаю: ты кажешься себе человеком… Думаешь, я не понимаю?
– Сука! Тебя электрошоком лечить надо! Молчи, тварь, а то я тоже поеду! Молчи!
– Зачем же ты губы кусаешь? Дай, я вытру пену… Вот так… Ой! Повторяю: тете – бобо!
– Я тебя, падлу, схаваю, чтоб тебя передо мной не было! Сгинь, чертила! Сгинь!
– Успокойся… Я за ушами тебе почешу… Приятно? Ты ведь не знаешь, что мы с помощью оптических преобразователей сняли с нервных окончаний твоего гиппоталамуса человеческий образ… Бедный, В зоопарке почти все животные, кроме птиц, змей, черных пантер и орлов воображают себя похожими на людей и совершенно равнодушны к своим зеркальным отражениям… Но ты не человек. Ты – славный, грустный, сильный, злой кенгуру. Но ты не будь злым. Поешь! Не отплевывайся. Без еды ты умрешь, и тете будет тебя жалко! Тетя не хочет, чтобы ты умирал. Поешь, милый, поешь.
– Ну, Кидалла! Ну, хитооумная помесь гиены со всей блевотиной мира! Честно говоря, я тобой, псина, восхищен. Молодец! Но ты загляни, мокрота, в свою душу! Загляни! Трухаешь ведь! Не заглянешь! А знаешь, почему? Не знаешь! И я не скажу. Помучайся. По пытай меня. Но я и под пытками не скажу, почему ты трухаешь заглянуть себв в душу! Прокурора по надзору давай, гнида! Я голодовку объявляю! Требую прокурора по надзору!
– Ты ведь пятые сутки не ешь. Не хрипи, не хрипи. Я буду кормить тебя насильно. Мы не можем позволить тебе умереть.
– Убей меня, Кидалла! Я плачу и умоляю, убей! Я за одно за это до конца времен буду Бога молить, чтобы простил он тебя и успокоил! Чтобы он успокоил всех, подобных тебе. Убей! Убери женщину! Она же больная! Убей меня, Кидалла!
– Открой рот… открой… Тихо. 'Так ты голову разобьешь. Это – йод. Жжет? А ты не бейся, не бейся… Открывай, гадина рот, в конце концов! Ешь морковку, скотина проклятая! Извини, но кажется, в тиграх меньше злобы и ярости, чем в твоей кенгуриной душе! Ешь, говорю!… А-а-а! Отпусти палец, мерзавец паршивый! Отпусти сейчас же! – Развяжи, тогда отпущу. Не развяжешь, буду грызть, пока всю руку не отгрызу. Развязывай!
– Больно? И учти: каждый раз, когда ты будешь кусаться или отказываться от пищи, я буду бить тебя током. Вот так! Не нравится? А ты ешь… Не нравится? Я прибавлю ампер. Ну как? Больно? Верно: больно… Бедный зверь, ты сам себе делаешь хуже.
– Ну, суки позорные!… Дайте мне зеркальце! Дайте мне на одну только секундочку зеркальце! И если я кенгуру, то я все схаваю и еще попрошу! Дайте мне очную ставку с Фан Фанычем! А-а-а-а! Дайте мне зеркальце!
Тут, Коля, Фан Фаныча вдруг осенило, что он – фраерюга, недобитая после НЭПа, и не вертухаться надо и не прокурора по надзору звать, а косить самая пора пришла. Косить, Коля! Как Фан Фаныч мог угрохать столько нервов и здоровья, доказывая суке из Кащенки, что он человек с большой буквы, звучащий гордо? Косить, Коля, косить! Но Фан Фаныч забыл начисто, какие звуки издают кенгуру, когда им больно или голодно, холодно или опасно. Забыл! Притих Фан Фаныч, положил голову поудобней на свежее сено, плачет первый раз за пятилетку и вспоминает, но вспомнить никак не может. Отшибло память током у Фан Фаныча. Чокнутая женщина упала на тахту, умаялась, видно, и уснула, Засмотрелся Фан Фаныч на картинки «Ленин с Крупской на елке», «Изгнание питерскими рабочими дворян из Ленинграда», и тоже закемарил.
И снится ему, что спит он в теплой темноте тишины, сытый, спокойный, и ничего у него не болит, ничего ему неохота. Только вот так бы спать, спать, спать в тепле, в темноте, в тишине, спать, спать, спать. Но кто-то вдруг тормошит Фан Фаныча, толкает в бок раз, другой, будит кто-то Фан Фаныча. Вставай, мол, сукоедина, на развод, конвой замерз. Страшно невозможно. Неохота. В бок толкают, прогоняют из теплой тишины темноты на холодное, на студеное солнышко! А Фан Фаныч шевельнуться не может: руки и ноги у него затекли, и не чувствует он их совсем, совсем. Вот его выворачивают откуда-то на мертвый, белый, зябкий свет, подталкивают, отрывают силком, как корку запекшуюся отрывают от болячки, и он зубами цепляется за живую плоть, за шерстинки родимые, мягкие, и вываливается из сумки своей мамы-кенгурихи в мертвую Яузу неподалеку от дома Правительства. Сердце Фан Фаныча остановилось от ужаса, но успел он, пока летел через парапет в мертвый смрад, заорать от того же самого ужаса. «Кэ-э-э-э!» – и – проснулся. Шнифтами ворочает. Подбегает чокнутая, заглядывает в них, радуется, воды дала попить. Фан Фаныч руку ей лизнул. Ладошку теплую вылизал. Чокнутая, когда кемарила, между коленок держала ладошку. А то все холодными были у нее руки. Фан фаныч, не будь идиотом и фраером, еще раз сказал: «Кэ-э-э-э!»
– Вы слышали, товарищ Кидалла? Вы слышали?
– Слышал. Продолжайте адаптировать объект.
Фан Фаныч, мудак, хавал в этот момент морковку и заморскую веточку откусывал, губами листики срывал и от удовольствия шнифты под потолок закатывал. Почему раньше этого не сделал? Непонятно. Мудак, одним словом. И током бы не трясли, и на нервишках сэкономил бы. – Ешь, солнышко! Я тебя любить буду… я тебя развяжу, если ты перестанешь кусаться и брыкаться. Скажи еще раз свое чудесное К-Э-Э-Э!»
– К-э-э-э! – всегда пожалуйста, сказал Фан Фаныч.
– Подследственный свидетель Волынский! Соответствует звук, издаваемый подопытным объектом, одному нли нескольким звукам, обычно издаваемым кенгуру в неволе?
– Абсолютно, гражданин следователь! Абсолютно! Тембр! Модуляции! И поразительный феномен кенгуриной артикуляции губ!
– К-э-э-э! – сказвл Фан Фаныч и задергался.
– Не дергайся, милый. Развяжу… Ты запомнил, что в этой острой железке – бобо? Бобо… бобо… бобо… не кричи, а запоминай… давай-ка сначала передние лапы… Вот так… Поворачивайся. Как вспухли! Шевели пальцами, а острым когтем не вздумай царапаться. Бобо? Бобо? Бобо?
– К-э-э-э! – эх, Коля, каков это счастье, когда развязаны руки и полумертвые вены набухают кровью, и вот потекла она по высохшим моим речушкам и самым тоненьким ручейкам! Потекла, зажур чада моя единственная жизнь!
– Кэ-э-э-э! – говорю, а сам думаю: не бойся, мусорина, Фан Фаныч тебя не укусит. Он мудрый теперь. Развязывай задние лапы, паучиха. Дай-ха я туфельку твою лапой передкей поглажу, пыль с нее смахну и прилипший заморский листочек.
– Я ведь говорила, что ты хороший. Я буду звать тебя Кеном. Ладно? Как смешно. Ты топорщишь губы! И не обижайся. Ты сам виноват, что тебе было больно, упрямый Кен.
И ноги мне она, Коля, тогда освободила от веревок . Но Фан фаныч – битая все ж таки рысь – не заплясал от радости. Он на карачках прошелся по третьей комфортабельной. Голова у него закружилась, а вообщвто ничего, ходить можно. «К-э-э-э!»
Сутки целые отсыпался, отьедался овощами и фруктами и отдыхав Фан Фаныч. Ходил исключительно на карачках, терся щекой об коленки паскудины, нежно теребил губами мочку ее уха, обнюхивал всю, смешно топорщил нос. «Кэ-э-э-э!»
– Кен, ты стал совсем ручным… Ты мило лижешься… Ха-хаха! Ты очень мило лижешься! Может быть, я тебя волную? Учти, Кен, мочка уха – эрогенная зона! Ах ты, шалун! Вот я разденусь, а ты погладь меня лапкой… мурашки… мурашки… лизни мою грудь… и другую… теперь под грудью… славный, сильный, нежный кенгуру. Не кусай соски, не кусай… Язык дай, язык… О-о! Теперь ниже… Какой ты непонятливый… Ниже… Очень тебя прошу… вот здесь, где веточка. Ты хочешь самку человека? Хочешь? Вот я встану перед тобой. Смотри, как я красива… Ну же, иди… иди! Прыгни на меня! Женщина тебе даст… даст… даст… Прыгай!
Ты, Коля, конечно, считаешь, что Фан Фаныч должен был в тот момент прижать уши, раздуть ноздри, оскалить зубы и, как был, в шкуре и копытах, броситься на сексотину. Может быть, при иных обстоятельствах, в Австралии, например, и бросился бы на дебелую милую фермершу, но тогда, Коля, Фан Фаныч не мог бы повязаться с женщиной даже под угрозой, что его станут неотрывно трясти всем вместе взятым током Днепрогэс имени Ленина и Сталинградской ГЭС! Потому, что Фан Фаныча, Коля, можно заставить ходить на карачках, говорить «Кэ-э-э «, облизывать эрогенные зоны сексотских харь и жевать заморские листики, но заставить Фан Фаныча кинуть палку самке человека было невозможно. Дело не в принципах, Коля, не учи меня, пожалуйста, жить! Мне на принципы также насрать, извини за выражение, как и тебе. Я не мог трахнуть человеческую женщину. У меня на нее, хочешь верь, хочешь нет, не стоял. Я тогда хотел из-за всего, что пережил и чего навидался, кенгуру, мою живую чистую тварь, которую я изнасиловал и зверски убил в московском зоопарке в ночь с 14 июля 1789 года на 9 января 1905 года. Вот кого я хотел, Коля, потому что я, в отличие от тебя, не сексуальный монстр, а нормальный человек! Давай выпьем за муравьедов и броненосцев, в крови которых бессмертная тоска по родимым джунглям! Дай, Бог, когда-нибудь свободы ихним детям или хотя бы внукам!…
– Кэ-э-э! – говорю сексотине, а сам думаю: не видать тебе моей палочки, как своих ушей! Не видать!
Она, между прочим, не одеваясь, сказала:
– Разрешите, товарищ Кидалла, доложить? Эксперимент, проводившийся в течение семи дней, неопровержимо подтвердил нашу гипотезу о частичной, а подчас и полной адаптации подследственного к новым речевым и двигательным функциям после применения прогрессивных методов активного воздействия. Подтверждена также гипотеза о возможности прививки подследственному, во время циклической подавленности, органического самоощущения кенгуру! Мы можем считать доказанным отсутствие у подследственного прямого сексуального влечения и наоборот: наличие неосознанного желания совокупиться с адекватной психобиоструктурой.
Она докладывала, а я лежал на полу, слушал и радовался, что все страшное позади. Позади. Оделась гадюка.
– Застегните, – говорит, – гражданин, лифчик.
Я косить продолжаю с понтом, ничего не слышу. «Кэ-э-э!»
– Вы можете быть свободны, Зина. Представьте отчет и график дегенерации объекта. А ты, Тэда, давай, садись за показания. Хватит филонить. Половине человечества жрать нечего, в Индии дети от недостатка белков погибают, больших друзей Советского Союза реакция США в тюрьмы кидает, и не-хрена прохлаждаться на всем готовом, когда горит земля под ногами империализма. Понял меня?
– Кэ-э-э! – говорю и на Кырлу Мырлу кнокаю. У него борода еще гуще стала, повзрослел за эти дни. А Ильич, наоборот, лысеть начал, глаза прищуривать и в колбасных обрезках разбираться.
– Товарищ подполковник, – говорит Зиночка, тварь, – я думаю, что быстрая регенерация нежелательна.
– Вы плохо знаете эту бестию, не верю я в его искренность, лейтенант, виноват, старший лейтенант, но ладно, пусть отходит. Завтра я его расшевелю. Отдыхайте.
«Гитлер выпивает яд» – картина Кукрыниксов отъезжает, Коля, от «Сталин обнимает Мао», и тут я приноровился и задней ногой такого выдал старшему лейтенанту поджопника, что она, наверное, как волк из «Ну, погоди» летела от Лубянки до площади Революции. А стена сдвинулась. Жду. Но никто за мной не канает и не волокет в кандей. Включаю Телефункен. Давно не слушал родимых последних известий. Странно все-таки было мне, Коля, что доброй славой среди своих земляков пользуется молотобоец, член Горсовета Владлен Мытищев, когда труженики Омской области сдали государству на 10 000 пудов больше, ибо выборы народных судей и народных заседателей прошли в обстановке невиданного всенародного подъема, а партия сказала «надо!» и народ ответил: «будет!», следовательно термитчица коврового цеха Шевелева, протестуя против происков сторонников нового аншлюса, заявила советским композиторам: «Так держать!»… Подписка на заем развития народного хозяйства минус освоение лесозащитных полос привело канал Волго-Дон на гора доброй славой досрочно встали на трудовую вахту день пограничника фельетон обречен на провал Эренбург забота о снижении цен простых людей доброй воли и лично товарища руки прочь…
У меня, Коля, от этих последних известий, читал Юрий Левитан, нету более проститутского, заблеванного ложью, гунявого рта на всей планете, мозги встали раком от последних известий. Но почему бы, Коля, почему, ответь мне, не заработать тогда всем радиостанциям Советского Союза, почему бы не передать Юрию Левитану своим проститутским басом, которым он вылизывал Сталину задницу по двадцать раз на день и потом проклинал его же мертвого, сообщение ТАСС о проведении органами государственной безопасности выдающегося эксперимента, в ходе которого были получены доказательства возможности направленной дегенерации высшей нервной деятельности человека и регенерации в его мозгу впервые в исто-ри-и импульсов самоощущения особи другого вида! Эксперимент проводился на гражданине Советского Союза Мартышкине! Чувствует себя гадина и проказа изумительно антисоветская рожа пульс давление не оказывали артиллерийским залпом в городах-героях! Слава передовой Со-вет-ской на-уке! Почему, Коля, Юрий Левитан не передал такого важного, исторического, можно сказать, сообщения? Пускай бы молотобоец Мытищев и борец за мир Эренбург узнали, как у меня сердце перехватило от страха при виде безумной женщины в белом халате, и как оно, слабея, почуяло, что, наверное, не одолеет всенародный подъем в день пограничника. И пускай бы народные заседатели дотронулись языками до острой железки-бобо, которой трясли мое тельце, тельце, тельце, тельце, тельце, тельце, тельце, тельце, тельце, спасибо, милый Коля, что оклематься помог, спасибо, током, и пускай бы народные судьи превратились вместе с термитчицей горячего цеха на миг в побитое животное кенгуру и побито жевали бы заморские листочки и выблевывали бы их на казенный пол третьей комфортабельной вместе с застрявшими в бронхах оетатками человеческой души, а потом подписались бы на заем развития народного хощяйства… Ладно. Душа из него вон, из этого гунявого существа Левитана Юрия. Отодвигается вдруг, Коля, «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди» от «Кого уж никак нельзя заподозрить в симпатиях», и в камеру мою рыбкой влетает курчавый смешной человек. Стукается лбом об «Утро на заре рассвета рабочего движения в Москве», садится на Телефункен», хватается за голову и говорит:
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?
Набираю ногтем твой номер, Коля, и говорю Кидалле:
– Докладывает рядовой МГБ Тэдщ, он же кенгуру Кен. Регенерация прошла успешно. Чувствую себя человеком. Наблюдаю усиленный рост бороды на лице гражданина Кырлы Мырлы, с которым в преступном сговоре переделать мир никогда не состоял, первый раз вижу. Всегда готов встать с головы на ноги. Посвящаю себя столетию со дня рождения и смерти Маленкова. Ура-а-а-а!
– Я же тебе сказал, фашистское отродье, – отвечает Кидалла, что этот телефон исключительно для внутренних раздумий и сомнений. Органам и так известно, что с тобой происходит. Не забывай о процессе. Ты хотел познакомиться с низкопоклонником Норберта Винера Карцером. Карцер перед тобой.
– Ах, значит, это вы господин-гражданин Карцер, – говорю я смешному курчавожу человеку с глазами барана, прибывшего на мясокомбинат имени мясояна. – Гутен морген, шолом-алейхем, гражданин-господин Карцер. Кто вам помогал забыть Ивана, не помнящего родства? А? – Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – уставившись бараньими глазами в «Позволительно спросить братьев Олсоп», бормочет Карцер. – Встаньте, – говорю, – и сядьте на стул, не превращайтесь в утконоса, он же сумчатый гусь-лебедь. Стыдно!
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – долдонит и долдонит Карцер, а я говорю:
– Послушайте, нельзя задавать органам таких вопросов. Вообще никаких вопросов не надо задавать! Иначе быть беде! Вы член кассы взаимопомощи? – Я решил, Коля, что Карцеру необходимо побыть в моей шкуре,
– Естественно. Кто в наше время не член кассы взаимопомощи? – вдруг, ожимши, отвечает Карцер.
– Когда последний раз брали ссуду?
– Перед женским днем.
– Сколько?
– Две тысячи, а что?
– Фамилия?
– Карцер.
– Который?
– Валерий Чкалович. Папа изменил мое отчество в знак уважения к великому летчику.
– Итак: перед женским днем вы, Валерий Чкалович, недовольные тем, что за подписку на заем с вас выдрали всю получку, растерзали прогрессивку и расстреляли квартальные, получили ссуду в две тысячи рублей. С рассрочкой?
– До дня медицинского работника.
– Вам известно, что за деньги находились в кассе взаимопомощи вашей секретной лаборатории?
– Очевидно, бывшие в обороте кассы.
– Чем пахнут, по вашему, деньги?
– По-моему, ничем. А что вас все-таки интересует?








