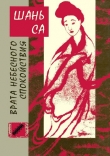Текст книги "Десять слов про Китай"
Автор книги: Юй Хуа
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Чтение
Я вырос в эпоху без книг, поэтому даже не знаю, как пристрастился к чтению. Мне вспоминается четыре истории на эту тему.
Первая произошла во время летних каникул, когда я окончил начальную школу. Наверно, это был 1973 год – седьмой год культурной революции. Сходили на нет казавшиеся нам бесконечными кровавая борьба и варварские обыски, которые «революционная молодежь» могла устроить в любом доме – она устала. В нашем городке установилось тягостное, удушливое затишье. Люди стали трусливее и осмотрительнее. Радио и газеты по-прежнему кричали о классовой борьбе, но я давно уже не видел классовых врагов.
Опять открылась городская библиотека. Отец достал нам с братом один читательский билет на двоих, чтобы нам было чем заняться на каникулах. С тех пор я полюбил литературу. В тогдашнем Китае почти все художественные произведения считались «ядовитыми сорняками». Иностранные классики Шекспир, Толстой, Бальзак – сорняки; современные китайские писатели Ба Цзинь, Лао Шэ, Шэнь Цунвэнь – тоже; из-за того что Мао поссорился с Хрущевым, и советская литература представляла собой сплошные заросли сорняков. Сорняки решительно выпалывались, так что от некогда богатого собрания романов осталось немногим более двадцати книг – «отечественная социалистическая революционная литература». Я прочел их от корки до корки: «Солнце в небе», «Светлый путь», «Заводь Бычьего поля», «Война в уезде Южной Радуги», «Новый мост», «Тучи над рудником», «Снега и вёсны», «Сияет красная звезда»… Больше всего мне нравились «Сияет красная звезда» и «Тучи над рудником» – по той простой причине, что там действовали дети.
Это чтение не оставило у меня никаких воспоминаний. Я не увидел ни чувств, ни персонажей, ни даже сюжетов, а одну только нудно описанную классовую борьбу. Тем не менее я читал эти опусы с увлечением, потому что моя собственная жизнь была еще нуднее. На безрыбье и рак рыба.
Осенью 2002 года в Берлине я познакомился с пожилой супружеской парой, китаеведами. Когда разговор зашел о голоде в Китае в начале шестидесятых, они поведали мне историю времен учебы в Пекинском университете. Муж по семейным обстоятельствам досрочно вернулся в Германию. Через два месяца он получил от жены ужасное письмо: на территории университета студенты объели с деревьев все листья. Так же и я глодал социалистическую литературу, и еще неизвестно, что переваривалось легче.
Я помню библиотекаршу средних лет, очень серьезно относившуюся к своему делу. Только убедившись, что мы с братом сдаем книги в полной сохранности, она выдавала нам новые. Однажды она обнаружила на обложке кляксу. Мы утверждали, что так и было, она не верила: она проверяет все книги и не могла не заметить такого явного дефекта. Спор перешел в крик. Крик тогда считался «гражданской» (то есть словесной) борьбой, а у моего брата-хунвейбина руки чесались заняться «военной». Он швырнул книгу ей в лицо, а потом еще и залепил пощечину.
Мы втроем пошли в полицейский участок. Она сидела и плакала, а брат как ни в чем не бывало расхаживал по комнате. Начальник участка как мог утешил библиотекаршу, отчитал моего распоясавшегося братца и велел ему сесть.
Тот приземлился на стул, залихватски положив ногу на ногу.
Начальник участка дружил с нашим отцом.
Как-то я попросил его научить меня приемчикам. Он смерил взглядом мою тщедушную фигурку и посоветовал, когда противник потеряет бдительность, лягнуть его в пах. Я спросил: «А если это женщина?» Он строго ответил: «Женщин бить нельзя».
Из-за хунвейбинских действий брата мы лишились читательского билета. Я не так уж огорчился, потому что давно взял от библиотеки все, что мог. Но до конца каникул оставалось еще много времени, а я уже подсел на книги.
Дома, кроме десятка родительских пособий по медицине, имелись четыре тома «Избранного» Мао Цзэдуна и «бесценная красная книжка», то есть «Изречения председателя Мао». Все изречения были избраны из «Избранного». Я вяло полистал их в слабой надежде получить удовольствие от чтения, но ничего не вышло.
Я стал бродить по улицам в поисках литературы, как голодный рыщет в поисках пропитания. Когда на раскаленной летним солнцем дороге мне попадался знакомый мальчишка, одетый, как и я, в майку, трусы и тапки, я кричал ему: «Эй, у вас дома есть книги?»
От такого необычного вопроса у всех удивленно вытягивались лица, но отвечали они утвердительно. Однако радость оказывалась преждевременной: это был все тот же непочатый четырехтомник Мао Цзэдуна. Тогда, если очередные приятели говорили, что у них есть книги, я уточнял: «Четыре тома?» – и для верности показывал четыре пальца. Если они кивали, я спрашивал: «Новые?» – и когда они кивали еще раз, в отчаянии бормотал: «Опять „Избранное“». Потом я усовершенствовал метод – выяснял все одной фразой: «Старые книги есть?»
Тут уж никто не кивал. Только один мальчик поморгал и ответил, что вроде есть. Я спросил: «Четыре?» Он сказал: «Вроде одна». Я подумал, что это цитатник. «Обложка красная?» – «Вроде серая».
В моей душе затеплилась надежда. В то же время трижды произнесенное слово «вроде» внушало беспокойство. Я положил свою потную руку на его не менее потное плечо, и мы зашагали к нему домой. По пути я опутывал его льстивыми, коварными речами, поэтому, как только мы вошли, он сразу сбегал за табуреткой, услужливо обшарил платяной шкаф сверху донизу и вытащил из его глубин серую книжку. Уже ее небольшие размеры предвещали недоброе. И конечно – сдув с нее толстый слой пыли, я обнаружил красную пластмассовую обложку бесценного цитатника.
Пришлось вернуться домой и приступить к поиску скрытых резервов. Я проглядел медицинские справочники, но не обнаружил там ничего стоящего. О том, что и в них можно найти кое-что очень интересное, я догадался только через два года. Когда я отложил медицину в сторону, остались только потрепанные «Изречения» и новенькое «Избранное». Так было и в других семьях: «Изречения» заучивали каждый день, а собрание сочинений служило украшением интерьера.
Я взял первый том «Избранного». На этот раз я читал очень внимательно и вскоре открыл новый материк – чрезвычайно увлекательные примечания. С тех пор я не выпускал этой книги из рук.
Тогда летом ужинали на улице. Сначала выплескивали на землю несколько тазов воды, чтобы прибить пыль и сделать воздух прохладнее, потом выносили столы и табуретки. Во время ужина дети ходили туда-сюда с плошками, ели и глазели, что едят другие. Я все съедал очень быстро, бросал палочки, хватал том Мао Цзэдуна и жадно читал до темноты.
На соседей это производило прекрасное впечатление: такой юный и так усердно штудирует труды председателя Мао! Их похвалы страшно радовали родителей. Они стали шептаться, что, если бы не культурная революция, лишающая их младшего сына образования, он мог бы выучиться на профессора.
На самом деле я вовсе не штудировал труды председателя Мао – все свое внимание я уделял примечаниям, оказавшимся гораздо интереснее литературы из городской библиотеки. В них рассказывалось об исторических событиях и фигурах, то есть, хотя и не было чувств, имелись в наличии и сюжеты, и персонажи.
Второй случай, пристрастивший меня к чтению, произошел, когда я учился в школе средней ступени. Я познакомился с «ядовитыми сорняками». Очевидно, настоящие любители литературы как-то сумели уберечь эти книги от костра, а потом люди стали тайно передавать их друг другу. До того как попасть ко мне, они побывали в руках, наверно, тысячи людей. Ни одна не дошла до меня в целом виде – все были без обложек, с вырванными первыми и последними страницами. Поэтому я не знал ни названий, ни начал и концов.
Конечно, мне не давали покоя неизвестные развязки. Я носился по городу как угорелый и искал тех, кто знает, чем кончается книга. Но таких людей не находилось – ведь они читали такие же рваные книги, что и я. Иногда они пересказывали несколько страниц, до меня уже не дошедших.
Я кипел негодованием на предыдущих неаккуратных читателей – но сам выпавшие страницы не подклеивал.
Поскольку никто не мог прекратить мои мученья, оставалось только придумывать концовки самому. Как поется в «Интернационале»: «Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой – добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Каждый вечер, когда гасили лампу, я лежал с закрытыми глазами и сочинял концовки прочитанных накануне книг. Собственное творчество трогало меня до слез.
Теперь-то я безмерно признателен людям, вырывавшим до меня страницы, – благодаря им я развил воображение и стал писателем.
Первый попавший мне в руки иностранный роман был, как всегда, без начала и конца, без автора и названия. Зато в нем имелись увлекательнейшие эротические сцены, которые я читал, нервно озираясь.
Когда культурную революцию отменили, литература вышла из подполья. Полки книжных магазинов ломились от новых изданий. Я покупал их пачками и в числе прочего приобрел роман Мопассана «Жизнь». Однажды вечером я раскрыл его в постели и, прочитав на треть, воскликнул: «Так вот что это было!»
Единственным «сорняком», который в свое время попал мне в руки с вершками и корешками, была переписанная от руки «Дама с камелиями» Дюма-сына. (Правда, из нее для краткости выкинули середину – но я узнал об этом, только когда годы спустя купил настоящее издание.) Великий вождь Мао Цзэдун как раз скончался, и на его месте ненадолго обосновался мудрый вождь Хуа Гофэн. Однажды одноклассник отозвал меня в сторону и шепнул, что раздобыл потрясающую книгу. Оглядевшись, он добавил: «Про любовь!»
У меня радостно заколотилось сердце. Мы вприпрыжку понеслись к нему домой. Он, запыхавшись, вынул из сумки обернутую в мелованную бумагу рукописную «Даму с камелиями». Когда он гордо раскрыл сверток, я обомлел: глянцевая мелованная бумага оказалась портретом Хуа Гофэна. У меня вырвалось: «Ах ты, контрреволюционер!» Он испугался: «Это тот, кто мне ее дал, контрреволюционер!» Мы стали думать, что делать с помятым вождем. Товарищ хотел выбросить его в реку, но я предложил вариант надежнее – сжечь.
Когда от Хуа Гофэна не осталось и кучки пепла, мы принялись разглядывать книгу. На самом деле это была тетрадь – в обложке из пергаментной бумаги, исписанная каллиграфическим почерком. Приятелю дали ее только на один день. Мы углубились в чтение, время от времени стукаясь головами. Скоро стало ясно, что эта не такая уж толстая книга намного превосходит все, что мы читали раньше. Мы не пожелали с ней расставаться и решили переписать ее.
Одноклассник взял у отца со стола чистую тетрадь, тоже в пергаментной обложке, и мы спешно приступили к делу, сменяя друг друга, когда немела рука. Перед возвращением родителей с работы понадобилось найти другое безопасное место. Ничего безопаснее школьного класса мы не придумали.
Школа старшей ступени занимала второй этаж, средней ступени – первый. Все двери запирались, но всегда оставались одно-два плохо закрытых окна. Мы нащупали разболтанную задвижку и через подоконник перелезли в чужой класс, где и продолжили свое занятие. Стемнело, мы зажгли свет. В животе урчало от голода. Нас одолевала усталость. Мы сдвинули парты и спали на них по очереди. Однако теперь меняться приходилось не каждые полчаса, а каждые пять минут. Поэтому не успевал один задремать, как другой его будил. Наконец великий труд был завершен. Мы вылезли наружу и в предрассветных сумерках, зевая, поплелись домой. Перед расставанием друг благородно отдал рукопись мне, чтобы я прочитал первым. Сам он еще должен был пойти вернуть хозяину исходный текст.
Родители еще спали. Я смолотил оставленный на столе остывший ужин и завалился в койку. Через мгновение меня растолкал отец и грозно спросил, где я шлялся. Я что-то пролепетал, повернулся на другой бок и уснул.
Проснулся я только в полдень и вместо школы принялся читать «Даму с камелиями». Оказалось, что сначала мы переписывали ее довольно разборчиво, но потом иероглифы пошли вкривь и вкось. Свои каракули я еще разбирал, но каляки моего друга расшифровке не поддавались. В конце концов я разозлился, засунул манускрипт за пазуху и отправился на школьный двор.
Друг в одиночестве играл в баскетбол. Когда я окликнул его страшным голосом, он вздрогнул и покрылся потом. «А ну, иди сюда!» – сурово сказал я. По моему виду он наверняка подумал, что его будут бить. Он с силой ударил мячом о землю, сжал кулаки и подошел: «Чего надо?» Я вынул из-за пазухи тетрадку, провел ею перед его носом и убрал обратно: «Парень, что ты тут намарал?»
Тут он просек, в чем дело, утер пот, с облегчением хмыкнул и направился за мной в заросли бамбука. Я продолжил читать, то и дело спрашивая его: «А это что за каляки?» Так, через пень-колоду, я дочитал «Даму с камелиями» до конца. Но герои книги жили в моем сердце, я не успел ею натешиться и отдавал товарищу со слезами на глазах.
Вечером меня поднял из кровати страшный крик. Товарищ, в свою очередь, не понявший моих каракуль, пришел ко мне под окна за возмездием. Пришлось мне вылезти из-под одеяла, встать с ним под первый попавшийся фонарь и оказывать взволнованному литературными перипетиями товарищу услуги по дешифровке текста.
Третья история – про чтение на улице. Я говорю о дацзыбао, преобразивших облик нашего городка. Во времена культурной революции срыв дацзыбао приравнивался к контрреволюции, поэтому новые дацзыбао наклеивали на старые. В результате наши улицы словно оделись в толстые ватники.
Ранних дацзыбао я не читал – тогда я только пошел в первый класс и разбирал разве что заголовки, да и те с трудом. В этом возрасте меня в первую очередь интересовала «воинственная борьба». Замирая от страха, я смотрел, как дерутся на улицах взрослые – размахивают палками и с криком «Клянусь до последнего вздоха защищать великого вождя и учителя Мао Цзэдуна» разбивают друг другу голову в кровь – и никак не мог взять в толк, чего же они не поделили, если хотят одного и того же: оберегать председателя Мао.
По трусости я наблюдал за потасовками издали. Стоило соперникам в пылу драки приблизиться ко мне, как я тут же отбегал, держась от них на расстоянии выстрела. Брат, старше меня на два года, ничего не боялся и любовался боем вблизи, уперев руки в боки.
Это повсеместное зрелище мы называли «черно-белым кино», а через несколько лет перешли на более современное выражение «широкий формат».
В средних классах школы я увлекся чтением дацзыбао. К 1975 году, на заключительном этапе культурной революции, уличный мордобой сменился удушливой скукой. Бурное «черно-белое кино», напоминавшее голливудские боевики, нравилось нам гораздо больше, чем тихое «широкоформатное», похожее скорее на европейский «артхаус» со стоп-кадрами и плавным движением камеры.
Я закрываю глаза и вижу себя, каким был тридцать лет назад: мальчик в латаной одежде и протертых кедах китайской марки «Два мяча», с ветхой книжной сумкой наперевес, после уроков бредет по улице, обклеенной стенгазетами.
На этом выцветшем кадре из кинопленки моей памяти запечатлен тот момент, когда я полюбил дацзыбао. Как и европейский «артхаус», последние годы культурной революции требовали от человека неторопливого художественного восприятия. Вооружившись им, можно было в самых непритязательных, казалось бы, вещах, разглядеть потрясающие воображение подробности.
Вообще-то к 1975 году люди потеряли интерес к стенгазетам. Их не перестали наклеивать, но перестали читать. Я, как и остальные, скользил по этим уличным обоям безразличным взглядом, пока благодаря одной замечательной карикатуре не открыл новый материк в мире чтения.
Это была весьма криво нарисованная кровать, на которой сидела раскрашенная всеми цветами радуги парочка. Я впервые увидел мужчину и женщину, изображенных сидящими на кровати, а не стоящими в горделивых позах, как на плакатах. В революционной стенгазете эта картинка могла означать только увлекательнейшие сексуальные разоблачения, и я немедленно погрузился в чтение.
Ни одно дацзыбао я не читал так прилежно. В нем излагалась обильно сдобренная изречениями председателя Мао и высокоидейными лозунгами история двух любовников из нашего городка. Под карикатурой указывались их имена и фамилии. Хотя прямых сексуальных описаний я не нашел, но утлый челн эротических фантазий уже носился по бурному морю моего воображения.
Я помчался пересказывать эту историю, украшенную дополнительными подробностями, близким товарищам, которые слушали меня развесив уши. Затем мы поспешили, каждый своими путями, выяснить домашний адрес и место работы наших развратников.
Через несколько дней дело было сделано. Онжил в старом переулке в западной части города. В конце концов мы подкараулили его у дома. Он мрачно зыркнул на нас, но ничего не сказал и скрылся за дверью. Онаработала за городом, в поселковом магазине, в шести-семи километрах от нас. Как-то в воскресенье мы всем скопом туда притащились и обнаружили сразу трех продавщиц. Пошептавшись у входа, мы пришли к единодушному мнению, что никто из них не блещет красотой. Тогда мы громко выкрикнули обозначенное в дацзыбао имя и, когда одна из девушек за прилавком испуганно обернулась, с хохотом убежали.
Это точный снимок той омертвляюще скучной жизни, которую мы тогда вели. Узнав, как выглядят стенгазетные герои, мы радовались неделями.
В дацзыбао конца культурной революции, среди изречений Мао, цитат из классика новой китайской литературы Лу Синя и списанных из газет революционных лозунгов, проскальзывали и постельные темы. Обвинение в «моральном разложении» стало самым удобным приемом для взаимных нападок. Каждый день по дороге из школы я зорко оглядывал стены: не появилось ли нового дацзыбао с новой «клубничкой»?
Интересные строчки приходилось собирать по крупицам, порой они не появлялись по нескольку дней, и мои товарищи скоро утратили азарт. Что за прибыль часами пялиться в дацзыбао, чтобы найти одни туманные намеки? Им больше нравились расцвеченные мною пересказы. Поэтому они всячески поощряли мои изыскания и каждое утро перед уроками спрашивали на ухо: «Ну как, есть новенькое?»
Самой удачной находкой стала история о связи между незамужней девушкой и женатым мужчиной, изобиловавшая подробностями, взятыми из их собственноручных признаний.
Сначала девушка увидела, как мужчина стирает у колодца. Его жена работала далеко от дома и приезжала в отпуск на один месяц в году. Девушка изъявила желание стирать для соседа. Трусы его она на первых порах откладывала в сторону, а потом перестала. Затем в симфонии их любви вступление сменилось менуэтом: девушка начала одалживать у мужчины книги и регулярно обсуждать с ним содержание прочитанного в его спальне. Симфония оказалась патетической: они вступили в связь и на третий раз были схвачены с поличным.
На излете культурной революции борьба с идеями превратилась в борьбу с прелюбодеями. У некоторых людей подавленная сексуальность переходила в стремление отлавливать «морально опустившихся». Их долго выслеживали и наконец вламывались к ним в дом и застигали на месте преступления.
В признании девушки меня поразила фраза о том, что после первого раза она «не могла сесть». Вечером я собрал друзей на берегу реки и под сенью шелестящих ив задал им вопрос:
– Знаете, что бывает после того, как девушка займется этим с мужчиной?
– Что? – спросили они охрипшими голосами.
– Она не может сесть!
– Почему?
Я и сам не знал почему, но не растерялся:
– Вот женитесь – узнаете.
Таким образом, дацзыбао послужили мне первым пособием по половому просвещению. Однако с главным эротическим сочинением своей жизни я познакомился не на улице, а дома.
Родители были врачами, мы жили в общежитии при больнице. На каждом из двух его этажей имелось по шесть комнат. Мы, в отличие от остальных семей, занимали целых две. Наша с братом спальня располагалась внизу, а родительская наверху. У родителей была книжная полка с десятком книг по медицине.
Мы с братом по очереди убирали в верхней комнате. Множество раз я лениво протирал пыль на книжной полке, не догадываясь, какое она скрывает сокровище. Как помнит читатель, в год окончания начальной школы я просмотрел все наши книги, но и тогда не обнаружил главного.
А брат обнаружил. Тогда я учился во втором классе школы средней ступени, а брат – во втором классе старшей ступени. В часы, когда папа с мамой были на работе, он начал приводить в дом мальчиков из школы. Они проскальзывали наверх, после чего оттуда раздавались подозрительные звуки.
Я понял, что дело нечисто. Но когда я к ним поднимался, то ничего особенного не обнаруживал: они болтали и смеялись, как обычно. Едва я уходил, звуки возобновлялись. Это продолжалось не менее двух месяцев. Паломничество в родительскую спальню не прекращалось, вероятно, там побывали все мальчики из братнего класса.
Я ни секунды не сомневался, что от меня что-то скрывают. Когда настала моя очередь наводить порядок, я, как сыщик, обыскал каждую щель, но ничего не нашел. Потом меня осенила догадка, что в медицинские книги, наверное, что-то вложено. Я перелистал их все страница за страницей. Наконец в «Анатомии человека» передо мной раскрылся цветной разворот с женской репродуктивной системой. Я ошарашенно уставился в него, а потом, не приходя в сознание, во всех подробностях изучил рисунки и пояснения.
Может быть, я даже вскрикнул от изумления. Не знаю, в тот миг я был не в себе. Но все мальчики из нашего второго класса средней ступени, устремившиеся в родительскую спальню по тропе, проторенной их старшими товарищами из второго класса старшей ступени, не могли сдержать потрясенных восклицаний.
Четвертая история произошла в 1977 году. Когда культурная революция закончилась, бывшие «ядовитые сорняки», то есть запрещенные книги, стали переиздавать. В нашем городке появились Толстой, Бальзак и Диккенс – и произвели в нем такой же фурор, какой в наши дни вызывает появление эстрадной звезды в бедном селенье. Так как книг поначалу не хватало, на дверях магазина вывесили объявление, что книги будут продаваться по талонам, по две в руки.
Яживо помню величественную очередь из двух сотен человек, которая выстроилась перед книжным. Некоторые пришли еще накануне вечером со своими табуретками. Явившиеся на рассвете быстро поняли, что ничего им не достанется. Но надежда умирает последней, и они продолжали стоять.
Я был среди этих несчастных. Правой рукой я придерживал в кармане пять юаней – по тем временам гигантские для меня деньги, поэтому в магазин мчался, перекосившись на левую сторону. Я наивно думал, что окажусь в числе первых, но, добежав, с ужасом осознал, что передо мной стоит человек триста. Хвост продолжал расти, я слышал, как подоспевшие люди обиженно переговариваются: «Рано встал, а все проспал». К рассвету очередь разделилась на партии выспавшихся и невыспавшихся. Первые обсуждали, какие две книги покупать. Вторые – сколько выдадут талонов. Передние полагали, что сто, средние – что двести, задние – что еще больше. Кто-то даже крикнул, что дадут пятьсот талонов, но этому никто не поверил: если на триста человек очереди дают целых пятьсот талонов, значит, зря стояли?
Ровно в семь двери книжного медленно растворились. Я ощутил торжественность минуты. Ободранные двери показались мне прекрасным театральным занавесом, а вышедший к нам работник магазина – шикарным конферансье. Конферансье открыл рот и произнес: «Выдаем пятьдесят талонов, остальные могут не стоять».
На нас словно вылили ушат холодной воды. Кто-то плюнул и ушел, кто-то молча досадовал, кто-то ругался. Я остался на своем месте и, все так же сжимая свои пять юаней, скорбно смотрел, как счастливцы, улыбаясь во весь рот, направляются за талонами. Конечно, для них чем меньше талонов, тем лучше – значит, правильно делали, что не спали.
Вскоре они начали выходить наружу с трофеями. Мы находили знакомых – гордых обладателей книг, собирались вокруг и завистливо любовались обложками «Анны Карениной», «Отца Горио» и «Дэвида Копперфилда». Некоторые щедрые люди раскрывали их и давали желающим ощутить одуряющий запах свежей типографской краски. Так я впервые в жизни понюхал новые книги.
Помню, как ругались себе под нос те, кто чуть-чуть не достоялся. То ли они бранили самих себя, то ли кого-то еще. Им было еще обиднее, чем нам: как гласит китайская пословица, жареная утка улетела у них из-под носа. Особенно страдал пятьдесят первый. Он уже поставил было ногу на порог магазина, но тут ему преградили путь и заявили, что талоны кончились. Он недоуменно застыл на мгновение, а потом отошел в сторону и, не выпуская из-под мышки табуретку, с каменным лицом смотрел, как его впереди стоящие собратья по очереди выходят из магазина с книгами, а мы собираемся вокруг них, нюхаем и щупаем. В его молчании было что-то странное. Я несколько раз на него оборачивался.
Потом я слышал, что накануне рокового дня он до поздней ночи резался с друзьями в карты, после чего явился с табуреткой к магазину и просидел там до рассвета. Еще долго, встречая знакомых, он говорил им: «Зря я последний кон сыграл – иначе успел бы».
На какое-то время выражение «пятьдесят первый» стало у нас нарицательным. Оно означало, что кому-то сегодня не повезло.
Прошло тридцать лет, и теперь книг не то что не хватает, а даже слишком много. Сейчас в Китае в год издается более двухсот тысяч наименований. Раньше покупать было нечего. Теперь мы не знаем, что покупать. Интернет-магазины продают книги со скидкой, по их стопам идут и обычные книжные. Книгами торгуют и в супермаркетах, и в киосках с прессой, и даже разносчики – последние пиратскими изданиями, причем не только на китайском, но с некоторых пор еще и на английском.
Ежегодно в Пекине устраиваются книжные ярмарки, в современном Китае они заменяют традиционные храмовые праздники. Сплошной чередой идут семинары по классической литературе, демонстрации народных обычаев, фотовыставки, бесплатные киносеансы, выступления эстрадных коллективов, танцы, фокусы, показы мод. Банки, компании, торгующие страховками, ценными бумагами и фондами, пользуясь случаем, рекламируют свои услуги. Оглушительно гремит из динамиков музыка, прерываемая объявлениями о поисках потерявшихся посетителей, подписывают книги авторы, щупают пульс и раздают во все стороны рецепты китайские врачи-травники.
Как-то несколько лет назад подписывал там книги и я. Динамики гремели, словно станки в цеху. Вокруг меня из-под шатких навесов в громкоговорители расхваливали свой товар торговцы, словно они стояли на базаре с мясом, птицей или овощами. Книги стоимостью в несколько сотен юаней каждая продавались кипами за бесценок. Стоило одному продавцу крикнуть «Двадцать юаней», как сосед орал в ответ: «Даром, даром – классики по десять юаней пачка!»
Кто-то вздохнул: «Словно торгуем не книгами, а макулатурой». И продавцы тут же начали зазывать народ криками: «Налетай! Достояние культуры по цене макулатуры!»
Хотя в тот день тридцать лет назад я остался с пустыми руками, но уже через несколько месяцев мои полки наполнились новыми книгами. Теперь я читал не урывками, а с толком и расстановкой.
Однажды меня спросили: «Что вам дали книги, прочитанные за тридцать лет?» Ответ на этот вопрос был бы бескрайним как море. Поэтому я промолчал.
В одном из эссе я так описал свой читательский опыт: «Великие литературные произведения всегда звали меня за собой в путь. Я, словно робкий ребенок, брался за край их одежды и шел за ними вслед по бесконечной реке времени. Возвращался я из этих увлекательных путешествий в одиночку, но дома обнаруживал, что вожатые остались со мной навсегда».
В сентябре 2006 года мы с женой, гуляя по Дюссельдорфу, набрели на дом Гейне. Соседние дома были красные, а он – черный и, казалось, еще стариннее, чем они. Словно дедушка, стоящий среди сыновей на выцветшей фотографии.
И тут я вспомнил случай из детства, произошедший в нашей больнице.
Я уже рассказывал, что мы жили в больничном общежитии. Тогда городских служащих обычно селили на той же территории, где они работали. Поэтому я знал нашу больницу как свои пять пальцев. Я заходил в ординаторскую, протирал руки несколькими ватками со спиртом и шел дальше в коридоры, где беседовал со старыми больными и знакомился с новыми. Мылся я тогда редко, но протирал руки спиртом не меньше десяти раз на дню, наверное, это были самые чистые руки в мире. Наша больница благоухала лизолом. Мои одноклассники сказали бы «воняла», но мне этот запах нравился: я считал, что он обеззараживает легкие. Я и сейчас вспоминаю его с удовольствием – ведь это аромат детства.
Отец был хирургом. Мы с братом часто играли рядом с его операционной. Особенно мы любили бегать между прохладными свежевыстиранными простынями, которые в солнечные дни развешивали на огромной площадке перед больницей.
Светлые воспоминания первых лет! Но они запятнаны кровью. Я часто видел, как отец выходит после операции в окровавленном халате и маске. Неподалеку был пруд. Сестры опорожняли туда ведра с какими-то красными внутренностями, вырезанными из пациентов. Летом пруд источал зловоние. Его сплошным ковром покрывали мухи.
В общежитии не было канализации, мы пользовались стоящим напротив туалетом без дверей. К нему вплотную прилегал наш морг, тоже без дверей. По дороге в туалет я часто заглядывал в чисто подметенный морг и видел там цементную лежанку под окном, за которым покачивались листья. Место дышало спокойствием. Помню, что в этом углу листва на деревьях отличалась особенной пышностью. Интересно, из-за туалета или морга?
Почти десять лет я слышал оттуда плач по покойникам. Все они перед кремацией останавливались под нашими окнами, как путешественники в гостинице. Почти десять лет меня ночами будил плач родственников. Порой, особенно под утро, их разрывающие сердце рыдания напоминали заунывную песню. В те годы я узнал, что в основном люди умирают ночью.
Летом стояла страшная жара, во время полуденного отдыха я просыпался и обнаруживал на циновке мокрый отпечаток собственного тела. Иногда от пота смуглая кожа становилась белой.
Как-то я прокрался в морг, куда раньше заглядывал лишь снаружи. Там царила освежающая прохлада. Я залез на лежанку и сразу уснул. С тех пор в жаркие дни я забирался в морг. В блаженных сновидениях мне чудились прекрасные цветы. Чертей я не боялся – из нас растили убежденных атеистов. Правда, иногда погребальный плач сообщал мне о том, что несут покойника, и я поспешно освобождал чужую постель.
Я напрочь забыл об этих приключениях, пока мне живо не напомнила о них строка Гейне «Смерть – прохладной ночи тень».