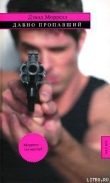Сольник

Текст книги "Сольник"
Автор книги: Юрий Шевчук
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
трек 3
Метель августа
(новое сердце)
Небо звездное, метель августа,
На дороге – машин канителица,
Возят засуху, а мне радостно,
Знаю точно – погода изменится,
Я смотрю наверх, там, где мы живем, —
Так все тихо, сухо да правильно.
Я ж из тех, кому нет победы днем,
Я – как степь, дышу сном неправедным.
Я по засухе – вёдро полное,
Между фар – лисой, живьем пламени.
Я так мал, а вокруг все огромное,
И плевать, что ни ружья и ни знамени.
Небо звездное, сердце августа,
Оглянись, рассветает пророчество,
Тело-степь – мое одиночество,
Смерти нет, но всегда – пожалуйста.
Небо звездное, руки августа,
На дороге – машин метелица,
Что пожнем, когда пыль рассеется,
Степь красна, как чернила Фауста.
Ночь светла, как круги от времени,
Что забросил я в смерть уставшую,
Все дороги растут из семени,
Недошедшего, недоставшего.
Жду от нового – века белого,
Продолжения понимания,
Что мы – часть всего безответного,
Что мы – ночь всего ожидания.
Новое сердце взорвется над нами,
Новая жизнь позовет за собой,
И, освященный седыми веками,
Я, как на праздник, пойду в этот бой.
рождество2001
Застывает рекою рождественской
Рядом с домом – дорога.
Я свечку зажег, время выключил,
Поставил на подоконник.
На улицу вышел и долго смотрел
На окно и свечу у порога.
И ветер ночной извивался и выл,
И цеплялся за жизнь, как воскресший покойник.
Пусть две тысячи лет Он родился назад,
Что изменилось?
Я такой же простой вифлеемский пастух,
Я телец, скорпион да собака.
Мои чувства – Варрава, кому уготована
Иерусалимская милость.
Мои мысли – одна окаянная, дикая
Смертная драка.
Для кого же поют голоса
У обрыва замерзшего леса?
Так тревожно и пусто душе,
Что устала от поисков снега…
В темноте облаков свет звезды
Приподнимает завесу.
И я чувствую тень
Твоего бесконечного бега.
предчувствие гражданской войны – 1988
Когда ты стоишь у голодной стены,
Когда вместо солнца сверкает петля,
Когда ты увидишь в глазах своих ночь,
Когда твои руки готовы к беде,
Когда режутся птицы ранней весной,
Когда над душой вскипает гроза,
Когда о предательстве каркает ложь,
Когда о любви визжат тормоза…
А те, в кого верил, ушли далеко,
И движения их не видны.
И в промозглую рань подзаборная дрянь
Вырезает тебе на груди
– Предчувствие гражданской войны.
Когда облака ниже колен,
Когда на зубах куски языка,
Когда национальность голосует за кровь,
Когда одиночество выжмет дотла,
Когда слово «вера» похоже на нож,
Когда плавятся книги на колокола,
Когда самоубийство честнее всего,
Когда вместо ритма нервная дрожь.
А в сияющем храме лики святых
Тебе говорят, что церковь – не ты.
Что ты поешь, когда у тебя
Вместо смерти – похабные сны?
– Предчувствие гражданской войны.
Когда черный ветер рвет паруса,
Что в прожекторах плюются болью в лицо,
Революция без жертв – ничтожная ложь,
Слышишь, блеют сердца у тех, кто вошь,
Когда лопнет природа и кипящая сталь,
Сожжет небеса, летящие вниз,
Антиутопия на ржавом коне
Вскроет могилы, уставшие ждать.
Когда слово «музыка» – это…
– Предчувствие…
крыса
Люди на ветках,
люди в витринах,
Люди на людях,
дворцовых решётках,
Гибнут на паперти,
тонут в перинах
Окон,
весь мир умирает на стёклах
Первой любви
и последней измены.
Стены,
набухшие трещины-вены,
Солнце,
клинком перерезав аорту
Готтской зиме,
поднимает когорты,
На Невский,
Сенатскую,
Выиграна сеча,
И власти доспехи
ложатся на плечи
Весны,
Торжествует шагреневой кожей
Хлеба и «зрелищ» – голодных прохожих!
И трудится жизнь
в сексуальном угаре,
Разлагаясь в мозгах,
казино,
тротуаре,
В машинах,
в метро,
в многоблочных коробках,
На окнах дисплеев,
в зачищенных глотках,
В тебе и во мне,
в тебе и во мне
Весна…
И даже чудовище
масти глиста,
С розовой гадостью
вместо хвоста,
Вылезло к солнцу
отравленным сердцем,
смертельной слюною,
раздавленным перцем,
Сквозь ахи и визг расфуфыренных дам,
По травке газона,
Асфальта – ногам
Сумасшедшая крыса, бредовая мразь,
прорвавшийся чирий,
порочная связь.
Прыгнула вверх,
закружилась в вальсе,
Жмурясь на небо в друидовом трансе,
Как девочка в классы,
игривый котёнок,
Как ласточка
в облаке смятых пелёнок.
В листве прошлогодней играет часами
отравленной жизни,
как чёрт с небесами,
Как ты с небесами,
как он с небесами…
Война.
тюрьма
Есть ли звёздное небо в тюрьме?
Родина между замком из песка
И пятизвёздочным номером отеля
Воспоминания на парашах
Макароны, картошка
Хорошо хоть реснички сняли
Хоть дышать стало немножко
Хорошо, что не двадцать
По телевизору – наркобароны
Хозяин правильный
Шесть по нарам
И всего три шестёрки
Жёлтые стены крашенные, в ожидании Годо
Срок – восемь лет зимы
Спящие медведи в берлогах ждут своего УДО
Кухонные убийства, аварии
Чужие мобильники
Бесконечная камерная музыка счастья
Это – мы.
террорист
Оглянулся, все тихо, хвоста вроде нет.
Колодец двора, яма черного хода,
Заколочена, черт бы побрал этот свет,
Липнущий сверху чухонским уродом.
Выход – гнилая пожарная лестница —
Хрупкая, сволочь, и окна вокруг.
Ползут этажи так убийственно медленно
Мимо дрожащих, израненных рук.
Что пялишься, дура, я ведь не голый!
Я не к тебе, я не бабник, не вор!
Я – террорист! Я – Иван Помидоров!
Хватит трепаться, наш козырь – террор!
Гремит под ногами дырявая крыша,
Ныряю в чердачный удушливый мрак.
Пока все нормально. Голуби, тише!
Гадьте спокойно, я вам не враг.
Вот он – тайник, из него дуло черное
Вытащил, вытер, проверил затвор,
Ткнул пулеметом в стекло закопченное,
В морды кварталов, грызущих простор.
Гул голосов снизу нервною лапою
Сгреб суету в роковые тиски.
Скучно вам, серые? Щ-щас я накапаю
Правду на смирные ваши мозги.
Замер народ, перерезанный болями,
Дернулся, охнул, распался на визг.
Моя психоделическая какофония
Взорвала середину, право, лево, верх, низ.
Жрите бесплатно, царечки природы,
Мысли, идеи, все то, чем я жил.
Рвите беззубыми ртами свободу,
Вонзившуюся вам между жил.
Люди опомнились, опрокурорились,
Влезли на крышу.
– Вяжи подлеца!
– Я ж холостыми, – харкая кровью,
Он выл на допросах, из-под венца.
– Ради любви к вам пошел я на муки,
Вы же святыни свои растеряли!
– Нечего, падла, народ баламутить!
Взяли и вправду его…
Тра-та-та-та!
больница белая забылась в бледных снах…
Больница белая
Забылась в бледных снах.
Храп,
Стянутый бинтами,
Койки,
Конечности в застиранных пижамах,
Шорох…
Прах…
Лишь взрывы бреда одинокого
Пугают привидения-болезни,
Слоняющиеся в стеклянных коридорах.
Усталые медсестры,
Раскинув крылья рук,
Застыли на плечах
Стреноженных столов,
Пасущихся среди
Амбулаторных карт и средств леченья…
Мученья позади, все внове.
Я в белой упаковке туалета
Курю
И наблюдаю,
Как пожирают первый снег
Делящиеся клетки крови.
рождество 2001 «вертеп»
Рождество, ночная пьеса, декорации из леса,
Клюквенный сироп из крови да приклеенные брови.
Одиночество из глины, бутафория из тела,
Души пенятся от мыла, на щеках прыщи от мела.
Из папье-маше – клише.
Ватой – облака неволи, вот семья, а вот пещера,
Недоученные роли, на пупах свернулась Вера.
Марля снега, звезд софиты, разбежались неофиты,
Режиссер кричит и злится (тоже хочется напиться).
Посмотри на эти рожи – в чем-то все творцы похожи.
Спонсор рядом с Барби мертвой,
целлофан, тузы, шестерки,
Крики, пыль, суфлер, фольга – ее куриная нога.
За кулисой ждут войска с деревянными мечами,
Вождь с прибитыми лучами чешет дулом у виска.
Не держава, а доска, не победа, а тоска.
Дан звонок, поплыли сцены, в зале грустная страна,
Мрачно смотрит на Надежду, Веру и Любовь она.
Мат стоит над Палестиной, рев зверей, гора картона,
Роды, тайные причины, реют флаги из бетона.
Все дары волхвов украли, ясли оружейной стали
Утащил голодный сторож, как сыграть нам пьесу,
Боже?
Ослепительных приборов нужно больше, господа,
Чтобы толще засияла Вифлеемская звезда!
Электричество поели да пожрали провода.
Я грущу, смотрю спектакль, третьим планом
В глубине —
Заспиртованный младенец спит в петровской
Колыбели,
Улыбается метели и подмигивает мне…
миллениум
Сегодня все мы символисты,
Футуристы, имажинисты.
Вакханалия эзотерии.
Картонные самоцветы, фонарики эпох,
Пьеро – домино,
На коленях Светы и Марии.
Крашеные постмодернисты
Откупоривают вино.
Даже в попсе сегодня есть что-то от декадентов,
Всеобщее самоубийство,
Коллективный теракт петард,
И усиливая тайну момента,
В каждом рту надрывается бард.
Маскарад, фантики, мишура,
Детство человечества, даже душа вора
Сегодня жаждет идеализма.
Даже руке убийцы противен вид топора.
Даже лицо президента (Странная метаморфоза)
Срывает аплодисменты,
Декламируя про шипы и розы.
Про небеса туманные, бесснежные,
Про поцелуи и объятия нежные…
С чем поздравляем мы, старик, друг друга,
Рот вяжет кислым петербуржская метель,
Как дорожим мы ограниченностью круга,
Но где она, рождественская ель?
Я наблюдаю, как штурмует праздник город,
Шутихами до слез ослеплена,
Иллюзия приподнимает ворот —
Забытая старуха у окна.
Чей дом напротив.
И от мысли ёжась,
Что в чем-то праздник и война похожи,
Я виски пью, массируя виски.
Изнанка праздника – убийство одиноких.
Здесь пустота нас режет на куски.
трек 4
капитан марковец(1995)
Я не знал живого Марковца,
Я его увидел только мертвым.
Возле президентского дворца,
Перед грозным небом – пулей стертым.
Я снимал на видео фасады
Обожженных лиц и душ бойцов.
Где, какие отольют награды
Для уже ненужных храбрецов?
И с погон погибшего срывая
Звезды, будто злое небо с глаз,
Мне солдат их протянул, кивая:
«Вот, возьмите – память вам от нас.
Не забудьте эту грязь – дорогу
К смерти в унавоженной глуши,
У него две дочки, все же к Богу,
Видно, он отчаянно спешил».
У Минутки, возле медсанбата,
Где по пояс рваные дома,
Видел я сгоревшего комбата
И державу, полную дерьма.
Дома у меня на книжной полке
Эти звезды до сих пор болят.
Капитана Марковца – осколки,
Всех доставшихся сырой зиме ребят.
Ту войну нам этой не исправить,
Пусть всё перебили, что потом?
На госдаче мемуары править…
Или же остаться с Марковцом.
чечня
Безразлично и малопонятно
На просевшем от солнца снегу
Мертвецы, как родимые пятна,
Улыбались, застыв на бегу.
Необычные рифмы и позы
Отражались в зрачках странных глаз,
Как игра, как бумажные розы,
Как интимное напоказ.
Как разбросанные парашюты —
Оболочки, шелк, стропы тел,
Где сухую солому – минуты
Гонит ветер в слепой предел.
Души в небе, играя, быть может,
Наблюдают судьбу за мной,
Как дрожу я от мысли – тоже
И готовлюсь к войне иной.
ангел
Я держал его руку, я был рядом с ним,
Когда во дворе умирал первый снег,
Когда выполз на крыши слепой черный дым,
Когда темной материей стыл человек.
– Я умру без любви, не молчи – говори.
Еле дышит печальное пламя свечи,
Топот клеток и шепот шагов у двери,
Расскажи мне, в чем смысл войны – не молчи
Чуть колышется пламенный огненный лик.
Плоть его – звуки, запахи, ветер и свет.
Божий звездный посланец, младенец-старик:
– Я устал, отвечает, жаль времени нет.
Жаль, что тело моё не склюет вороньё,
Не воскреснет потом под ольхой во дворе,
Жаль, свобода любить, умирать – не моё,
Смысл каждой войны спрятан в каждой игре.
Ангел обнял меня светлым алым крылом,
На мгновение вспыхнуло небо небес,
Выбирай, – улыбнулся, вздохнул и исчез…
А потом потемнело, потом рассвело.
сен-дени
Проститутки на Сен-Дени,
старушки – гипсовые обломки.
В их поседевших зрачках
героическая беспечность
и гипертонические ломки.
Пластиковые шубы, хлысты, ремни,
дряблые животы,
подагра и бесконечность.
В их глазах сохнет
былая мужская похоть.
Пенсионеры – постоянные клиенты.
Поддерживая старичков за локоть,
они помнят их юношами.
Теперь – больше матери, чем жены,
заботливо укладывают морщины
в розовые капюшоны.
Умирающие парижане,
покупая кровавые рты,
прически – ветры,
инсульт и тепло,
крашеные лица.
Эти, когда-то норманны и готы,
не одолеют уже
километры жизни
до великолепной гибели Европы,
до Канн и Ниццы…
А теперь на Сен-Дени
только гаснущие огни.
Сена – парижская дырявая вена
убаюкивает, грезит, прощает.
Старики не кончают,
у них изо рта – пена.
дом
В новом районе, бывшем загоне,
вырос огромный цементный кокон.
Серая пыль, затвердев в бетоне,
схватила и держит тысячи окон,
тысячи стенок, балконов, дверей,
тысячи вечнозеленых людей,
тысячи разнокалиберных глаз,
тридцать тысяч зубов и пять тысяч фраз.
Стилизованный внук Корбюзье
с Ван Дер Рое:
небо – два с половиной метра,
очередной рывок домостроя —
девять квадратов на человека!
Пищеводы подъездов, давясь, пропускают
тысячи тонн живой биомассы.
«Нам луше не надо» – это считают
передовые рабочие классы.
Тысячи кухонь каждое утро
жарят на нервах куриные яйца.
В тысячах спален каждое утро,
нежно сопя, заплетаются пальцы.
Здесь ежедневно кого-то хоронят.
Через неделю – горланят свадьбы.
– Не стой под балконом – горшочек уронят!
– Легче, родной, не провалилась кровать бы!
Одиночество здесь – царица досуга,
среди соседей – ни врага, ни друга,
вон, бабка грустит, опадают бока,
нет ни овец, ни козы, ни коровы,
ей на балконе завести бы быка,
а то на кой хрен такие хоромы?
Я тоже живу здесь, в квартире сто три,
и у меня двенадцать замков на дверях.
Я закаляюсь летом без горячей воды
и размножаюсь зимой при электросвечах.
Я замурован в этом каменном веке,
переварен железобетонным блоком,
я наблюдаю – как в сжатые сроки
сосед убивает в себе человека.
А миллионы мечтают об этой крыше,
нем им покоя под залатанным небом,
в тысячи глоток – граждане, тише!
Ведь я помню, когда мы делились хлебом,
делились солью, посудой, дровами,
ходили к соседкам за утюгами,
слушали хором футбол и хоккей,
короче, были, были…
площадь
В одиннадцать утра
на Красной площади
(как странно, где я?)
стоял на Лобном месте
с чашкой кофе и сигаретой,
рассматривая
беспомощные животы стрельцов,
Петра угрюмого на месте Мавзолея,
кумач революционных,
четвертованных,
остриженных в квадраты молодцов.
Музеем историческим смотрел я это утро.
Космическим дышала площадь,
я вновь – рождение поэта.
Спина кремлевская —
Буденновская лошадь, Гагарин,
чья-то злая камасутра.
И вот
прощенное, моченое пространство,
ограниченное властью,
стало частью,
моей любимой чашкой кофе
с сигаретой.
сон
э. ш.
Летчик в самолете говорил о птицах,
погружались в землю медные огни.
Может быть, нам, друг мой, больше не садиться,
разделить с пернатыми оставшиеся дни.
Ангелы и бесы, черти, херувимы,
ты в окно влетела, села на постель.
«Как наш сын? – спросила. – Под звездой одни мы».
Я смотрел на рамы сбитые с петель.
«Хочешь, полетели – покажу, где свили
Мне пространством время, оглянись, чудак».
Мы бродили в странном, параллельном мире —
В сказке или детстве, но, увы, не так.
Ветрами влекомы зеркала, машины,
нет границ у слова, с правдой слита ложь,
серебро Шагала – вещие картины.
«Где мы?» Улыбнулась: «Все потом поймешь».
И в небесном Храме плыли наши лица,
Феофан расписывал так иконостас…
Летчик в самолете врал о райских птицах,
а в иллюминатор улыбался Спас.
беда
э. ш.
Выросли перья у тощей весны.
Серая грязь от луны до креста
Затопила дома, как кошмарные сны,
Как голодная шлюха после поста.
Реки утюжит ветер-каток.
Из сучьев вылазит зеленый свист.
Пищит вода, гуляет Восток,
Ухмыляется Запад-контрабандист.
У котов съезд всех кошачьих каст.
Снег в дырах, как память, ворон не счесть.
У кобелей по талону, но всем сука не даст.
Оттаяло все: и любовь, и месть.
А я не рад теплу, я разлюбил рассвет.
Я сижу в темноте, шевелю весной.
И мне кажется, что меня уже нет,
Потому что тебя, тебя нет со мной.
Матерится Земля – шкура на китах,
Драные бока, гормоны в аду,
Солнце ударило небу в пах.
Деревья торчат по колено в бреду.
Полным распадом мира весна
Салютует всем нам, что она удалась.
Чует новые запахи стерва-страна,
Все готовится жить, ты одна не спаслась.
Сосны-виселицы, дождь-срок,
Разлука-беда уже на крыльце.
Перелетные птицы кричат между строк.
Я стираю глаза на своем лице.
Мне они ни к чему: ведь тебя больше нет.
Тонет память обрывками в луже воды.
Я глотаю последний огонь сигарет,
Я впустил ее в дом, я в тисках у беды…
адам и ева
Вечер холодный, белый.
День был такой прозрачный.
Я стал не очень смелый,
Город родной, не мрачный.
Шторы штормят на окнах.
Ты, как весна, смущаясь,
С чем-то чужим прощаясь,
Сбросила всё, что сохло.
Скинула всё, что было,
Нежность взорвала стены,
Время в зрачках поплыло,
Стало живою веной.
Пальцы – слепцы по коже,
Слышу твое дыханье,
Губ твоих, слов касанье
Чувствую осторожно.
Поцелуй превращался в вечность.
В небе – крылья, стихи и ноги.
Осязание – смысл дороги.
Обладание – бесконечность.
Пригласила меня на танец,
Исчезая, летали лица,
Я – зарезанный, глупый агнец,
Ты – растрёпанная синица.
Как предчувствуют счастье люди,
Разбиваясь о стекла-дали,
Мы любви все края познали,
Но не ведали, что так будет.
После в окно курили.
Думали – не напрасно.
Вспоминали, как глупо жили…
Утром ты так прекрасна,
Утро в твоих ладонях,
Пью эту живую воду.
понедельник
Вчера был праздник, нынче – пробужденье,
Весь в синяках, да плюс хмельной синдром.
Лежу, курю, болею животом,
Ох, погулял я в это воскресенье!
Вчера – свиреп, силен, умен и смел,
Сегодня тих, спокоен, особачен.
Мой нос распух, язык одеревенел,
Вчерашней дракою печально озадачен.
Смотрю на женщину, которая со мной,
Вчера пришла – и до утра осталась.
В ее глазах ко мне любовь и жалость,
А у меня душа – хоть в мир иной.
Она спокойно ходит по квартире,
Стирает пыль и кровь с моих штанов,
Она красива в этом душном мире,
Она молчит, нет слова без основ.
О Боже, как никчемна жизнь моя
И как ничтожна дряхленькая вера,
Смотрю на долгожданную тебя,
Но ты, пожалуй, мне уж надоела.
Мы ангелочки пошлого Ватто…
Да, все не то. Что, радость, заскучала?
Подай-ка мне гитару и пальто,
Пошли гулять, начнем дышать сначала.
любовь
В скользкое будущее трудно попасть голосом,
как голое тело достать из бездонной проруби.
Прошлого нет, но растут еще ногти и волосы,
и похожи на летающих крыс серые голуби.
Любовь – странная вещь, она порхает вне времени,
и всегда мимо нас, когда так этого хочется.
Без любви мы – усталость последнего дня творения.
Между прошлым и будущим наши тела полощутся…
трек 5
я
Я – весь скрученный нерв,
Моя глотка – бикфордов шнур,
Которая рвется от натиска сфер,
Тех, что я развернул.
Я – поэт восходящего дня,
Слишком многого не люблю,
Если ты, судьба, оскорбишь меня,
Я просто тебя убью.
Я – весь живой человек,
Я падал тысячи раз,
Сотнею проклят, сотней воспет,
Снова встаю сейчас.
Я обожаю красивую жизнь
И нашу великую грязь,
Кого трясет – тот может пройтись,
Кто трус – из телеги вылазь.
Я называю плохое дерьмом,
А хорошее – красотой,
И если что не разрежу умом —
Распакую своей душой.
К черту слезы – от них тоска,
Наше время не терпит соплей.
Посмотри, старина, на живого щенка
Он добрее тебя и злей!
Сквозь голодную толпу,
Стоящую за искусством,
Лезу, раскинув всех,
Без очереди я.
Поднапри, веселей, мы искусству,
Без сомнений, прорубим русло,
Мы искусству прорубим русло,
Становитесь за мной, друзья.
серый голубь
Липкий ужас под куполом цирка,
в боксерских початках,
Жмет балетная пачка, страховка на рыбьем меху,
Расползаясь по льду, одурела глазная сетчатка.
Тощий зад напряжен, коченеет и рвется в паху.
Ты, конечно, везде – намбер ван теле-еле помоек,
На корпоративах кричишь средь волков
одинокой овцой.
Соблазнитель загубленных душ и облом перестроек,
Ты лети, серый голубь, лети и, конечно же, пой.
Серый, добрый маньяк, голос твой в каждом
доме на ужин,
Льешь густой позитив на тарелки унылых надежд.
Вездесущий «звезда», ты, как воздух
надушенный, нужен
Стране тяжких запоев и канувших в Лету побед.
Благодарный слуга, долетел до высокой награды,
Был простой педераст, оказался большой патриот,
Искрометный танцор на шесте, и тебе очень рады
Их Сиятельство сами, если пресса, конечно, не врет.
И не важно, что где-то сломалось в этом
гребанном мире,
И не важно, что лира – тоска, ну а муза – отстой,
Ты лети, серый боров, в национальном зефире,
И не важно про что, ты лети и, конечно же, вой.
Для чего и откуда на нас эта Божия кара?
По глухим деревням, на заставах, в бескрайней степи
Нам лишь несколько лет до позора,
три дня до кошмара,
А ты пой, серый боров, ты вой и, конечно, свети!