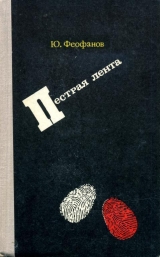
Текст книги "Пестрая лента"
Автор книги: Юрий Феофанов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
История 14 и последняя, о том, как мой друг утратил иллюзии
Да, это была трагедия. Трагедия Великого Детектива. Ибо как иначе назвать крушение целой концепции, больше того – мировоззрения. Нет, еще больше – рухнуло хобби моего бедного друга.
Я захотел сделать сюрприз моему другу. Через своего знакомого в Московском уголовном розыске я устроил посещение музея криминалистики. Это служебный музей, тем не менее здесь побывали финансисты и актеры, писатели и врачи, иностранные дипломаты и работники Госплана.
Мой друг, конечно, слышал об этой святая святых, но проникнуть ему туда никак не удавалось. До работников сантехнических служб очередь не дошла. Так что пришлось мне пустить в ход связи, как выражались в старину. Порфирий Платонович вернулся из музея, до отказа набитый идеями.
– Ну-с, что видел, высмотрел? – спросил я его, как героя басни Крылова, побывавшего в кунсткамере.
– О-о, и рассказать нет сил, – ответил мой друг и начал рассказывать…
Это был восторженный рассказ о хитроумных злоумышленниках, о таинственных преступлениях, об искусных криминалистах. Сам того не замечая, мой друг говорил и о таких вещах, которые привели его вскоре к трагическому решению.
Но сначала я предлагаю послушать, что же увидел и высмотрел он в этом уникальном музее…
Встречи, которые произошли в этом музее, не доставляют особой приятности. Хотя, конечно, любопытно. Вот Ройфман и его компания, создавшие подпольный трикотажный цех – об этом в свое время писали газеты. Вот недоброй памяти Ионесян. Вот мошенница… квартирный вор… Теперь гнусное преступление всего лишь музейный экспонат. У змеи уже вырвано жало, она безвредна для людей. И, возможно, не было бы ей места на музейных стендах, если бы не был поучительным сам акт вырывания жала. А именно этой цели и служит музей криминалистики Управления внутренних дел Мосгорисполкома.
Гидом по музею был заместитель начальника научно-технического отдела УВД Виктор Мефодьевич Радьков, опытный криминалист. Он участвовал в раскрытии многих преступлений. Для него музей – рабочая лаборатория. Для Порфирия, хоть он и считал себя не чуждым криминалистике, все тут было необыкновенно. И не только драматизм минувших событий поражал. Может быть, в большей степени то, что талантливые люди, порой прямо-таки самородки погубили свои жизни, связав их с преступным миром.
Как это ни печально, но от этого факта никуда не денешься. И поэтому-то одна из основных линий в работе органов внутренних дел – профилактика преступности – предстает в своем гуманнейшем смысле. Цель профилактики, разумеется, спасти не специалиста в какой-то области, – человека спасти. Но сколько же поистине «искр божьих» потухло, сколько рук золотых пропало!
На одном из стендов лежат фальшивые деньги – пятерки, десятки, четвертные билеты. Неопытный глаз никогда не отличил бы их от настоящих. Тут же представлена вся технология их изготовления: клише, краски, трафареты, бумага, пуансоны для подделки водяных знаков. Рядом поистине уникальный станок для изготовления клише. Сложная система колесиков и рычажков приводит в действие иглу, которая наносит царапины на металл. Специалисты были поражены совершенством машины.
А рядом россыпь золотых царской чеканки. Сделано весьма искусно, да только Николай II смотрит в другую сторону – на том и попались.
– Выходит, случайно? – спросил мой друг.
– А что такое случай? – задает ответный вопрос Виктор Мефодьевич. – Нынешней зимой было совершено ограбление магазина. Машина въехала во двор, развернулась, на нее погрузили похищенное и уехали. На месте происшествия никаких следов. Воры были опытны и исключительно осторожны. Предусмотрели, кажется, все. Только разве предусмотришь такой казус: разворачиваясь, машина уперлась в сугроб и на снегу отпечатался номер. Преступники разгрузиться не успели, когда их взяли. В общем-то номер отпечатался случайно…
Да, всякий след преступник оставляет случайно. Он ведь опытен, он специально продумывает, как замести следы и, заметая их… оставляет след. Случайно! Только криминалисты обнаруживают их совсем не случайно.
Место происшествия для опытного детектива – это всегда содержательная книга. Надо лишь уметь ее читать, как читал тайгу Дерсу Узала. У человека, независимо от его воли и сознания, вырабатываются определенные привычки: почерк, повадка, манера держаться, курить, есть, разговаривать. И все это – следы. Вот целая коллекция окурков, смятых сигаретных пачек, обгорелых спичек – когда-то эти экспонаты служили вещественными доказательствами, изобличали опасных преступников.
В органах внутренних дел работают сейчас и химики, и биологи, и математики, и психологи, и художники. Точный научный анализ берет верх над самой дьявольской изощренностью. У гражданина угнали «Волгу». На двигателе, шасси, кузове, на всех ее частях уничтожили старые номера и выбили новые. Сделано все чисто. Старой машины нет. Даже если она попадет в руки экспертов, что с этого? Подозрение – не улика. Таков расчет преступника. Но когда выбивают номера, происходит уплотнение металла, они… как бы отпечатываются в самой структуре его. На заводском штампе – одно уплотнение, в мастерской вора – другое. Глаз не отличит, химический анализ, безусловно, изобличит вора.
Почерковедческая, химическая, баллистическая, биологическая и еще масса экспертиз помогают прочесть любой след. Но представьте себе ситуацию, когда этого следа действительно нет. Преступник хотел проникнуть в квартиру высотного дома на Котельнической набережной. По его предположениям, никого в ней быть не должно, но там оказалась старая женщина. Вор ударил ее ножом, а сам бросился бежать. Когда он мчался по лестнице, на мгновение открылась дверь этажом ниже. В доли секунды вор и какой-то молодой человек обменялись взглядами. Преступник затерялся в многолюдном городе. А через два дня за ним пришли. Личность преступника установили методом фоторобота.
Самая богатая фантазия, кажется, не в состоянии вообразить, какие могут быть преступления. Наборы отмычек, ключей, сверл, оружие всех видов… На стенде стоит… пушка. Откуда она-то здесь? Верно, пушка миниатюрная – ее подарили боевому артиллерийскому командиру, как память о былых сражениях. Искусные руки сделали действующую модель. А сын заряжал пушку и разбивал снарядом мощные замки на голубятнях. Или вот удочка… Ей-то что можно сделать? О-о, не так мало! Вы пригласили гостей. Сидите, разговариваете. В одной из комнат сложены на столе сумочки, портфели. Вы сидите в другой комнате, разговариваете, пьете чай или еще что-нибудь. Потом гости собираются домой и… конфуз первостатейный: половины сумочек нет. И никто не мог войти – слышали бы, в форточку тоже не пролезешь. А «рыболов» подсчитывает добычу. Н. Н. Донской совершил таким путем 40 краж.
А вообще-то демонстрации преступной изощренности сопутствует экспозиция поразительной беспечности, отсутствия обыкновенного житейского здравого смысла. Многие экспонаты прямо-таки иллюстрируют старую истину насчет того, что простота хуже воровства. Жертвы будто сами лезут в расставленные им силки.
Со стенда сквозь дымчатые очки смотрит на вас импозантный мужчина. У него, между прочим, приговоров на 136 лет отсидки. Это Борис Венгровер, «культурный вор», как его называли. Этот ничего особенного не выдумывал, особенно не изощрялся. Привлекательная внешность и определенная эрудиция, приправленная изрядной долей нахальства, делали свое дело. Увы, экспонаты констатируют тот печальный факт, что жертвами проходимца становились представительницы лучшей половины человечества. Легкое приятное знакомство, имитация любви и… квартира обчищена.
Напротив, некто Денискина не обладала ни внешностью, ни манерами, ни эрудицией. Тем не менее, выдавая себя за инженера, она совершала десятки махинаций, обманывая доверчивых простаков. Жила под разными фамилиями. Но как доставать документы? В последний раз решила инсценировать ограбление. Села в такси, а потом, когда расплатилась, закричала, что шофер ее ограбил. В милиции заявила, что у нее взяты деньги и документы. Сообщила свои анкетные данные. Составили протокол. Дали подписать дипломированному специалисту. И Денискина начертала (я вижу на стенде увеличенный, как под лупой, текст): «Пратакол мине прачитан».
– Странно, – пожал плечами инспектор, – неужто Денискина такой «узкий» специалист, что грамоты не знает?
Установить личность мошенницы не составило особого труда. А ведь скольких действительных инженеров обвела она вокруг пальца! Впрочем, примитивность еще не обозначает легкости разоблачения преступника. Некто Рябова совершила 60 преступлений: устраивалась работать кассиршей, получала в банке деньги и давала тягу. Жила под разными личинами. Вот один из подделанных ею паспортов. Он был выдан Прохоровой. Рябова сделала искусную подделку – изменила лишь несколько букв. Было: «Прохорова». К букве О добавила палочку, приписала в конце Н и получилось: «Прохдрован». Сравните – всего несколько штрихов и совсем другая фамилия.
Ротозейство и доверчивость бывают субъективно чистыми, так сказать, непорочными – та самая доброта, которая хуже воровства. Увы, нередко потерпевший оказывается если и не преступником, то и не совсем добросовестным гражданином. Сколько преступлений совершается под девизом: «вор у вора дубинку украл».
В коридоре перед входом в музей висит цветная фотография, названная шутником «натюрморт с золотом». На ней изображены кувшины, из которых текут золотые монеты. Это был клад. Его нашел случайно гражданин из Калужской области. Решил сделать бизнес: вынес монеты на «черный рынок». Конечно, попался. И только на следствии узнал, что сдай он свое сокровище государству, получил бы тысяч тридцать вознаграждения, да еще бы в газете, глядишь, напечатали не под рубрикой «Из зала суда».
Увы, липнут к сомнительным материальным благам иные наши сограждане. В музее стоит «стол мошенника». Обыкновенный стол с выдвижным ящиком. Его изготовили трое «фармазонщиков». Они приезжали в город, снимали комнату и искали того, кто хочет выгодно сбыть драгоценности. Следовала встреча заинтересованных сторон. Договаривались о цене. После того один мошенник отправлялся «за деньгами», второй сгребал на глазах у клиента драгоценности в выдвижной ящик, поворачивал ключ. Клиент сидит перед закрытым ящиком, где лежат его драгоценности. Но их уже там нет. Одна из боковых стенок выдвижного ящика болтается на петлях. Закрывая ящик спереди, фармазонщик сбоку под скатеркой запускает руку в этот самый ящик – и бриллианты уже у него в кармане. Под благовидным предлогом он выходит «на минутку», а клиент сидит перед пустым ящиком, куда на его глазах положили драгоценности. При известном навыке проделать эту операцию не так трудно. Ну, а в случае чего стопроцентная гарантия, что потерпевший особенно шуметь не будет – у самого рыльце в пушку.
Когда прокурору доложили, что из автоматов газированной воды извлекают трехкопеечные монеты, он не дал санкции на арест подозреваемых – мелочь же! Работники службы БХСС не отступили. По их предположениям, пахло тут не мелочью. Но как уличить воров? На помощь пришла наука: монеты специально обработали и пустили в автоматы. Потом задержали механиков автоматов. Нашли горсть монет.
– Что ж, в кармане мелочь нельзя носить?
– Можно, мы только проверим, откуда эта мелочь.
В ультрафиолетовых лучах монеты выдали себя: никак они не должны были оказаться в карманах механиков. Начали следствие. И «трехкопеечное дело», как оно именуется, обернулось 80 тысячами рублей, похищенных у государства. После разоблачения шайки автоматы в ГУМе, Лужниках стали давать в день больше на 400—500 рублей.
Мы привыкли к тому, что милиция ловит и разоблачает. Но при этом главная ее забота – найти истину, то есть разоблачить виновных, однако же и спасти от подозрения непричастных к преступлению.
На стендах, посвященных профилактике, много, скажем так, обнадеживающих экспонатов.
В холодильнике были обнаружены крупные излишки лососевых рыб. Излишки, это знают работники торговли, более неприятны, чем недостача. Недостачу можно объяснить как-то. Но откуда лишние центнеры? Ясно – подготовка к хищению. И на работников холодильника пала тень. Но эксперты не спешили с выводами, милиция – с санкциями. Анализ показал, что рыба имеет свойство увеличивать вес, будучи в холодильнике – впитывает воду, за месяц на 8 килограммов прибавляется примерно 300 граммов. Подозрения людей были сняты. Последовало представление и был изменен порядок учета…
Мой друг столь долго перечислял экспонаты этого уникального музея, что не хватило бы места их описать. И все они лишний раз свидетельствуют, что преступники живут в мире иллюзий. Каждому из них кажется, что уж он-то сделает все чисто, не оставит визитной карточки. Упорное и извечное заблуждение. Поэтому музей, о котором я рассказал, можно вполне назвать музеем «утраченных иллюзий». Грубо ли работает, тонко ли, неуч или эрудит, в одиночку или группой – он, преступник, будет всегда разоблачен и возмездие наступит неотвратимо.
Это, пожалуй, самое яркое впечатление, которое получил мой друг в музее криминалистики.
Через пару дней Порфирий Зетов зашел ко мне с лицом, о котором говорят: «Лица на нем не было».
Под мышкой он нес связку каких-то книг.
– Все, – сказал мой друг, плюхнув книги на пол, – «финита ля комедия».
– Что случилось? – встревожился я не на шутку. – Уж не грипп ли? (Про себя я подумал нечто худшее, Ибо мой друг не отличался железной психикой.)
– Я здоров, – ответил Порфирий. – Но я уже не я.
(Мои худшие опасения, кажется, подтверждались.)
– Ты сядь, я сейчас чайку согрею. Может, стопочку? – захлопотал я.
– Я здоров, если не считать того, что душа болит. Не беспокойся, я в норме. Просто я ухожу из криминалистики.
Зеркала поблизости не было, поэтому я не могу увидеть ту гамму чувств, которая отразилась на моем собственном лице. Я мог ждать чего угодно, только не этого. Я лихорадочно обдумывал, как бы незаметно позвонить в соответствующий диспансер.
– Да и не уговаривай! Мое решение твердо, принято в здравом уме и бесповоротно. Я понял, что великий Холмс умер. Умер, как, принцип. Его место заступают наука и техника, система методов, коллективный поиск. Нет, нет, не возражай! Я знаю, что ты скажешь. И все-таки сыщик-кустарь, детектив-одиночка умер. Его уже нет. Шерлок Холмс и профилактика преступности. О-о-о! Это взаимно исключено. Шерлок Холмс и вычислительная машина! Мир не знал таких парадоксов. В музее криминалистики я понял, что мы с великим Холмсом – музейные экспонаты, не больше! Что ж, мы уступаем дорогу новому, – и мой друг рассмеялся столь зловеще, что дрогнули бы стальные нервы великого англичанина.
Он повел блуждающим взглядом по мне, по мебели, по стенам, махнул рукой, поднял воротник «болоньи» и вышел…
К счастью, все обошлось. Порфирий с головой ушел в сантехнику и вскоре сделался видным специалистом в своей важной области. Его отмечают грамотами, дают премии и избирают в президиумы совещаний и собраний.
Сослуживцы замечают лишь одну странность: как только в руки ему попадает детективная повесть или газета с судебным отчетом, он отбрасывает ее презрительно, и сослуживцы слышат зловещий смех: хе-хе-хе! – точно, как смеялся Фантомас.
Послесловие. Прощание с синей шинелью
В 1969—1970 годах личный состав органов внутренних дел менял форму одежды. Синяя шинель сдавалась в архив. Журналисты лишались очень звонкой метафоры – «человек в синей шинели». Не напишешь, в самом деле, очерк о милиционере с заглавием «Человек в пальто цвета маренго» – подумают не о том, кто ловит, а о тех, кого ловят. Пройдет совсем немного времени и синюю шинель будут разглядывать с таким же любопытством, как милиционера в буденовском шлеме и долгополой кавалерийской шинели с поперечными шевронами.
На пресс-конференции министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков так вдохновенно говорил о новой, по всей вероятности, выстраданной им форме, что казалось, будто стихи декламирует. Но при этом многозначительно заметил:
– Форма новая, однако включает в себя традиционный элемент.
И я подумал тогда: нет, переобмундирование личного состава нашей милиции акт меньше всего интендантский.
Как ни говорите, а человек в синей форме на протяжении тридцати лет шел к нам на помощь в самую трудную минуту, охранял наш покой, принимал на себя удар ножа или кастета, предназначенный кому-то из нас.
Эффект присутствия милиционера в жизни каждого довольно трудно выразить – разве что какими-нибудь хитроумными уравнениями со многими неизвестными. Наши с ним отношения напоминают отношения с собственным сердцем или, если это сравнение покажется «слишком», с любым другим органом, с тем же зубом. Не чувствуем, где оно (или он) – значит, все в порядке. А вот как начинаем чувствовать – беда! Мы делимся радостью с кем угодно, но только не с милицией. Когда приходит беда, часто набираем 02.
Нет, я не хочу никого упрекнуть. Да и милиция отлично понимает наш стихийный эгоизм. Она, милиция, снисходительна даже к той тете, которая обещает «сдать» шалуна-сына «дяде-милиционеру», и вполне философски не пытается ответить на несходящий с наших уст упрек – вопрос «куда смотрит милиция». Она знает и делает свое дело и смотрит в общем-то куда ей положено. Пропуская мимо ушей глупую шутку матери, она заслонила невидимым, но прочным щитом ее малыша. Щитом, надежность которого олицетворяется ни в какой-нибудь хитроумной технике, столь богато рожденной XX веком, но целиком и полностью в личности милиционера. Ее не заменит ничто.
Человека в синей шинели мы поминали добрым словом больше по табельным дням и в официальном порядке. В обиходе – чаще ругали. За дело и без дела. Со знанием дела и просто так, потому что кого-то же ругать надо за все неполадки и непорядки, а милиционер – вот он, рядом и весьма заметен, а ему, коль никто ничего не нарушает, положено быть бесстрастный, хотя оскорбление его мундира закон карает чрезвычайно строго.
Наверное, какая-то часть упреков и попреков была направлена в адрес старшего сержанта Кировского районного отдела бакинской милиции Мамеда Рамазанова. Если не в его личный адрес, то в коллективный – «куда смотрит милиция». Но когда в отделении раздался звонок и взволнованный голос сообщил, что одуревший от водки субъект стрелял только что в соседа и что жизнь жены и ребенка этого субъекта под угрозой, Мамед со своим товарищем Гасаном Алиевым бросился на сигнал бедствия. Он успел. Успел подставить свою грудь под заряд дроби, чтобы, погибнув, спасти ребенка.
Он любил жизнь, Мамед Рамазанов. И у него осталась жена. И сын Абдулла, которому было 15 лет.
Он носил еще синюю шинель, Мамед Рамазанов.
Рамазанов Абдулла, зачисленный в ряды бакинской милиции, наденет элегантное пальто цвета маренго. Но девиз «умри, а выполни приказ» станет, уверен, его девизом.
И все-таки это новая форма.
В здании Министерства внутренних дел Азербайджана сразу, как войдете, вы увидите бросающуюся в глаза доску, разделенную на три графы. Первую графу можно назвать так: «Не забудь поздравить» – здесь значится фамилия сотрудника министерства, которому сегодня исполнилось столько-то лет. Вторая графа: «Не забудь порадоваться за товарища» – в ней сообщается, кого наградили в этот день или как-то отметили. Третья: «Не забудь навестить» – это сообщение о тех, кто болен.
Вы можете сказать – «мелочь». Мне кажется, небольшой элемент того всеобщего похода за высокую культуру в работе, которым охвачен весь личный состав органов внутренних дел и который напрямую связан с новой формой.
Давайте честно: нам с вами, токарям, журналистам, комбайнерам, математикам, продавцам, администраторам гостиниц и то не легко всегда быть выдержанными, вежливыми друг с другом, уступчивыми и неизменно доброжелательными. А милиционеру? Наденьте-ка его мундир, хоть синий, хоть цвета маренго. Встаньте-ка на пост! Или по участку пойдите. Или еще лучше – подежурьте в отделении в часы «пик». Вы, конечно, догадываетесь, что вам придется вращаться не в лучшем обществе. И выслушивать не самые изящные обороты богатой русской речи. «Какая тут, к черту, культура», – скажете вы.
Милиция сегодня говорит: да, именно здесь тоже должна быть культура. Во всем она должна быть в наших рядах, в каждой клеточке системы, в каждой поре милицейского братства. И без всяких скидок на условия.
Ректор Пермского политехнического института пожаловался, что в Нефтекамске (Башкирская АССР) милиционеры без достаточного повода задержали двух студентов, вели себя при этом грубо, недостойно. Письмо проверили. Факт подтвердился. Вина милиционеров не так уж казалась велика: называли на «ты», повышали без причины голос. Раньше на подобные случаи просто не обращали внимания, считая, что в милиции так и должно быть, что иначе нельзя, потому что отделение не светский салон и т. д. и т. п. А милиционеров из Нефтекамска ждало серьезное наказание.
Конечно, культура в работе, которую связывают руководители министерства, в частности и с введением новой формы, это не только и не столько стиль разговоров с нарушителями общественного порядка. Это неизмеримо большее, значимое и многообразное, где на первый план выступает качество, столь ярко воплощавшееся в фигуре Дзержинского.
Сподвижник и преемник благородного рыцаря революции Р. В. Менжинский в свое время так характеризовал деятельность органов ВЧК и ее руководителя:
«При всем безграничном энтузиазме работников ЧК… никогда не удалось бы построить той ВЧК—ОГПУ, которую знает история первой пролетарской революции, если бы Дзержинский, при всех его качествах организатора-коммуниста, не был великим партийцем, законопослушным и скромным».
Законопослушным! Слово-то какое любопытное в сочетании со словом революционер! Но в этом смысл нашей революции, которая, разрушив, тут же начала созидать. В этом слове мне видится диалектика сложного становления новой небывалой власти, власти, послушной законам, отражающим волю народа, а не стоящей над законами. В этом слове символ жизни такого важного института нашего государства, каким является его милиция.
И опять-таки мысль: законопослушным куда легче быть, когда тебе остается лишь повиноваться закону. А когда он в твоих руках? Когда ты можешь его применить и так и не так? Испытание властью – один из самых сложных и трудных экзаменов, коим подвергается человеческая натура. Милиционер подвергается этому экзамену весь срок своей службы.
Да, слушаться закона, когда закон в твоих руках, не просто. Но милиция наша упорно и целеустремленно делает жизнь «с товарища Дзержинского».
В деятельности нашей советской милиции существенна и розыскная функция – то есть тот чисто профессиональный аспект, в который входит поимка преступника и передача его вместе с собранными уликами в руки правосудия. В самом деле, где-то совершено преступление. ЧП! Тревога! Милиционер, оперативная группа, если надо, более крупное подразделение бросаются по следу. И вот преступник обезврежен, потом уличен и предан суду. Что, собственно, еще ждем мы от милиции? Да, честно говоря, ничего. Смысл ее деятельности состоит в том, чтобы поймать преступника и собрать улики, бесспорно подтверждающие его вину. Если эта задача не выполнена, мы говорим, что милиция не оперативна, следствие недостаточно проницательно. И наши упреки справедливы.
Но приходилось ли вам задумываться над тем, почему недостаточно скор сыщик? Почему на ложный путь свернул следователь? Недобросовестность давайте исключим, потому что она всегда случайна. Слабая квалификация – тоже не правило. Недостаток интуиции? Слишком, пожалуй, расплывчато. А хотелось бы получить более основательный научный ответ.
Не пытайтесь его дать, ибо сами работники органов внутренних дел настоятельно ищут этот ответ. Ответ научно обоснованный, исчерпывающий, конструктивный: в борьбе с преступностью интуиция важна, однако научные методы организации труда также необходимы.
Энтузиаст внедрения научных методов в деятельность нашей сыскной службы говорил мне:
– Сколько в военном деле за последние сто лет произошло революций. Но пушка-то в принципе стреляет так же! Так и у нас. Сам акт поимки преступника мало изменился. Но все, что вокруг этого, требует перемен.
Если всерьез говорить о профилактике преступлений, о научной постановке этого дела, необходимо и мозгами раскинуть научно: изучить, в каких местах, в какое время, каким образом совершаются деяния, которым мы потом ужасаемся. Чтобы успешно бороться с отрицательными явлениями, надо их знать, надо их предвидеть.
Сколько происшествий больших и малых, трагических и обыденных случается во дворах, на улицах, на предприятиях, в квартирах. Поток информации огромен. И милиция должна его переваривать быстро и полно – не только принимать немедленные меры, но и анализировать сущность, сделать выводы на будущее. Этим занимаются в системе органов внутренних дел настойчиво и планомерно.
Поначалу все это казалось не совсем привычным. Руководители нового дела отступили от традиции. Они занялись не столько криминалистикой, сколько организацией. В министерстве появились люди, которые ни разу не участвовали в поимке бандита, зато знали теорию информации, вычислительные машины, методы анализа.
Когда «штаб», роль которого взяло на себя организационно-инспекторское управление, познакомился, как поставлен учет нарушений в одной из областей, выяснилось: каждый райотдел имеет свою картотеку правонарушителей – общую, кличек преступников, людей, попавших в вытрезвитель, и т. д. и т. д. Картотек много. Но вот задержали хулигана. Кто он? Час проходит, два, три, пять – ответа нет. Ищут по разным картотекам самым примитивным способом. Штаб ставит задачу – несколько минут, и личность правонарушителя должна быть установлена. Да, для этого и надо упорядочить систему первичной информации, расчистить каналы ее движения вверх и вниз, поставить все на научную основу, начать применять ЭВМ для обработки информации.
Конечно, никто и не предполагал дедуктивный метод или иные романтические способы поимки преступника сдавать в архив. Наука, трезвый расчет, глубокий анализ никогда не мешают ни порыву, ни творчеству, ни риску. Скорее наоборот – помогают, расчищают для них поле деятельности.
– Насколько оптимально используем мы свои силы и средства? – вот какой вопрос задала наука.
Проанализировали состояние преступности в Казахстане, где бурно растут города и рабочие поселки и высока степень миграции населения. В некоторых пунктах преступность оказалась выше средней по республике. Проверили силы, противоборствующие ей, – во всех этих пунктах сил и средств у милиции меньше, чем там, где обстановка благополучна.
Штаб любого соединения, готовясь к сражению, прежде всего перегруппировывает войска, создает резервы, усиливает главные направления и т. д. Без этого провести операцию нельзя. Значит, и органы внутренних дел должны действовать по четкому, заранее продуманному плану. Ведь борьба с преступностью – это не только единичный акт поимки конкретного преступника, но целый комплекс мероприятий, усилий, прогнозов, связей.
Население, города, хозяйство – все это растет в нашей стране бурно: за 20 лет – 500 новых городов и 1500 рабочих поселков, не шутка! Все хозяйство наше развивается по плану. Значит, надо строить и профилактическую работу, учитывая и освоение новых земель, и появление новых промышленных комплексов.
От многого привычного трудно отказаться, многое новое кажется надуманным. Но без этого нельзя. И, сменив форму, наша милиция меняет многие методы, представления, каноны. Новое, как говорят, властно вторгается в жизнь. Смысл его заключается в том, чтобы информация обо всем, что связано с правонарушением, поступала максимально быстро, чтобы были налажены координация действий всех служб и контроль за их деятельностью.
Ну, а если проще – чтобы моя милиция еще лучше меня берегла.










