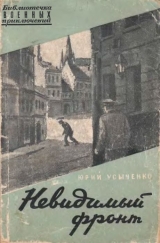
Текст книги "Невидимый фронт"
Автор книги: Юрий Усыченко
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Юрий Усыченко
Невидимый фронт
Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЯ

Альтиметр показывал три тысячи метров, а самолёт продолжал набирать высоту. Глухо, равномерно урчал мотор. Под машиной скорее угадывались, чем виднелись в ночной темноте бесформенные очертания редких, клубящихся облаков. В кабине становилось холоднее и холоднее.
Один из пассажиров – среднего роста, худой, с глубокими, как бы вырубленными топором морщинами на длинном угловатом лице и бледно-мутными неподвижными глазами, сказал, зябко пряча руки глубже в карманы форменной эсэсовской шинели:
– Сейчас – самый опасный участок пути. Двадцать минут мы должны лететь над территорией, занятой американцами.
– Я не боюсь опасности, – ответил тот, к кому обращался эсэсовец. – Но в общем эта поездка – глупейшее предприятие. Меня отрывают от важных дел в Кленове и посылают за несколько тысяч километров для того, чтобы выбрать из пленных офицеров генерала Андерса каких-то субъектов, которые всё равно не смогут сделать для нас ничего путного.
Эсэсовец состроил неопределённую гримасу, не желая дальше продолжать разговор на такую тему, и после некоторого молчания сказал:
– Смотрите. Это линия фронта.
Облака разошлись, под самолётом виднелась земля. Темнота не позволяла рассмотреть, что там внизу – поле, лес, обезлюдевший город, разорённый войной. Только изредка то тут, то там вспыхивали огненные точки – орудийные и миномётные выстрелы.
С земли вырос луч прожектора – бледно-прозрачный, упругий, как струя воды, направленная гигантским шлангом. Сделав несколько взмахов по горизонту, луч начал медленно, осторожно подкрадываться к самолёту. Вслед за первым прожектором зажглись ещё три. Их лучи соединялись, перекрещивались, расходились в стороны, потом опять сливались в одну серебристую широкую полосу, концом своим упирающуюся в далёкие, мигающие звёзды.
– Чёрт! – сказал эсэсовец, вынимая руки из карманов, – ему внезапно стало жарко. – Куда делись эти проклятые облака? Небо чисто, и нет ничего легче, чем нащупать нас.
Как бы в ответ на его слова один из лучей упёрся прямо в фюзеляж самолёта. Машину резко качнуло – лётчик сделал манёвр, пытаясь уйти от прожектора. И тотчас же почти под самой плоскостью медленно проплыли огненные разноцветные шарики – трасса снарядов скорострельного орудия.
На секунду серебристый луч остался где-то сзади, но самолёт был уже пойман вторым лучом, третьим. Тщетно лётчик крутыми поворотами, потерей высоты пытался выйти из ослепляющего перекрестия – прожектористы ухватили его прочно. А вслед за ними вошли в дело зенитчики. К самолёту со всех сторон потянулись трассы: оранжево-алые – крупнокалиберных пушек, тонкие, пунктирные, похожие на фейерверк – скорострельных, почти непрерывные, клонящиеся к земле струи – пулемётного огня.
В самолёте раздался дребезжащий треск. Сзади, недалёко от того места, где сидели пассажиры, появилось узкое, продолговатое отверстие с рваными краями. Острый, изогнутый, как серп, осколок застрял в шпангоуте. По кабине засвистел сырой пронизывающий ночной ветер.
Эсэсовец испуганно вскочил.
– Всё пропало! – закричал он. – Нас собьют.
Его спутник побледнел, поднялся со своего места. Это был невысокий, коренастый, длиннорукий человек. Неуверенными, судорожными движениями он старался поправить съехавший на бок парашют, потом, вспомнив что-то, спросил эсэсовца:
– Пилот и штурман знают, кто я такой?
– Да. Я сказал, что едет важный офицер гестапо.
– Зачем вы это сделали?
– Чтобы они особенно внимательно и осторожно везли нас.
– Глупости! Теперь нужно уничтожить и того и другого. В плену они меня выдадут.
Двое разговаривали быстро, стараясь перекричать друг друга в бешеном вое мотора, качаясь из стороны в сторону при неожиданных маневрах самолёта.
– Уничтожить их нельзя, – ответил эсэсовец. – Неуправляемый самолёт начнёт падать, и мы не успеем выпрыгнуть. А может, лётчику удастся произвести посадку. Это безопаснее всего...
Распахнулась дверь рубки пилота. На пороге появился штурман.
– Самолёт горит! – что было силы крикнул он. – Спасайтесь!
Вместо ответа длиннорукий выхватил пистолет и выстрелил в штурмана. Тот медленно упал лицом на жёсткий пол кабины. Самолёт накренился, и тело убитого откатилось в сторону, к сиденьям.
Почти не меняя позы, только повернув пистолет вправо, длиннорукий продолжал вести огонь – по эсэсовцу. Эсэсовец охнул, угловатое длинное лицо его с грубыми, точно прорубленными топором морщинами, приобрело недоумённое выражение. Бледно-мутные неподвижные глаза закрылись.
– Так будет вернее, – пробормотал длиннорукий. – Жаль, что нет времени расправиться с лётчиком.
Ещё раз поправив парашют, длиннорукий рванул дверь пассажирской кабины и прыгнул в холодную, сырую ветреную темноту...
Рядовой третьего взвода роты «Койот» Боб Деррей первый подбежал к парашютисту, спустившемуся с подбитого немецкого самолёта.
– Сдавайся! – крикнул Боб, как только парашютист очутился на земле. – Ты окружён!
Последнее Деррей прибавил для того, чтобы испугать немца и подбодрить самого себя. Окружать парашютиста было некому, если не считать самого Деррея. Но немец и не думал сопротивляться.
– Я майор германской армии Генрих Штафф, – на ломаном английском языке ответил он. – Я сдаюсь. Не стреляйте.
– Брось оружие! – приказал Боб и осторожно, не спуская пленного с прицела автомата, начал подходить к майору.
Штафф стоял, высоко подняв руки, стараясь всей позой и выражением лица, насколько это было возможно в темноте, показать своё миролюбие и беззащитность.
Подняв валявшийся тут же майорский «парабеллум», Деррей повёл добычу в штаб.
Но почти у самого края деревни, где расположилась рота «Койот», случилось неожиданное приключение, о котором Боб не раз вспоминал впоследствии.
Деррей медленно шагал вслед за майором, продолжая держать его под дулом автомата, когда сзади раздался хорошо знакомый голос. Боба окликнул Том Баунти – приятель из того же третьего взвода.
– Подожди, Боб, – просил Баунти. – Я тоже веду ночную птичку. Это немецкий лётчик. Его поймали зенитчики, а капрал поручил отвести в штаб мне.
Боб и майор замедлили шаги. Баунти с пленным догнали их. Увидев майора, лётчик начал яростно и быстро говорить, показывая на него.
– Что он хочет, Томми? – спросил Деррей.
– Он говорит, что этот майор – большая свинья, – ответил Баунти, который немного понимал по-немецки. – Когда они спускались на парашютах, майор стрелял по нему из пистолета. А еще раньше, в самолёте, говорит лётчик, майор, наверно, убил другого офицера и штурмана, потому что в машине их было четверо, а выпрыгнуло только двое.
– Вот скотина, – с сердцем пробормотал Боб и толкнул майора прикладом автомата в спину.
То ли немецкий лётчик счёл этот толчок за проявление сочувствия к своим словам, то ли не мог больше сдержать негодования, но он как-то странно всхлипнул, кинулся вперёд и начал что было силы молотить майора кулаками.
– Это ещё что такое! – воскликнул Том и хотел отбросить лётчика в сторону, но Деррей, взяв товарища за локоть, удержал его.
– Слушай, Том, – сказал Деррей. – Зачем тебе лезть в чужую драку? Какая беда в том, что два нациста немного поколотят друг друга? А до убийства мы не допустим.
– Твоё рассуждение не лишено смысла, – успокаиваясь, ответил Баунти. – Держу пари, что завтра, поглядев в зеркало, этот майор увидит нечто, очень напоминающее хороший сырой бифштекс.
Не опуская автоматов, солдаты наблюдали, как лётчик и майор катались по асфальту шоссе, щедро награждая друг друга оплеухами.
– Пожалуй, ты не совсем прав, Том, – глубокомысленно изрёк Деррей. – Лётчику тоже достаётся изрядно. Майор старше, но тяжелее, и у него длинные руки – как у гориллы. Во всяком случае у обоих – понятия о боксе никакого. Это не схватка джентльменов.
– Никакого, – согласился Баунти.
– Что здесь происходит?
Оба солдата вздрогнули. Они были так увлечены занимательным зрелищем, что не слышали, как подошёл офицер – лейтенант Мидльфорд.
Первым опомнился Деррей.
– Мы ведём пленных, спасшихся с немецкого самолёта, – отрапортовал он. – В дороге они захотели немного подраться, и... и мы им решили доставить это удовольствие.
Лейтенант осветил карманным фонариком майора и лётчика, которых Баунти тем временем успел разнять и поставить на ноги.
– Вы оба идиоты, – сердито сказал лейтенант. – Разве можно допускать, чтобы обер-фельдфебель бил майора!
– Но ведь это нацистский фельдфебель и нацистский майор, – не сдавался Боб.
– Всё равно. Так можно чёрт знает до чего дойти. Вы должны уважать всех офицеров, понимаете – всех.
Деррей хотел возразить ещё, но Мидльфорд крикнул:
– Ведите пленных! Довольно болтать.
– ...Вы понимаете, – говорил лейтенант Мидльфорд своим приятелям, рассказывая об этом случае. – Сегодня солдат разрешит нацистскому оберфельдфебелю бить майора, завтра солдат начнёт возражать мне. На пути к либеральным идеям важно сделать только первый шаг. Да и вообще среди нацистов, – мне приходилось по делам нашей фирмы бывать в Германии до войны, – есть очень приличные люди...
– ...Никак не могу сообразить, в чём дело. – сокрушался Боб Деррей, сидя под арестом, куда его отправили по приказанию Мидльфорда. – Ведь нацисты – в каком бы они чине ни были, – наши враги. Что же я этому майору кланяться должен?..
...Той же ночью, когда был сбит гитлеровский самолёт, офицер, назвавший себя майором вермахта Генрихом Штаффом, был отправлен в контрразведку армейского соединения.
Около недели его никто не беспокоил: комната без окон в тихом доме где-то на окраине города, регулярно сменяющиеся безмолвные часовые, короткие прогулки по маленькому, асфальтированному, огороженному со всех сторон высоким забором, двору. В сердце рождалась надежда. Может, о нём забыли? Может, так и будет до конца войны?
На восьмой день в комнату, вместе с часовым, вошел сержант и знаком приказал заключённому следовать за ним.
Они спустились вниз по широкой, отделанной дубом лестнице, миновали коридор. У двери, на которой была написана цифра 2, сержант остановился, постучал, затем так же знаком показал Штаффу, чтобы тот вошёл.
Лысый, обрюзгший человек в штатском сидел за небольшим лакированным письменным столом Не глядя на арестованного, человек медленно достал из ящика сигару, отрезал перочинным ножиком её конец, щёлкнул зажигалкой, закурил. Только после этого он, глубоко затянувшись, сказал, как бы продолжая начатый разговор:
– Вас погубило неумение владеть пистолетом. Лётчик, которого вы не смогли подстрелить, сообщил, что вы работали в гестапо. Остальное, хотя и не без трудностей, удалось установить. Вот, почитайте. Это облегчит нам дальнейшую беседу.
Небрежным жестом он бросил на стол переплетенную в жёлтую кожу папку.
Генрих Штафф взял папку. Человек в штатском внимательно следил за ним. Когда была раскрыта только первая страница, нацист вздрогнул всем телом. Глаза его стали пустыми, отсутствующими. Очевидно, он старался быстро взять себя в руки, найти путь к спасению.
С первой страницы папки на Генриха Штаффа глядела его же собственная фотография, снятая тридцать лет назад, а под ней фотокопия расписки, в которой студент кленовского университета Курепа обязывался быть тайным осведомителем контрразведывательной службы Австро-Венгерской империи.
Воспоминания вихрем пролетали в мозгу Штаффа. То, что когда-то тянулось неделями, месяцами, сейчас мелькало в памяти за секунды.
...Осенью 1913 года в кленовский университет поступил новый студент – Курепа. Отец его был одним из богатых хозяев в селе под Кленовом, имел лавку. Он дал взятку чиновнику австрийского министерства просвещения, ведавшему приёмом, поэтому Курепе удалось поступить в университет сравнительно легко, хотя для украинцев существовала строгая процентная норма – больше двух человек на сто студентов их не принимали.
В университете Курепа попытался войти в круг «золотой молодёжи». Отпрыску лавочника льстило быть на «ты» с графскими и баронскими сынками, он не жалел отцовских денег на кутежи в «избранном обществе». Родовитые друзья охотно принимали приглашения Курепы, хлопали его по плечу, говорили, что характером он настоящий дворянин. Отец Курепы тоже не возражал против такого времяпрепровождения сына. Он понимал, что высокие знакомства могут когда-нибудь очень и очень пригодиться сыну.
Словом, всё шло хорошо до одного случая.
Проходя университетским коридором, Курепа услышал знакомые голоса. Граф Казимир Дзендушевич и Стась Клонский, сын генерала, беседовали за тонкой дощатой перегородкой, отделявшей студенческую курилку от коридора.
– Понимаешь, нет денег, – жаловался Дзендушевич своему товарищу. – А завтра у Ядвиги день рождения. Надо во что бы то ни стало преподнести ей хоть букет.
Голос у графа был тонкий, пронзительный. Посторонний человек мог подумать, что говорит старая женщина.
– Плохо дело, – Клонский в противоположность собеседнику густо басил. – Без подарка нельзя.
– То-то и оно. У отца я все карманные деньги вперёд взял, больше старик не даст. Где теперь достать – не знаю. Хоть укради.
– Ба! – хлопнул себя по лбу Клонский. – Зачем красть. Воровать, ваше сиятельство, грешно. Я другой выход нашёл.
– Какой?
– Займи у этого мужика, у Курепы. Он даже рад будет – такая честь для него ссудить графу Дзендушевичу без отдачи.
– Верно, – обрадовался Дзендушевич. – Как я сразу не вспомнил!
Красный от злости, с трясущимися руками, отошел от стены сын лавочника. Подслушанный разговор открыл ему глаза на многое. Теперь он понял двусмысленные перемигивания и усмешки, с которыми встречали его приглашения «провести вместе вечерок» студенты из аристократического круга. Вспомнил и то, что ни разу не был ни у кого из них дома, хотя иногда прямо напрашивался на это. Вспомнил и то, каким холодно-презрительным взглядом окатила его сестра Дзендушевича, когда при случайной встрече в театре брат представил ей Курепу.
Мечты сына лавочника пробраться в «высший круг» рухнули.
В жилах Курепы текла кровь многих поколений деревенских хищников – кулаков, торговцев, шинкарей. С давних пор Курепы держали в своих руках всё село, с давних пор были известны жестокостью, коварством, настойчивостью в стремлении к наживе. Таким был и Курепа. Однако злоба, душившая его, не затемнила рассудка. Он понял, что надо найти другой путь, чтобы «выбиться в люди».
...И вот, тридцать лет спустя, переплетённая в кожу папка снова восстанавливает те давние события.
Правительство императора Франца-Иосифа строго следило за тем, чтобы в учебные заведения не попадали «неблагонамеренные» и в первую очередь «чернь». Одним из методов осуществления этой политики была строгая процентная норма для украинцев, остриём своим направленная против представителей «неимущих классов»: сыновья богатых, такие, например, как Курепа, всегда находили лазейку, чтобы обойти закон. Следовательно, попасть в университет или институт могли только дети состоятельных родителей, доказавших свою преданность монархии Габсбургов. Таков был почти полностью состав кленовского университета. Лишь очень редко попадались среди студентов дети неимущих родителей. В частности, к ним можно было отнести Леся Кравеца – однокурсника Курепы.
Отец Леся – почтовый чиновник, пятьдесят лет верой и правдой прослужил Австро-Венгрии. Безупречный послужной список отца помог сыну стать студентом университета.
Но Лесь не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. В университете он скоро приобрёл репутацию человека, сочувствующего идее единения Галиции с «Большой Украиной» и Россией.
Если в университете, среди помещичье-кулацких сынков и реакционных профессоров – верных слуг габсбургского режима, – Лесь Кравец был одинок, то у прогрессивной части интеллигенции города его имя начало пользоваться всё большей и большей популярностью.
Тяга к Москве, к Киеву никогда не прекращалась в массе коренного населения города – украинцев. На Русской улице, звавшейся так еще со времён седой истории, в частных кружках шло изучение русского языка, литературы, говорились пламенные речи о России. Эти настроения находили искреннюю поддержку и одобрение среди городского пролетариата и крестьянства, изнемогавшего под ярмом «тюрьмы народов» – Австро-Венгрии. Особенно ярко это проявлялось после революции 1905 года в России, когда передовые люди городов и сёл Западной Украины поняли, что единение с русским народом – самым революционным народом, – поможет освободиться от национального и социального гнёта.
Вместе с тем это движение было далеко не однородным. С действительно честными, прогрессивными людьми к нему примыкали, отдавая дань «моде», различные буржуазные либералы, часто – откровенные проходимцы. Какой-нибудь адвокат, потерпевший неудачу при попытке пробраться на должность государственного прокурора, вдруг громогласно заявлял о своей «оппозиции» к австро-венгерскому правительству, о «дружбе» к России и начинал вести дела «только украинцев», рассчитывая тем самым расширить круг клиентуры. Торговец вывешивал на своей лавке «лозунг» «Свой к своему» и требовал, чтобы покупатели брали товар только у него и ни в коем случае – упаси боже! – не у его австрийских, польских или еврейских конкурентов. Такие субъекты всячески афишировали свои «прорусские» настроения, помогали «единомышленникам» в карьере. На это последнее обстоятельство и надеялся Курепа, увидев, что аристократические знакомства не помогут ему найти тёпленького местечка после окончания университета.
Не откладывая в долгий ящик, Курепа сразу же отправился искать Кравеца. Тот сидел и читал возле окна в одной из пустых аудиторий. Лесь Кравец был юноша лет двадцати трёх, высокий, тонкий, несколько болезненный на вид.
– Добрый день, Лесь, – сказал Курепа.
Они учились вместе, но были очень далеки по своим интересам, знакомствам, настроениям. Им почти никогда не приходилось беседовать друг с другом. И приветствие Курепы удивило Кравеца.
– Добрый день, – сухо ответил Лесь.
«Что ему надо?» – подумал Кравец. Лесь никогда не симпатизировал Курепе, считая его бездельником и панским подхалимом.
– Слушай, Лесь, я знаю, ты не любишь меня за то, что я вожу компанию со всеми этими дзендушевичами да клонскими, – говорил Курепа, – а ты хоть раз пробовал поговорить со мной, рассказать, что надо делать, чтобы нам, украинцам, легче жилось?
«Что правда, то правда», – подумал Кравец.
– Тебе некогда такими вопросами интересоваться, ты всё с панычами кутишь, – сказал он вслух.
– Может, оттого я и связался с ними, что больше не к кому мне итти, а без товарищей что за жизнь!
«Говорит-то он красно, – думал Кравец, – а всё же не доверяю я ему. Свожу его один раз в кружок, там скучно ему покажется и отстанет. Отказывать тоже нельзя – начнёт болтать, что сборы у нас секретные, пускают на них только по выбору».
– Хорошо, – решил Лесь. – Сегодня мы пойдём к одному знакомому. Там будут читать книги, полученные из России.
Курепа сделался аккуратным посетителем кружков, где читали книги из библиотеки «Русской беседы», слушали лекции о русской культуре и истории. Проникнуть дальше, принять участие в политической деятельности он не мог – ему не доверяли. Курепа это понимал и ждал удобного момента показать свою «преданность» новым идеям.
Но тут началась мировая война.
Австрийское правительство сразу же обвинило в шпионаже и заключило в концентрационный лагерь Талергоф тех, кто хоть чем-нибудь проявлял оппозиционные настроения. Кравец по счастливой для него случайности остался на свободе. В то время его не было в Кленове, он гостил у родственников в селе. А может быть, до Кравеца просто не дошла очередь – количество отправляемых в Талергоф насчитывалось буквально тысячами, и жандармы не могли арестовать одновременно всех, недовольных цесарским режимом.
Что касается Курепы, так его только однажды вызвали в полицию и, прочитав отеческое внушение, отпустили.
– Вы еще молоды, – сказал седоусый с пушистыми бакенбардами начальник полиции, сидевший в большом кабинете под портретом Франца-Иосифа. – Мы щадим ваше будущее. Постарайтесь исправить свои ошибки, иначе...
Начальник поднёс к самому носу Курепы свой толстый, пожелтевший от табака указательный палец и внушительно покачал им в воздухе.
Курепа, не отрываясь, смотрел на палец полицейского. Кисть руки не шевелилась, двигался только перст – указующий и предостерегающий.
Из полиции Курепа вышел с тяжестью на сердце. Судьба разрушала все его попытки выбиться в среду хозяев жизни, не знающих ни забот, ни труда, ни преград своим желаниям, живущих роскошно и блистательно.
Либералы оказались слишком непрочной основой, чтобы на них строить своё благополучие. До тех пор пока разрешала власть, они кипятились, говорили речи, выдвигали проекты. Стоило появиться предостерегающему полицейскому персту, как рухнули планы, замолкли речи. Что ни говори, цесарская власть – единственная надёжная опора. Этот полицейский никогда не учился в университете, а всё же живёт и будет жить лучше, чем он, Курепа. Его окружает почёт, уважение, всеобщая боязнь.
Осенью 1914 года русские войска взяли Кленов. На балконах по старому еще средневековому обычаю были вывешены в честь праздника ковры. Толпа рукоплескала усталым, запылённым воинам. В магазинах появились объявления: «Здесь продаются самые лучшие русские товары прямо из Москвы».
Лесь Кравец с утра до вечера бегал по городу. Он устраивал пикники с русскими офицерами, благотворительные обеды в честь русских солдат, выступал на многочисленных собраниях, был одним из организаторов создания «Холма Славы» – кладбища, на котором похоронили русских, погибших при взятии Кленова.
В то время Курепа старался не встречаться с Кравецом. От былых «симпатий» к России у Курепы не осталось и следа.
«Чёрт их знает этих русских, – рассуждал сам с собой Курепа. – Пришли и уйдут, а за них потом отвечай». И он не торопился публично высказывать свои симпатии к русским, осматривался, выжидал.
События, как ему казалось, подтвердили правильность такой тактики.
Русские войска покинули город. Снова на улицах зазвучала немецкая речь, появились усатые венгерские гонведы с широкими бряцающими палашами, выхоленные гинденбурговские офицеры, рассматривающие мир через монокль, вставленный в презрительно прищуренный глаз. Прежняя власть вернулась.
И, глядя на толстых, сытых коней немецкой тяжёлой кавалерии, на пушки, которые, задрав к небу широкогорлые стволы, катились с грохотом на восток, слушая рокот «таубе», реявших над крышами Кленова, Курепа решил сделать серьёзный ход в жизненной игре.
Контрразведка по книгам представлялась Курепе тёмным, мрачным зданием со множеством закоулков, извилистых переходов, где снуют неведомые личности, скрывающие лицо под низко опущенными полями шляпы и высоко поднятыми воротниками пальто. На каждом шагу здесь спрашивают пропуск, и попасть в это таинственное место очень трудно.
В действительности всё оказалось гораздо проще. Солдат провёл Курепу в большую, солидно обставленную комнату и учтиво попросил обождать. Когда он вышел, Курепа бросил вокруг себя шарящий взгляд. Эта комната могла быть приёмной врача, адвоката, а то и просто гостиной в зажиточном доме. Кожаные кресла окружали широкий квадратный стол. На столе лежало несколько иллюстрированных журналов. Кожаный диван был совсем по-семейному покрыт белым полотняным чехлом.
Минут через пять Курепу позвали в кабинет.
Тощий, хлыщеватый офицер с напомаженными, сильно пахнущими одеколоном и гладко зачёсанными назад волосами чуть приподнялся из-за стола, отвечая на почтительный поклон Курепы.
– Курите? – спросил офицер. – Прошу вас.
Курепа открыл лакированную коробку с сигарами, не подозревая, что крышка посыпана тонким слоем порошка и теперь на ней остались отпечатки пальцев «гостя». Когда он уйдёт, отпечатки будут пересняты и останутся в архиве контрразведки.
– Чем могу быть вам полезен? – сказал офицер.
Курепа глубоко вздохнул, готовясь к длинной речи. Наступил решительный момент.
– Будучи истинным патриотом Австро-Венгрии, – произнёс он заранее обдуманные слова, – и верным подданным нашего обожаемого монарха, я решил сообщить вам о русском шпионе.
Курепа ждал, что офицер издаст восклицание удивления, радости, пусть даже недоверия – во всяком случае как-то выразит свои чувства. Этого не случилось. Ни один мускул не дрогнул на лице собеседника Курепы. Единственное движение, которое сделал офицер – потёр тыльной стороной руки щеку, пробуя, хорошо ли она выбрита.
Курепа не ожидал этого, смутился, замолчал.
– Ну? – наконец, спросил офицер, после минутной паузы.
– Что? – не понял Курепа.
– Его фамилия, приметы, адрес.
– Лесь Кравец. Высокий, блондин. Живёт на хуторе недалеко от деревни Маринив.
– Кравец? – в глазах офицера промелькнуло неуловимое выражение жестокости и злобы. Очевидно, эта фамилия была ему знакома.
«Ага, – подумал Курепа, – проняло тебя, всё-таки».
Но взор контрразведчика принял прежнее безразлично скучающее выражение.
– Хорошо, мы проверим, – сказал он. – Откуда вы узнали это?
– От его брата, которого встретил в Кленове.
Офицер встал, показывая, что беседа закончена.
– Ваши патриотические и верноподданнические чувства, – лицо офицера ясно показывало, что он ни на грош не верит ни в патриотизм, ни в верноподданничество своего собеседника, – делают вам честь, господин Курепа. Вы получите соответствующее денежное вознаграждение. Надеюсь, мы еще встретимся.
Эти слова оказались сказанными не даром. Через неделю Курепу вызвали в контрразведку.
На этот раз он вошёл в кабинет бодро и немного развязно, как старый знакомый. Но офицер сразу испортил настроение Курепе.
– Нам известно, что вы тоже принимали участие в кружках, где проводилась вредная для нашего правительства агитация, и даже были по этому поводу предупреждены полицией, – сказал он. – Вы, конечно, понимаете, что поступки, на которые мы не обратили внимания тогда, могут быть совсем иначе расценены сейчас...
Офицер сделал небольшую паузу, как бы давая возможность Курепе полностью оценить значение сказанных им слов.
– Вы во многом исправили свою ошибку, указав нам на преступника, – продолжал контрразведчик. – Кстати, он не шпион, говоря между нами, и будет сурово наказан только для устрашения других. Дело не в этом. Вы должны составить список тех, кто бывал вместе с вами и Кравецом на собраниях в тех кружках.
С этого часа Курепа стал штатным агентом австрийской контрразведки, и этот час определил всю его последующую жизнь.
...Об этом рассказывала папка, которую держал на коленях «майор Генрих Штафф», белые страницы её, казалось, набухли кровью, пролитой в многочисленных преступлениях, столько лет хранившихся в глубокой тайне.
...Курепа оказался одним из таких людей, которые требовались начальнику «особой службы» австро-венгерской армии капитану Максу Ронге. Без малейших колебаний Курепа отправил под расстрел Леся Кравеца, на смерть от голода, холода, побоев в Талергофе – всех, кого только смог оклеветать более или менее правдоподобно. Порвав со старыми знакомыми (друзей у него никогда не было), Курепа стал человеком без привязанностей и без родины.
Первое время ему давали мелкие провокаторские поручения, заставляли вести слежку за кем-нибудь из тех, кто интересовал контрразведку. Курепа бродил по кафе и ресторанам, вслушивался в беседы окружающих, часто сам принимал в них участие, чтобы ругнуть «проклятую немчуру», рассказать новый неприличный анекдот об императоре Вильгельме II. Если собеседник шёл на удочку и поддерживал Курепу, последний старался войти к нему в доверие, познакомиться с ним поближе, надеясь напасть на след тайной организации и прославиться её раскрытием. Как на грех, «крупная рыба» не попадалась. Антивоенные настроения распространялись всё шире и шире среди самых различных кругов населения, и отыскивать свои жертвы Курепе не доставляло особенного труда. Арестованных по доносам Курепы расстреливали, заключали в тюрьмы, но всё это была «мелкая сошка», поимка её не приносила Курепе желанной популярности среди коллег и славы у начальства.
Тем не менее он был на хорошем счету. Капитан Бинке – непосредственный руководитель Курепы – отмечал его беспощадность, злобность, неразборчивость в средствах. И капитан Бинке порекомендовал Курепу в школу диверсантов в Берлине.
Имя, прошлое, национальность – всё исчезало для тех, кто жил в небольшом трёхэтажном доме на одной из окраинных берлинских улиц. Даже внешность будущих шпионов старались сделать безликой, серой, ничем не выдающейся. Их учили одеваться в костюмы, наиболее распространённого цвета и фасона для той страны и того города, где придётся находиться; носить усы, если вокруг много усатых; бриться, если окружающие предпочитают не иметь растительности на лице. «Вы должны выглядеть так, чтобы могли двадцать раз пройти за день мимо одного и того же человека, не обратив на себя его внимания», – говорил своим ученикам один из инструкторов школы шпионажа, Ганс Роттер.
Жили будущие шпионы каждый в отдельной комнате. Разговаривать и вообще общаться между собой им строго воспрещалось. День за днём проходили в изучении радиодела, фотографии, шифров, техники диверсий.
Школу бывший кленовский студент Курепа оставил с паспортом коммерсанта из Монреаля Петра Безюка – канадского гражданина украинского происхождения. Из Германии его переправили в нейтральную Швецию, а оттуда в Канаду. Из Канады он уехал в Америку.
В Нью-Йоркском порту Курепа стал клерком одной из торговых фирм. Он следил за отплытием пароходов, за грузами, которые они везут в Европу. Сведения, им собранные, проходили много рук, но в конце концов попадали в германский военно-морской штаб, а оттуда – командирам подводных лодок.
Курепе везло. «ФБР» – американская контрразведка – догадывалась о его существовании, но где и как он работает, узнать не могла.
За эти годы у него выработалось профессиональное умение и изворотливость шпиона. Он был хладнокровен, быстро ориентировался в обстановке и от всей души презирал сыщиков. В той незримой войне, которая велась между ним и контрразведкой, он считал себя в более благоприятном положении. Имея деньги, он всегда мог найти в любом городе тайный приют, покровителей, сообщников. Опыт научил его предугадывать действия противников. «Они делают своё дело, а я своё, – говорил о контрразведчиках Курепа, – широкой публики это не касается и, если нужно, доллары всегда помогут мне скрыться».
Поражение кайзеровской Германии застало Курепу врасплох, но не надолго. В те времена о студенте-недоучке знал уже сам «таинственный полковник» Вальтер Николаи – руководитель немецкой разведки. Через доверенных людей Николаи дал Курепе приказ: возвратиться в Германию, жить на установленную ему пенсию, ждать дальнейших распоряжений.








