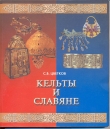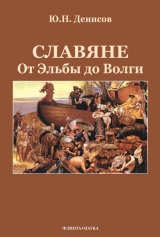
Текст книги "Славяне: от Эльбы до Волги"
Автор книги: Юрий Денисов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В 456 г. в правление Авита Западной Римской империей, точнее тем, что от нее осталось, король вандалов Гезерих завоевал Рим и ограбил город. Приск ничего не говорит о разрушении города, сообщая об этом событии всего одной строкой: «Авит царствовал в Риме, когда Гезерих ограбил этот город», и далее:
«Маркиан, царь восточных римлян, отправил посольство к этому правителю вандалов с требованием, чтобы он не делал нападений на Италию и возвратил уведенных в плен женщин царского рода, супругу Валентиниана и ее дочерей. Посланники возвратились без успеха. Гезерих не исполнил требований Маркиана и не хотел освободить тех женщин. Маркиан послал ему другие письма с посланником Бледой, который был епископом одной с Гезерихом ереси; ибо и вандалы христианского исповедания. По прибытии в Ливию Бледа, уверившись, что Гезерих не намерен исполнить требование Маркиана, говорил ему самые дерзкие речи и утверждал, что не будет ему счастья, если он, превозносясь настоящим успехом, не освободит плененных цариц, и тем заставит царя восточных римлян поднять против него оружие. Но ни кротость прежних речей, ни угрозы не могли склонить Гезериха к видам умеренным. И Бледа был отпущен без успеха. Гезерих послал войско в Сицилию и в ближайшую к ней Италию и опустошал их. Авит, царь западных римлян, также отправил к Гезериху посольство, напоминал ему о заключенном некогда мирном договоре и объявлял, что если Гезерих не будет его хранить, то и он должен будет готовиться к войне, полагаясь на свои силы и на помощь союзников. И в то же время отправил он в Сицилию патрикия Рицимера с войском» (86, 515).
В том же году восточные римляне нанесли поражение в Колхиде на Кавказе народу лазов, занимавших побережье Черного моря от реки Ингури до современного города Трабзона. Этот народ в то время разделился: одна часть подчинялась царю Говазу, другая – его сыну. Видимо, такая междоусобица подвластного народа наносила политический и экономический вред Византии, и римляне решили силой навести там порядок. По словам Приска, Говаз уступил свое царство сыну и согласился на определенных условиях прибыть в Константинополь с личным отчетом.
Майоран, следующий после Авита император западных римлян, в 460 г. решил нанести ответный удар вандалам в Ливии, с этой целью он заключил союз с вестготами Галлии и подготовил до трехсот кораблей для переправы в Северную Африку из Испании. Гезерих тоже подготовился к этому вторжению, опустошив «Маврусийскую страну, куда надлежало переправиться Майорану из Иберии. Он испортил и все тамошние воды» (86, 518). Это предприятие императора Майорана закончилось полным поражением для римлян, после которого он вынужден был отречься от престола.
Смерть Аттилы и последующий распад Гуннского государства вследствие междоусобицы его сыновей привели к тому, что подвластные гуннам народы вновь обрели свободу и стали проявлять интерес к территориям соседей, в том числе и Византии. Так, в 461 г. король остготов Валамер, или Тиудимир, отец Теодориха Великого, называемый Приском скифом, нарушил мирный договор с Византией и опустошил «многие города и страны римские», ссылаясь на недостаток продовольствия. Незаинтересованный в войне с остготами император Византии Лев I (457—474) вынужден был назначить дань золотом «по триста литр ежегодно, с тем чтобы он не делал более набегов на римские владения» (86, 519).
Пока Восточная и Западная Римские империи решали свои задачи по противостоянию вандалам, готам и другим, более незначительным противникам, на востоке назревала новая опасность, которая через сто лет заставит Византию нести огромные военные потери или дорого оплачивать свой мир на северных границах империи. Как пишет Приск под 463 г., «около сего времени к восточным римлянам отправлены были посольства от сарагуров, урогов и оногуров – народов, оставивших свою страну, потому что с ними вступили в бой савиры, изгнанные аварами. Последние были также изгнаны народами, жившими на берегах океана.
Таким образом, и сарагуры, теснимые другими народами, пришли к гуннам-акатирам и требовали у них земли. Они имели с ними много сражений, одолели их и прошли к римлянам, желая быть с ними в дружбе. Посланники их были приняты благосклонно, получили подарки от царя и от его приближенных и были отпущены» (86, 521).
Описывая под 464 г. прибытие посольства от персов к императору Льву I с претензиями по поводу притеснения на территории Малой Азии в византийской провинции Каппадокии огнепоклонников, так называемых магов, историк указывал, что персы настаивали, чтобы Византия участвовала «в поддержании крепости Юроипаах, лежащей при вратах Каспийских», оплачивала расходы по ее содержанию, либо держала там собственный гарнизон, а не обременяла Персию издержками по поддержанию этой крепости и охраны Дербентских ворот или, как называли их в те времена, «Гуннского прохода». Интересны исследования наименований этой крепости. Только у Приска она существует под двумя именами: Юроипаах и Уроисах, в комментариях к «Сказанию» Дестуниса приводятся названия этой крепости, взятые у Лида, – Вирипарах или Вирапарах. Как замечает Нибур, слово барах означает «дом, стоянка», а вира – «пустыня, развалины», т. е. это наименование можно перевести как дом отшельника, ну а в первом случае (Юроипаах) это будет дом Юрия. Если верить М. Аджи, именно здесь во времена императора Диоклетиана проповедовал и погиб св. Георгий.
Персы настаивали, что в случае завоевания гуннами Персии и Византийским территориям будет грозить опасность, но несмотря на эти предупреждения византийцы отказались нести бремя затрат по охране крепости. После того как сарагуры, соединившись с акатирами и другими степными народами, предприняли поход на Персию через Каспийские ворота, а получив отпор от защитников крепости Юроипааха, предприняли поход через Иверию (Грузию), вновь было прислано посольство царем персов Пирозом к императору Льву с той же просьбой, но снова получили отказ в какой-либо помощи.
Под 466 г. Приск отмечает военные действия между германцами скирами и готами. Скиры, как предполагает Шафарик, были до гуннов жителями Курляндии и Жмуди в Прибалтике. Затем вместе с Аттилой скиры переселялись и воевали по всей Европе, а по его смерти оказались в Нижней Мизии вдоль Дуная, от современного Белграда до Железных Ворот. В дальнейшем готы истребили скиров, по крайней мере, под своим именем этот народ больше нигде не упоминается. А Иордан при описании тех же событий дополняет, что скиров к войне с бывшими своими союзниками готами подстрекнули свевы.
В этот же год Приск отмечает прибытие к императору посольства от сыновей Аттилы, которые предлагали забыть все старые обиды и начать торговать между собой на берегах Дуная. Но гуннское посольство получило отказ, так как способствовать усилению слабого соперника было не в интересах императора Льва I. Братья Денгизих и Ирнах при получении отказа от императора поссорились между собой из-за различия во взглядах на ответные действия по отношению к Византии.
И все таки Денгизих провел акцию устрашения против римлян, встав вместе со своей армией на левом берегу Дуная. При этом гунны отказались вести переговоры с посланниками местного византийского главы фракийской территории и направили своих послов в Константинополь с требованиями выделения византийских территорий и денег, угрожая начать военные действия. Лев I, как и многие его предшественники, считал, что лучше откупиться, чем воевать. Византия согласилась с требованиями гуннов, но на тех условиях, что гунны становятся народом, подвластным императору.
Под 467 г. Приск описывает военные действия, которые происходили между византийскими отрядами и готами, которых тут же называет скифами, вполне возможно, потому, что среди них были гунны и другие народы. Византийским полководцам удалось победить готов хитростью, когда те уже собирались сдаться, терпя голод (далеко не всегда армия может себя прокормить с помощью грабежей окрестного населения) Но поскольку готы превосходили византийцев численностью, те опасались брать их в плен, обманом разделили готов на отдельные отряды, а затем уничтожили их. Весьма примечательна речь некоего гунна, командующего одним из отрядов византийцев, с которой он обратился к готам. Он сказал, «что даст готам земли, но не для них самих, а в пользу гуннов; что гунны, не занимаясь земледелием, будут, как волки, приходить к готам и похищать у них пищу; что готы, находясь в состоянии рабов, будут работать для содержания гуннов, хотя готское племя было всегда в непримиримой вражде с гуннским и предки его поклялись избегать во веки союза с гуннами» (86,530). Этой самой речью гунн-византиец посеял раздор между готами и гуннами большого отряда, который после этого практически сам себя уничтожил. По словам Приска, случай этот дает возможность оценить взаимоотношения гуннов и готов во времена правления гуннских царей.
Под 468 г. Приск описывает, что византийцы со своими союзниками лазами «были в сильном раздоре с суанами», под которыми надо понимать кавказских сванов, народность, населяющую одну из горных областей Грузии. Эти суаны отняли у персов, завоевавших в это время Иверию (Грузию), несколько замков, а персы, естественно, предъявили претензии лазам, в сферу влияния которых входили суаны. Император обещал снять с охранения Армении некоторые войска и отправить их на защиту Лазики. Почему при этом император не наказал сванов за проявленную инициативу, могут объяснить слова Менандра Протиктора (558—582): «Суания, – говорит он, – сама по себе страна незначительная, по выгодному своему положению, весьма полезна Римской державе, ибо препятствует персам нападать через нее в Колхидские пределы и разорять их» (86, 533).
Описанием этих суанов заканчиваются сохранившиеся фрагменты сказания Приска Панийского. Заканчивается и история гуннов, хотя византийские авторы еще долго будут называть степные народы этим именем. А на тех территориях, где совсем недавно правили гунны, вновь стали усиливаться племена остготов.
Европа V в. (карта)

Жизнь рабов в средневековых государствах
Все государства в Европе рассматриваемого периода были рабовладельческими. Условия жизни рабов в этих государствах, по всей вероятности, больших отличий не имели. Поэтому можно положиться на сведения, которые предоставляют античные и средневековые авторы и их комментаторы, об условиях жизни рабов в Римской империи.
Главным источником пополнения рабов были бесконечные войны. Историки называют огромное количество захваченных в этих войнах пленных, которое даже с учетом поправки на явное преувеличение составляло значительные трудовые ресурсы в рабовладельческих государствах. Пленные частично поступали в собственность воинов для обслуживания их домашних нужд, частично выкупались или обменивались противником, а большая часть продавалась землевладельцам. Рабы не обладали какими-либо правами в рабовладельческом обществе, а вот хозяин обладал над ними всей полнотой власти, был волен в их жизни и смерти.
До нашей эры в Древнем Риме рабы были заняты в основном в сфере ремесла, сельскохозяйственными работами занимались свободные и даже высокопоставленные граждане, настолько это занятие было почетным. В числе других авторов об этом сообщает Дионисий Галикарнасский ок. 477 г. до н. э., а заодно приводит данные о населении Римского государства в соответствии с последней переписью: «В это время, говорит он, – граждане, способные носить оружие, составляли ПО тысяч человек, согласно данным последней переписи. Что касается женщин, детей, рабов, торговцев и иностранцев, занимающихся ремеслами (ни один римлянин не имел права жить торговлей или ремеслом), то их число по меньшей мере в три раза превосходило число граждан» (12, 322).
Ссылка на данные переписи, приведенные Дионисием, делает более достоверными те значительные цифры, которые обычно приводят древние авторы. Однако противоположным примером может послужить количество погибших, приводимое историком I в. Иосифом Флавием при описании одного и того же восстания иудеев в Иерусалиме. Так, в одной своей книге «Иудейская война» он сообщает о 10 тыс. человек погибших, а в другой книге «Иудейские древности» – уже о 20 тыс. человек. Историк IV в. Евсевий Кесарийский, приводя сведения о тех же событиях, ссылаясь на того же Иосифа Флавия, сообщает о 30 тыс. погибших возле храма в Иерусалиме.
Уже в начале образования Римской республики количество рабов значительно пополнилось за счет разорившихся и перешедших на более низкую ступень общества граждан из-за грабительских ростовщических процентов, потерявших при этом свои владения, а также за счет большого наплыва пленных при завоеваниях и подчинении Риму населения Италии. Число рабов возросло, и их стали использовать в сельском хозяйстве по мере расширения земельной собственности. Внешние войны привили римлянам вкус к роскоши, а это способствовало увеличению потребности общества в рабах.
Историк Иосиф Флавий, перешедший на службу Римской империи после подавления римскими войсками восстания евреев в Иудее, сообщает, как распределялись по возрасту, полу и крепости сложения пленные евреи римскими солдатами и командующим римскими войсками Титом Флавием Веспасианом, сыном одноименного императора Тита Флавия Веспасиана (69—79): «Так как солдаты устали уже от резни, а между тем появлялись еще огромные массы иудеев, то Тит отдал приказ убивать только вооруженных и сопротивляющихся, всех же других брать в плен живыми. Но вопреки приказу, солдаты убивали еще стариков и слабых; только молодых, крепких и способных к труду они загнали на храмовую гору и заперли их в женском притворе. Надсмотрщиком над ними Тит назначил своего вольноотпущенника, а другу своему Фронтону он поручил решать участь каждого из них по заслугам. Последний (Фронтон) казнил мятежников и разбойников, выдававших друг друга, и выделил самых высоких и красивейших юношей для триумфа. Из оставшейся массы Тит отправил тех, которые были старше семнадцати лет, в египетские рудники, а большую часть раздарил провинциям, где они нашли свою смерть в театрах, кто от меча, кто от хищных зверей; не достигшие же семнадцатилетнего возраста были проданы…
Число всех пленников, за время войны, простиралось до девяноста семи тысяч, а павших во время осады было миллион сто тысяч. Большинство их было родом не из Иерусалима; ибо со всей страны стекался народ в столицу к празднику опресноков и здесь неожиданно был застигнут войной…» (37, 484). Корнелий Тацит уточняет число погибших евреев в Иерусалиме при этом событии, до шестисот тысяч человек.
Обычно рабы не имели права заводить семью, а значит, естественное воспроизводство рабов было ограничено. Причиной была низкая цена на рабов из-за большого притока новых пленных на продажу, а выкормить и воспитать ребенка, родившегося в рабстве, до трудоспособного возраста требовало больших затрат, чем приобретение взрослого раба.
Поскольку же процесс деторождения полностью исключить было невозможно, ненужных никому новорожденных выбрасывали просто на обочины дорог. В те далекие от нашей современной жизни времена такое отношение к новорожденным распространялось не только на родившихся детей рабынь, но на детей, появившихся на свет в семьях свободнорожденных граждан. Средств планирования семьи, подобных современным, в те времена еще не было, а зачастую тяжелая жизнь населения не позволяла заводить в семье лишние рты. Как сообщает Анри Валлон (1812—1904), в цивилизованном Риме «отец был абсолютным господином над жизнью своего ребенка. Для того чтобы новорожденный имел право на жизнь, он должен был быть признан и воспитан отцом» (12, 327). Отец мог продать своего ребенка, а мог и убить.
Такое отношение к несовершеннолетним детям было присуще не только римлянам, но и славянам, в том числе и русскому народу. Так, в русском языке согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера слово ребёнокпроисходит от слова робёнокв значении маленький роб, или раб. А слово отрок,которым именуется в наше время подросток, на древнерусском языке означало «слуга, работник»; в чешском языке и сегодня отрок – это раб. И все это время, начиная с рождения и до совершеннолетия, отец имел полное право распорядиться жизнью своего дитяти по собственному усмотрению.
Конечно, какое-то количество новорожденных рабов оставлялось в живых с согласия рабовладельца, когда это, скорее всего, происходило не без участия в процессе зачатия самого хозяина или его близких людей. Но родившийся от рабыни ребенок становился таким же бесправным рабом, как и она, если, конечно, хозяин не усыновит его. Даже если у рабыни появлялся ребенок от раба и хозяин в собственных интересах решал сохранить ему жизнь, то все равно раб не имел юридического права на своего ребенка. Отцовство у рабов не имело никакого отношения к законам. Употребление слов «отец» и «сын» для рабов могло существовать только как акт милости. Естественное родство с ребенком приобретало для отца правовой характер только вне рабского состояния.
В Римской империи как в западной, так и в восточной ее частях раб оставался рабом до конца жизни, если только рабовладелец не сочтет возможным предоставить ему свободу. Такой акт доброй воли хозяина сопровождался, по закону империи, уплатой налога, составлявшего одну двадцатую от цены раба. Раб, получивший законную свободу, становился гражданином государства, но гражданство это было как бы второго сорта. Хотя были прецеденты в истории, когда бывший раб добивался за счет своих заслуг высокого поста в государстве. Раб не имел права защищать свою жизнь, а следовательно, не мог иметь и боевого оружия. Правда, были рабы, которые специально проходили военную подготовку по применению того или иного орудия убийства для участия в гладиаторских боях на потеху публике. Знаменитое выражение: «Хлеба и зрелищ!» было для народа актуальным во все времена.
Восстания рабов, которые тоже имели место в истории каждого рабовладельческого государства, из-за отсутствия или утери со временем у рабов навыков военного искусства легко подавлялись армией. Исключительные случаи длительного противостояния рабов профессиональным воинам вошли в историю. Одно из таких восстаний рабов на Балканах известно под названием «движение скамаров». Восставшие, объединившись под командованием гепида Мунда, опираясь на союз с остготами, создали в Иллирике к началу VI в. собственное королевство, которое впоследствии распалось в первую очередь из-за привлечения Мунда императором к государственной деятельности и назначения его командующим одной из армий.
Производительность труда рабов была достаточно низкой, так как побудительным стимулом к ее повышению была только альтернатива жизни или смерти. А если учесть, что потогонная система труда приводила к преждевременной смерти рабов от истощения сил и болезней еще в трудоспособном возрасте, то этот стимул действовал плохо. Зато отсутствие, как правило, рабов, доживших до преклонного возраста, не создавало никаких хлопот их хозяевам. В тех немногочисленных случаях, когда раб как работник становился ненужным и его уже трудно было продать, человека предоставляли самому себе без всякой возможности прокормиться, кроме как воровством.
Довольно существенную разницу условий жизни рабов у германских народов, по сравнению с жизнью рабов у римлян, отметил древнеримский историк Тацит: «Рабов они используют, впрочем, не так, как мы: они не держат их при себе и не распределяют между ними обязанностей: каждый из них самостоятельно распоряжается на своем участке и у себя в семье. Господин облагает его, как если б он был колоном, установленной мерой зерна, или овец и свиней, или одежды, и только в этом состоят отправляемые рабом повинности. Остальные работы в хозяйстве господина выполняются его женой и детьми. Высечь раба или наказать его наложением оков и принудительною работой – такое у них случается редко; а вот убить его – дело обычное, но расправляются они с ним не ради поддержания дисциплины и не из жестокости, а сгоряча, в пылу гнева, как с врагом, с той только разницей, что это сходит им безнаказанно. Вольноотпущенники по своему положению не намного выше рабов; редко, когда они располагают весом в доме патрона, иногда – в общине, если не считать тех народов, которыми правят цари. Там вольноотпущенники возвышаются и над свободнорожденными, и над знатными; а у всех прочих приниженность вольноотпущенников – признак народоправства» (44, т. 1, 364).
Надо отметить, что Тацит приводит эти сведения в начале II в., когда германские племена еще не создали полноценных государств с явно выраженным классовым делением общества. Однако и в более поздние времена рабы у германских народов состояли в рабстве конкретный срок, чаще всего не более десяти лет, после чего их отпускали на свободу внутри данного государства.
Каким образом осуществлялась жизнь рабов в государствах сарматов, готов, которые только по наименованию титульной нации были германцами, а также гуннов, аваров, историки древности сведений не приводят. Разве только Приск Панийский сообщает, что у гуннов рабы имели право участвовать в военных действиях своих хозяев, а на приобретенные ценности, полученные в процессе грабежа побежденного народа, могли выкупить себя у рабовладельца. И еще то, что одним из видов наказания у гуннов для беглых рабов было распятие на кресте.
Марсельский пресвитер Сальвиан около 450 г. в своем сочинении «О мироправлении» сообщает, что условия жизни в Римской империи бедняков, хоть и свободнорожденных граждан, были настолько тяжелы, что, попадая в рабство к варварам, они больше всего боялись возврата к прошлой жизни. «Где и у кого, как не у римлян, можно найти такое зло? Чья несправедливость превышает нашу? Франки не знают такого зла; его нельзя встретить и у гуннов. Ничего подобного у вандалов, ничего подобного у готов. Это зло чуждо готам до того, что даже римляне, живущие среди них, не испытывают его на себе. Единственное желание всех римлян состоит в том, чтобы не пришлось опять когда-нибудь подпасть под римские законы» (75, 73). Однако если бы жить в рабстве у варваров было бы хорошо, то почему жители приграничных провинций Римской империи вместо того, чтобы защищаться от набегов этих варваров, все дружно не перешли к ним на жительство?
Археология позволяет сделать выводы, что большинство поселений V—VI вв., которые археологи считают славянскими, были без укреплений, а жилища представляли собой землянку, либо полуземлянку с приземистой надстройкой. Сарматы, готы, гунны, авары, болгары, венгры были скотоводами, жилища их чаще всего были передвижными, а стационарные тоже имели временный характер, так как содержать большое количество скота на одном месте долгое время невозможно. Приск Панийский, описывая путешествие византийского посольства к царю гуннов Аттиле, называет жилища гуннов шатрами или хижинами, хотя палаты самого Аттилы и его приближенных были из бревен. Поэтому трудно представить, чтобы рабовладельцы могли позволить своим рабам строить жилища, подобные царским. Следовательно, рабы сарматов, готов, гуннов, аваров, болгар и венгров, скорее всего, жили в землянках.
А на каком языке говорили рабы между собой и с хозяевами? Между собой, скорее всего, на жаргоне из смеси языков представляемых ими народов и языка, на котором общаются надзиратели и рабовладельцы. Для разговора с рабовладельцами рабы вынуждены были иметь небольшой, но обязательный запас слов на языке хозяина.
По сообщению Константина Багрянородного, склавины тоже разговаривали на славянском жаргоне (Σκλάβων διαλέκτψ). Слово διαλέκτψ на греческом языке имеет значение жаргона, или диалекта какого-либо языка. Поскольку в оригинале греческого текста не говорится о каком-либо языке: «Ζαχλοϋμοι δέ ώνομάσυησαν άπό όρους οϋτω καλου|μένου Χλύμου και άλλως δέ παρά τή τών Σκλάβων διαλέκτψ ερμηνεύεται τό Ζαχλοϋμοι ήγουν όπισω τοϋ βουνοϋ» (43, 148), то в переводе это должно звучать в следующем виде: «Имя же захлумы они получили от горы – так называемого Хлума, иначе говоря, на славянском жаргоне захлумы означает за холмом».
Время от времени рабовладельческие государства варваров, как их называли римляне, прекращали свое существование при завоевании этих государств новыми захватчиками с Востока или из-за неумения поддержать централизованную власть, как это произошло с сыновьями гуннского короля Аттилы, или из-за отсутствия военной силы для удержания покоренных народов, как это получилось с аварами после их поражения от армии франкского короля Карла Великого. В такие времена рабы, теряя своих старых хозяев, получали либо свободу, если поддерживали завоевателей, либо новых хозяев.
Самые значительные освобождения рабов, по всей вероятности, произошли после того, как рухнула держава Аттилы на бескрайних просторах Центральной и Восточной Европы. Именно это время, по мнению большинства историков, совпало с эпохой становления славянского народа. Бывшие рабы могли теперь работать на самих себя, а также обзавестись семьей, что, естественно, способствовало увеличению их численности.
Большинство народов Европы создавались на основе родоплеменного принципа.
Вот как представлял в 1829 г. такой принцип устройства общества у германских народов Франсуа Гизо: «В древней Германии надобно отличать всякое общество или, лучше сказать, двоякий способ общественного устройства, отличный и по принципам, и по своим результатам: устройства колена,племени, и устройство дружины.Колено (поколение, род. – Ю.Д.) –общество оседлое, образовавшееся из соседних собственников, живущее плодами своих земель и своими стадами. Дружина – блуждающее общество, образовавшееся из воинов, сосредоточенных вокруг вождя, или для отдельного набега, или для попытки счастья на чужбине, и живущее грабежом. Что такие два общества существовали вместе у германцев и были совершенно отличны, о том свидетельствуют Цезарь, Тацит, Аммиан Марцеллин, все памятники и все предания древней Германии. Большая часть народов, поименованных Тацитом в его «Германии», были коленами или союзами колен. Большая часть вторжений, разрушивших империю, в особенности же первые, были сделаны бродячими дружинами, вышедшими из среды колен для добычи или для приключений. Влияние вождя на свою дружину было ее связью; таково было ее начало, но она управлялась по общему совещанию: личная независимость и воинское равенство играли в ней большую роль. Организация колена была менее изменчива и менее проста. Говоря языком публицистов – политическая единица колена была не неделимое, воин, но целая фамилия и ее глава. Само колено или его часть, занимавшая какую-нибудь территорию, состояло из семейств и их глав, живших вблизи друг друга… Места жительства семейств германского колена не были сплошными, как в наших городах и деревнях, и не удалялись от полей. Глава семьи помещался в центре своих земель; сама семья и все работавшие с ней, свободные и несвободные, родственники, вольники, рабы, жили тут же, раскиданные там и сям, как и их жилища, по поверхности территории. Соприкасались одни владения различных глав семейств, но не их жилища» (76, 261).
Относительно славянских народов считается, что в основе их создания была общественная ячейка – задруга. В «Малом энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона есть соответствующая статья: «Задруга (Zadruga, Zadruzna Cuca) – небольшая община, состоящая из нескольких семей, связанных не столько родством, сколько связями экономическими и территориальными; особенно распространена среди южных славян сербо-хорватского племени. Основной принцип задруги – поглощение отдельных лиц коллективным лицом задруги, представителем которой является старейшина (domacin). У чехов, моравов, поляков и др. славян задруга существовала не далее XVI в.» (92, т. 2). Именно такой способ образования народа должен был быть свойствен освободившимся рабам, так как ни родственные, ни племенные связи в этом случае не имели места.
Созданные таким образом народы в начальной стадии вряд ли могли в достаточной мере производить все необходимое для своего существования. Поэтому одним из принципов выживания созданных таким образом обществ были грабительские набеги на территории более цивилизованных народов.
Если верно, что венеты и произведенные от них народы были прежде рабами, то становится понятным, почему ранее совсем не воинственные и покорные королю готов Германариху эти народы в VI в. стали такой угрозой для цивилизованного мира. Вот как это описывает Иордан: «Венеты разделяются на три части: венетов, антов и склавен (славян); все они теперь, за грехи наши, свирепствуют против нас» (75, 202). Пояснение, что склавены являются славянами, сделано переводчиком К.К. Мироу в XIX в.
Анты привлекались Византийской империей в качестве федератов и охраняли северо-восточные границы империи за определенную плату от набегов то ли остатков гуннов, то ли тех же гуннов, но под названием болгар. При дальнейшем завоевании территорий Центральной и Восточной Европы аварами анты были уничтожены, их остатки стали либо вновь рабами, либо, перейдя Дунай, попросили убежища у византийского императора.
Император Маврикий (582—602) в своем произведении «Стратегикон», приводя сведения о склавах и антах, сообщает о них как о разбойниках, которые не склонны стать чьими-либо рабами, что, вероятно, было связано и с их недавним освобождением от рабства у гуннов.
«Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам; свободные, они никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи. К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их поочередно с места на место, куда бы тем ни было нужно; так что, если гостю по беспечности принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как свободные люди и друзья. У них множество разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и полбы. Жены же их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существование во вдовстве. Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых озер, устраивая много, с разных сторон, выходов из своих жилищ из-за обычно настигающих их опасностей; все ценное из своих вещей они зарывают в тайнике, не держа открыто ничего лишнего. Ведя разбойную жизнь, они любят совершать нападения на своих врагов в местах лесистых, узких и обрывистых. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными нападениями и хитростями, ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки… Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремятся, ни показаться в местах открытых и ровных не желают… Они вообще вероломны и ненадежны в соглашениях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как господствуют у них различные мнения, они либо не приходят к соглашению, либо, даже если и соглашаются, то решенное тотчас же нарушают другие, поскольку все думают противоположное друг другу и ни один не желает уступить другому… Поскольку у них много вождей и они не согласны друг с другом, нелишне некоторых из них прибрать к рукам с помощью речей или даров, в особенности тех, которые ближе к границам, а на других нападать, дабы враждебность ко всем не привела бы к (их) объединению или монархии» (34, 87).