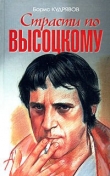Текст книги "Друзья Высоцкого"
Автор книги: Юрий Сушко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Впрочем, вовсе не обязательно допуском в «ближний круг» должны были быть оригинальные стихи, песни, необычные картины, которыми удивляли Володя Акимов и Жора Епифанцев, актерские успехи Севы Абдулова или рассказы Гладкова о поимке опасного преступника.
«Круг Левушкиных знакомств был весьма пестрым, полярным и многоплановым, – рассказывал Анатолий Утевский, который, собственно, и привел своего сокурсника Кочаряна на Большой Каретный. – Некоторые его приятели составляли далеко не самую интеллектуальную часть общества. Скорее, они примыкали к криминогенной, авантюрной его части… Кое-кого знал Володя Высоцкий, которому тогда весьма импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко зарабатывать деньги и так же лихо, с особым шиком и куражом прокутить их. Днем они занимались какими-то сомнительными делишками, а вечером собирались в модных тогда ресторанах «Спорт», «Националь», «Астория», «Аврора». Эти ребята, несмотря на принадлежность к блатной среде, были фигурами своеобразными, добрыми по своей натуре и обладавшими чертами справедливых людей. Авторитет Левы у них был огромен».
«Мы были знакомы со знаменитой компанией «урки с Даниловской слободы», профессиональными «щипачами», – со смаком вворачивал «феню» в свой рассказ Артур Макаров. – Хотя Володя никогда в «блатных» делах «замазан» не был, он знал довольно серьезно и крепко людей из этого мира, хорошо знал. Некоторые из них очень любили его, и он их тоже, надо сказать».
Свой человек я был у скокарей,
Свой человек у щипачей,
И гражданин начальник Токарев
Из-за меня не спал ночей…
Наиболее яркой фигурой был легендарный московский вор Миша Ястреб, который непременно посещал Большой Каретный (в перерывах между отсидками). Судьба его была страшная, но типичная для послевоенных лет. Воровать начал с голодухи – отца расстреляли по «ленинградскому делу», мать спилась. Позже, «выставляя» номенклатурные «хаты», он называл себя Робин Гудом, народным мстителем. Непререкаемый авторитет среди воров почитал за честь посидеть за одним столом с занятными ребятами с Большого Каретного.
«Мы жили в том времени, – говорил Артур Макаров. – В послевоенные годы страна была захлестнута блатными веяниями… У нас в школах и во всех дворах все ребята часто делились на тех, кто принимает, грубо говоря, уличные законы, и тех, кто их не принимает, кто остается по другую сторону. В этих законах, может быть, не все было правильно, но были и очень существенные принципы: держать слово, не предавать своих ни при каких обстоятельствах. Законы были очень жесткими. И это накладывало определенный отпечаток на наше поколение, на нашу судьбу… Практически все владели жаргоном – «ботали по фене», многие тогда даже одевались под блатных…»
От общения с Макаровым, фигурой характерной, мощной и очень амбициозной, у многих оставалось двойственное впечатление. Даже сама его внешность была необычной, в его облике было что-то жесткое, даже уголовное: маленькие глаза, почти всегда закрытые темными очками, волевой подбородок… В Артуре было какое-то своеобразное мужское, «суперменское» обаяние. Он во многом копировал вальяжность и ироничность Сергея Аполлинариевича Герасимова. Артур подражал отчиму, который определенно был пижоном и эстетом. Все сходились во мнении, что в Артуре присутствовало нечто западное, и это ощущалось во всем, например в манере одеваться. Первые настоящие джинсы в Москве появились именно у него, потом какая-то шикарная куртка, необычный кепарик. Но он не был тем пижоном, которому хотелось дать по морде. У него был свой стиль, своя повадка, своя походка, свой прищур. И была удаль. Он был мужчиной, большим и красивым. Хотя Василий Шукшин выпятил в нем другое, когда снимал Макарова в роли одного из бандитов в «Калине красной». В своей киноповести Василий Шукшин карикатурным мазком пригвоздил героя Макарова – «некий здоровый лоб, похожий на бульдога. Кличку носит соответствующую – Бульдя, Бульдог». «Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри – читай «Мурзилку» и дыши носом».
Как и многие ровесники, Артур был слегка ушиблен «папой Хэмом». По мнению писателя Михаила Рощина, «Артуру нравился этот образ, и в некотором смысле он работал над этим… Хорошо подражает тот, в ком есть соответствующая мужская закваска… Артур… был нормальный парень, выпивоха, компанейщик. Когда мы утром изнывали с похмелья и денег не хватало даже на пиво, он мог взять в своем богатом доме какой-нибудь магнитофон и тут же продать его официанту…»
«Взгляды героев Хемингуэя, которым мы зачитывались, – подтверждал Игорь Кохановский, – исподволь становились нашими взглядами и определяли многое: и ощущение подлинного товарищества, выражавшееся в формуле «Отдай другу последнее, что имеешь, если другу это необходимо», и отношение к случайным и неслучайным подругам, с подлинно рыцарским благоговением перед женщиной; и темы весьма темпераментных разговоров и споров, а главное – полное равнодушие к материальным благам бытия и тем более к упрочению и умножению того немногого, что у нас было». А классик молодежной прозы 60-х Василий Аксенов вообще полагал, что «именно Хемингуэй в большей степени ответственен за пьянство моего поколения». Но это так, к слову.
Творческая судьба каждого из них, бытовые проблемы и неурядицы были общей заботой всех. «Вовчик-дебюта» показывается в «Современнике» – все гурьбой на спектакль. А Высоцкий не остается в долгу и прямо со сцены несет отсебятину, по ходу меняя имена героев пьесы Розова «Гнездо глухаря» на фамилии и прозвища друзей, сидящих в тот вечер в зале: «Вся эта ростовская шпана – Васька Резаный, Левка Кочарян, Толян Утевский…»
Макаров горой стоял за своих товарищей. Используя при этом свои, специфические средства. Все знали: ему ничего не стоило дать кому-нибудь в рыло. Как-то после первого закрытого просмотра «Андрея Рублева» Артур, услышав от одного известного актера нелестные отзывы о картине Тарковского, мигом отволок негодника в сортир и избил. В мае 1964 года, когда Высоцкий прогулял все праздничные выступления в театре, вспоминала Людмила Абрамова, Арчик обидел его, но с самыми добрыми намерениями: «Если ты не остановишься, то потом будешь у ВТО полтинники на опохмелку сшибать». И Володя потом понял, несколько раз возвращался к этому: «Да, я понимаю… Меня нужно было чем-то задеть». В педагогическом арсенале Макарова были и иные, не менее эффективные приемы.
Кочаряновские посиделки Макаров нередко использовал как благодатную аудиторию для своих «идеологических» проповедей. Высшей ценностью был культ брутальной силы – как теперь говорят, «мачизм», – пренебрежительное отношение к женщине как к существу низшему, подчиненному, мужская солидарность, которая проявлялась и в застолье, и в драках, и в «разборках». Артур, пользуясь положением старшего в «первой сборной», внушал молодым, что девушки, чувствуя такое отношение к себе, «сами начинали к себе по-другому относиться… Шалава? Ничего оскорбительного. Шалава – это было почетное наименование, это еще надо было заслужить».
Усек, Вовчик?.. Понял. И словно под диктовку, рождались строки:
Рыжая шалава, от тебя не скрою,
Если ты и дальше будешь свой берет носить,
Я тебя не трону, а в душе зарою
И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть!
Наивная, но искренняя Иза, первая жена Высоцкого, легкомысленно определяла свое положение в мужском коллективе: «Кто-то что-то писал, кто-то сочинял музыку, и всё горячо обсуждалось. Плыл сигаретный дым, бутылки водки хватало на всю ночь всей компании, нехитрая закуска из ближайшего овощного (икра «заморская баклажанная», морковь маринованная) – разговоры до рассвета. Их мужские проблемы мало занимали меня. Вкрадчиво возникала мелодия сонного адажио, и тогда укладывали меня на диван и укрывали жесткой, пахнущей дымом и шерстью буркой. И переходили на шепот. Блаженно было засыпать в этом теплом мире заботы и нежности…»
Вполне возможно, прочих подруг столь же беспечно мало занимали «их мужские проблемы», а посему расставались с ними легко и без особых сожалений.
Владимир Высоцкий знал, что подарить другу на день рождения, и 22 июня 1963 года он исполнил для Артура и всех гостей свою новую песню «Я женщин не бил до 17 лет»:
…С тех пор все шалавы боятся меня,
И это мне больно, ей-богу!
Поэтому я, не проходит и дня,
Бью больно и долго,
Но всех не побьешь, – их ведь много…
Впрочем, жену себе Артур Сергеевич, человек решительный, выбрал стремительно и безошибочно, разглядев в 18-летней Миле будущую верную спутницу и преданного друга. Вплоть до самой свадьбы невеста знать не знала, из какой именитой семьи ее будущий муж. Впрочем, и потом, на протяжении всего 35-летнего официально длившегося брака, она многого не знала о жизни Артура.
Тот самый культ силы, который исповедовал Макаров, здесь никто не осмелился бы оспорить. Многие из ребят занимались боксом – и Кочарян, и Макаров, и Юрий Гладков. А Эдик Борисов, который появился в компании чуть позже, и вовсе был чемпионом Союза. По мнению тренеров, Артур вполне мог бы тоже стать хорошим боксером, у него был отличный удар и кураж. Но спорт как таковой его не очень интересовал, он просто учился драться.
Левон Кочарян, как рассказывали друзья, обладал просто невероятной природной силой, но пускал ее в ход только в том случае, когда его к этому вынуждали. «Если в его присутствии кого-то обижали, он немедленно бросался на защиту, – рассказывал Утевский. – Лева хорошо дрался головой, он действительно как бык шел напролом…» И друзья всякий раз оглушительным хохотом сопровождали песню, которую пел Высоцкий:
Я здоров, к чему скрывать, —
Я пятаки могу ломать,
Я недавно головой быка убил,
Но с тобой жизнь коротать —
Не подковы разгибать,
А прибить тебя – моральных нету сил!..
Когда Макаров получил квартиру на Звездном бульваре, он попытался продолжить кочаряновские традиции, но по-своему. Было организовано королевство во главе с Арчем-1 «Единственным». Олега Халимонова он назначил начальником королевской гвардии, Владимира Высоцкого, естественно, главным трубадуром, Андрея Тарковского магистром искусств, а Тито Калатозишвили – королевским прокурором. Взрослые уже мужики дурачились: приняли устав королевства, сделали печать. Провозгласили, что королевство находится везде… Что члены королевства имеют только права… Что королевские бдения происходят не реже одного раза в месяц… Ну, и так далее. Разумеется, эти ребячьи игрища и забавы продолжались недолго.
Потом, когда у одних пошла, у других – нет кой-какая печатная, экранная, сценическая, выставочная судьба, когда многие уже показали свои острые зубы и многие уже получили по этим зубам, а время ожидания, оживления замерло, постепенно, естественным образом начался распад прежде сплоченного товарищества: реже стали собираться, потребность в устных «публикациях» исчезала. У каждого появились свои дела, определялись собственные судьбы.
Журналистская поденщина в АПН тяготила Артура Макарова, и со свойственным ему упорством он стремился заняться настоящей Литературой. «Артур принес пронзительный и свежий рассказ о деревенском житье-бытье, которое наблюдал буквально из окна, – вспоминал Михаил Рощин, который в ту пору работал редактором отдела прозы журнала «Новый мир», – и в один день стал знаменитым… Рассказ Артура очень складно попал в эту волну… Макаров рано и удачно нашел свой стиль, покойно-размеренный, тургеневски-ясный, размеренный, как охотничья поступь по лесу, по бережку, по закраинам болот и т. п. Читать его приятно и спокойно».
Его прозаический дебют состоялся в августе 1966 года, когда ему уже стукнуло 35. Но зато какой это был дебют! Рассказ Макарова «Дома» был удостоен чести быть опубликованным в юбилейном, 500-м номере журнала. В том же году в октябрьской книжке журнала появился еще один рассказ Артура Макарова «Накануне прощания», от которого пришел в восторг сам главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский.
А уже в марте следующего года Секретариат Союза писателей СССР вынес вердикт об «идейно-художественных просчетах и недостатках журнала «Новый мир». В ряду авторов, «односторонне освещающих нашу действительность, обедняющих советского человека», рядом с именами Александра Солженицына, Бориса Можаева значилась скромная фамилия Макарова. Так он получил «волчий билет» в официальную советскую литературу.
Артур купил избу в глухой деревеньке Заборовке на Верхней Волге и зажил обычной жизнью сельского мужика: плотничал, промышлял охотой и рыбалкой, в качестве внештатного рыбинспектора гонял браконьеров.
И продолжал писать, но «в стол». Из рассказа «Придурки»: «…И я думал и думал о том, как же случилось, что столько крови, ненависти и слез дали неумолимо выжать из себя люди во имя того, чтобы земля, за которую уплатилось столь жестокой ценой, заросла хламными породами деревьев, затянулась ржавой водой. Как явилось, что в исконно русских краях удачливое воровство ныне ставится много выше труболюбия, агрессивное хамство возвысилось до норм поведения, таимая прежде жестокость стала обыденной. Как?..»
Лишенный выхода на издательства и в «толстые журналы», он вскоре занялся непростым, но весьма прибыльным литературным промыслом – писанием киносценариев. Слава богу, в кинематографических кругах знакомств с головой хватало. Для начала принялся «окучивать» среднеазиатские киностудии. За фильм «Служу Отечеству» даже был удостоен Государственной премии Узбекской ССР.
«Я с ним и при жизни ругался и сейчас могу повторить, что он зря расходовал себя на кино, на то, что сейчас называется «экшн», – рассказывал все тот же Михаил Рощин. – Он мог вырасти в очень интересного прозаика, если бы меньше мотался по студиям страны… Не одному ему надо было зарабатывать…»
Андрей Тарковский на сей счет высказывался еще жестче: «…Пробуждают во мне сочувствие те художники, поэты, писатели, которые полагают, что они попали в ситуацию, когда «работать» для них становится невозможным… Чтобы выжить, требуется немногое. Но зато ты свободен в своей работе. Издаваться, выставляться – это, конечно, необходимо, но когда это становится невозможным, для каждого все же всегда остается самое существенное – возможность заниматься творчеством, не дожидаясь чьего-либо разрешения… Если писатель, невзирая на свой талант, прекращает писать, потому что его не издают, он и не писатель, собственно. Воля к творчеству отличает художника от нехудожника, и это решающий критерий для истинного таланта…»
Работая в киноэкспедициях, Макаров по-прежнему близко к себе никого не подпускал. Да и коллеги сами сторонились. Он тихо появлялся на съемочной площадке, тихо уходил. Но иногда взрывался в гневе. Во время съемок «Новые приключения неуловимых» вдрызг разругался со своим соавтором, режиссером-постановщиком Эдмондом Кеосаяном, с которым дружил еще со времен Большого Каретного. Скандал вышел жуткий. Кеосаян даже попытался самостоятельно переделать сценарий, чтобы убрать из титров фамилию Макарова.
Один из главных принципов, которые внушал своим друзьям Левон Кочарян, – взаимовыручка, а в работе – артельность. Попавший в «обойму» по возможности должен был, как ведомый, пытаться впрягать в общую телегу друзей. Кочарян наглядно показывал всем, как следует поступать. Работая в картинах «Увольнение на берег», «Живые и мертвые», он правдами и неправдами проталкивал без всяких проб, пусть даже на эпизодические роли, Владимира Высоцкого.
По мнению кинорежиссера Геннадия Полоки, Высоцкий тоже всегда вносил дух бригадной работы, располагающей доброты, которая открывала людей, хотя он и знал, что «общая телега тяжела». А случись беда, кто-то из близких ему людей заболевал, Владимир бросал все и занимался добываем дефицитных лекарств, устройством захворавшего человека в больницу, вызванивал лучших врачей и пр. И безумно обожал делать подарки.
Они старались покрепче держаться друг друга, особенно в трудные минуты. В период опалы и вынужденного простоя Андрея Тарковского после «Андрея Рублева» Артур Макаров предложил режиссеру идею нового фильма. И они сочинили сценарную заявку под названием «Пожар». Главным героем был цирковой гимнаст, который участвует в ликвидации пожара на нефтепромысле. Предполагался авантюрный фильм катастроф с множеством трюков и спецэффектов. Прочитав синопсис, Высоцкий сразу заявил о едва прописанном циркаче:
– Эта роль – для меня!
За идею ухватился режиссер Геннадий Полока. Но по разным причинам киностудии от реализации идеи сценаристов отказались.
Долго лежала без движения другая кинодрама Артура Макарова – об отважном рыбинспекторе и его непримиримой войне с браконьерами. Тарковский посоветовал своему вгиковскому приятелю Александру Гордону: «Хорошо было бы тебе его поставить…» Гордону сценарий понравился: «Все было написано не только с любовным отношением к русской природе, но и с явным знанием преступного мира». Молодой режиссер долго и упорно предлагал сценарий в разные объединения, однако он везде был непроходным из-за скрытых намеков на связь браконьеров с местной милицией, то есть с властью.
В мутные годы дотаганковской биографии Высоцкого друзья, по мнению Люси Абрамовой, любили его, но с жалостью. Творческого человека талант изнутри раздирал. А тут безденежье, беспомощность, обломы на каждом шагу…
Понимая ситуацию и пользуясь своим непререкаемым авторитетом, Левон Кочарян буквально приказал своему приятелю, кинорежиссеру Эдмонду Кеосаяну, который запускался с фильмом «Стряпуха», взять Владимира в картину:
– Кес, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Ты должен взять в свой фильм Володю!
– Лева, что я тебе плохого сделал?! Это же камень на мою шею! Взять человека и воспитывать его!
– Ты должен! И будешь ему, если надо, и режиссером, и опекуном, и отцом!
Кес, само собой, не осмелился ослушаться старшего. Жена Кочаряна Инна позже рассказывала, что отношения у Высоцкого с Эдмондом складывались сложно: «Кеосаян два раза выгонял Высоцкого. И Лева дважды уговаривал Кеосаяна снова его взять. Мы получили очень интересное письмо от Володи… Это письмо было стилизовано под чеховский рассказ «Ванька Жуков»: «Дорогой Левон Суренович, приезжай поскорее, Кеосаян бьет меня селедкой по голове…»
Более того, режиссер, словно в отместку Высоцкому за шалости, решил озвучить его героя голосом другого актера, чтобы перекрашенного в блондинчика Владимира на экране и вовсе никто не узнал. «Когда вся эта история закончилась, торжествовал Кеосаян, мы у Левы устроили «суд чести», и должен сказать, что Володя признал свою ошибку. Убогая (по драматургическому материалу) роль положительного героя мало помогла Высоцкому, и он с горечью говорил друзьям: «Опозорился, испачкался, а положения не получил. И зачем только я шел на этот компромисс?!.»
В 1965 году молодой директор Одесской киностудии Геннадий Збандут пал под напором фронтовика-десантника Григория Поженяна и разрешил ему самостоятельно поставить фильм «Прощай» о героической операции по захвату в конце войны немецкого морского конвоя. Поэт Поженян был великолепным режиссером по жизни. Но режиссер кино – профессия особая. На помощь другу в качестве спасательного круга пришел всё могущий Левон Кочарян. Пока снимали «Прощай», у Кочаряна, наслушавшегося всяческих историй, былей и баек о героях-черноморцах, возникла идея самому снять лихой приключенческий фильм о войне, о моряках торпедных катеров, совершавших дерзкие вылазки к оккупированному Севастополю.
Вернувшись из киноэкспедиции, Левон вместе с Артуром Макаровым принялись сочинять сценарий. Потом друзья подключили к работе Андрея Тарковского, который переживал далеко не лучший этап в своей жизни. После триумфа «Иванова детства» на Венецианском фестивале начались злоключения с «Андреем Рублевым», вплоть до полной приостановки картины. Полное безденежье плюс развод с женой, отсутствие жилья (свою квартиру он, естественно, оставил Ирме), вынужденное проживание у Кочарянов.
С приходом Тарковского история о лихих торпедниках постепенно превратилась в рассказ о группе десантников, попавших в глубокий тыл врага. Увлекшись, соавторы принялись придумывать фантастические трюковые эпизоды, в которых Кочарян как раз был дока.
– Ребята, это должна быть наша, советская «Великолепная семерка», – убеждал Тарковский, – только не на лошадях, а на автомашинах, велосипедах, самолетах и катерах!
При утверждении сценария и Левона Кочаряна в качестве режиссера Збандут предложил Тарковскому стать художественным руководителем постановки. Тот согласился, подписал договор, получил аванс, связав себя, таким образом, с фильмом намертво. И материальными, и моральными обязательствами.
Режиссер-постановщик на съемочной площадке – это как капитан на корабле, царь и бог. Мудрый Кочарян, получив возможность впервые самостоятельно поставить картину, решил превратить будущие съемки в увлекательную экспедицию, в «предприятие друзей», коллективное приключение. Он, как добрый волшебник, взял и одним махом переселил компанию с Большого Каретного на южный берег Крыма. Кроме профессиональных актеров: Николая Крючкова, Анатолия Солоницына, Жанны Прохоренко – в киногруппу он включил стармеха Олега Халимонова, колоритного юриста Анатолия Утевского, врача-радиолога Аркадия Свидерского, каскадера Олега Савосина и других знакомых ребят. Юрий Гладков от съемок гордо отказался, сказав, что в роли фашиста сниматься не станет. В фильме должен был сниматься и Владимир Высоцкий, но в тот момент он был занят на съемках фильма «Служили два товарища», а главное – у него вовсю полыхал роман с Мариной Влади.
На съемках в Крыму было весело и бесшабашно, на каждому шагу каждый старался импровизировать, выдумывая какие-то дикие трюки, предлагая новые сюжетные повороты. С приходом зимы художественный руководитель картины Андрей Тарковский уехал в Москву, полагая, что съемки надо законсервировать до следующего лета. Но Кочарян не сдавался, каждый день упрямо назначая съемки. Выходили на катере в бушующее море, пытались снять «летние» сцены, убирали снег с крымских скал, чтобы снять хотя еще один кадр. В конце концов киногруппа вернулась в Одессу, и здесь Кочарян почувствовал себя плохо, во время досъемок у него заболело в паху.
Диагноз потряс: рак, медлить нельзя. Лева лег в онкоцентр на Слободке, где ему и сделали операцию. Съемки были приостановлены. Почувствовав себя лучше, Кочарян улетел в Москву, забрав с собой весь отснятый материал. В начале лета в кабинете директора Одесской киностудии состоялся тяжелый разговор с участием Тарковского и Макарова. Андрей сказал, что Кочарян продолжить работу не сможет, и предложил назначить нового, одесского режиссера. Директора это предложение удивило, и он напомнил Андрею Арсеньевичу, что он является худруком фильма и, пожалуй, только ему и заканчивать картину. Тарковский наотрез отказался. Больше того: сказал, что снимает свою фамилию с титров. Збандута это возмутило, и он заявил, что лично проследит, чтобы фамилия Тарковского стояла в титрах: «И пусть вам будет стыдно, если картина не получится такой, какой вы ее задумывали!» На следующий день в Одессу прилетел Кочарян с твердым намерением самому завершить съемки. Узнав о скандале, он круто поговорил с Тарковским, и Андрей тотчас умчался в Москву, оставив друга один на один с фильмом и болезнью. Больше в Одессу Тарковский не возвращался.
Изрезанный и облученный, Левон продолжал работу: его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами, полулежа в кресле на колесиках, и два раза в день медсестра впрыскивала наркотики, чтобы убить боль. Во время съемок Кочарян часто терял сознание, но упорно продолжал работу, а вся группа, собравшись в кулак, помогала ему их закончить. Но сил на финиш у Левона уже не хватило – монтаж, досъемки, озвучание провел Эдмонд Кеосаян. Премьера состоялась поздней осенью 1968 года в Москве в Доме кино. Как сказал потом Владимир Высоцкий, «Лева Кочарян успел снять только одну картину как режиссер – «Один шанс из тысячи»… Он его поймал и быстро умер… Он жил жарко – вспыхнул и погас – мгновенно».
После премьеры вновь был онкодиспансер. «Однажды мы приехали к нему с Андреем Тарковским. Лева лежал зеленый: он принимал тогда какую-то химию, и цвет лица у него был желто-зеленый, – вспоминал о тех тяжелых днях Юрий Гладков. – Мы были настроены очень решительно: расцеловали, растормошили его. И Лева немного приободрился…»
«Потом начался странный процесс ремиссии, – продолжал рассказ Юлиан Семенов, – и Левон неожиданно для всех стал прежним Левоном, когда вместе учились, ездили танцевать в «Спорт», устраивали шумные «процессы» в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с Институтом востоковедения в спортивном зале «Крылышек»… «В больницу, – подхватывал нить «истории болезни» Михаил Туманишвили, – мы не просто приходили и навещали – мы его похищали… То домой, то в шашлычную… А Лева все спрашивал: «А где Володя?» Лева жутко переживал это…» Кеосаян подозревал Высоцкого в черствости: «Кочарян болеет месяц, два, три – Володя не приходит. Однажды Лева мне говорит: «Знаешь, Володя приходил. Принес новые стихи – потрясающие!» И начал мне про эти стихи рассказывать. А Володя ведь не был в больнице, просто кто-то принес эти стихи… А в конце громадный Лева весил, наверное, килограммов сорок. И вот однажды он мне говорит:
– Хочу в ВТО! Хочу и все!
Поехали, сели за столик, заказали. Смотрю, проходят знакомые люди и не узнают его. Леву это поразило:
– Слушай, Кес, люди меня не узнают. Неужели я так изменился?!»
«Когда Левон почувствовал, что ремиссия кончается, – продолжал скорбную хронику Юлиан Семенов, – и постоянная слабость делает тело чужим, и что большая, осторожная боль снова заворочалась в печени, он отказался лечь в больницу, попросил после смерти его кремировать («Нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицит») и еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне… Он так и умер: рано утром проснулся, попросил… надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал: «Какие стали тонкие, как спички, позор экий, а?» Потом ему помогли перейти в кресло – к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал:
– Ну, до свидания, ребята…»
Гражданская панихида по Левону Суреновичу Кочаряну состоялась в конференц-зале киностудии «Мосфильм» 16 сентября 1970 года. Провожавшие его в последний путь видели: Левон лежал в гробу – маленький и желтый, с припудренным лицом и совсем не похожий на себя. Одному из своих друзей еще за пять лет до своей смерти Левон Суренович говорил: «Я отдам концы в сорок… Смейся, смейся, дуралей!.. Я живу чувствами. И вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы – стал бы гениальным режиссером. Поверь, дорогой, мне: в сорок я сыграю в ящик….»
Народу было великое множество. И совсем не обязательно из мира кино. Даже Миша Ястреб пытался прорваться, размахивая на проходной студии справкой об очередном освобождении, а его не пускали. Но вышел кто-то с красной книжечкой и провел его к гробу. Ястреб всхлипывал: «Гады живут, боги умирают…» Поминали Леву в старом доме на Большом Каретном. Большая квартира не вместила всех, кто пришел помянуть, люди стояли на лестничных площадках, просто сидели на ступеньках.
Тем не менее смерть Кочаряна окончательно и закономерно расколола некогда крепкое и, казалось бы, непоколебимо стойкое и единое сообщество, команду. Хотя первые признаки легкой отчужденности были заметны еще с середины 60-х годов. Не могли быть случайными горькие строки, проскальзывавшие в письмах Высоцкого Игорю Кохановскому, уехавшему в далекий Магадан: «Васечек! Друзей нету! Все разбрелись по своим углам и делам. Очень часто мне бывает грустно, и некуда пойти, голову прислонить. А в непьющем состоянии и подавно…» Или такие: «Часто ловлю себя на мысли, что нету в Москве дома, куда бы хотелось пойти…».
Через десять лет после смерти Кочаряна – в июле 1980-го – точно так же гибель Владимира Высоцкого разорвет круг его самых близких друзей.
Что же касается черствости… Испытывая чувство вины перед ушедшим другом, Высоцкий пытался объяснить: «Я вообще не ходил: ни когда Левон болел, ни в больницу, ни на панихиду – никуда. Я не мог вынести, что он – больной… Я не смог видеть Леву больного, непохожего… Лева – и сорок килограммов весу… Я не смог!»
А разве не было чувства вины перед Левоном у других его друзей? На похоронах Кочаряна не было и Андрея Тарковского. 14 сентября 1970 года в своем дневнике он записал: «Сегодня на студии Юсов сказал: «Умер Лева Кочарян». Ужасно. Как-то на душе нехорошо. Может быть, оттого, что мы были в результате нашей могучей совместной деятельности по поводу «Шанса» недовольны друг другом. Разошлись, в общем, тогда, когда он был болен уже. Скверно. Почему-то чувство вины перед ним не дает покоя. Хотя сделал я все, чтобы помочь ему в том, в чем я мог. Но все-таки мы долгое время были близкими людьми. На похороны я, наверное, не пойду. Ему все равно теперь, а делать вид – не хочется».
Осталась неразгаданной еще одна дневниковая запись Андрея Тарковского, сделанная им ровно за неделю до смерти Левона Кочаряна: «Мне кажется, что Артура Макарова я раскусил. Очень слабый человек. То есть до такой степени, что предает себя. Это крайняя степень униженности…»
* * *
Следственная бригада, сформированная прокуратурой по делу об умышленном убийстве гр-на Макарова Артура Сергеевича, дотошно, шаг за шагом, восстанавливала события последних лет жизни покойного, пытаясь обнаружить возможные мотивы преступления. А их, как оказалось, с лихвой хватало.
Было установлено, что накануне убийства, 2 октября в 10.30, личный водитель Макарова Владимир Мочалов заехал за «шефом» на дачу в Песках. В Москве Артур Сергеевич до 17.00 посетил несколько магазинов. Приехав домой, на улицу 26 Бакинских комиссаров, он отпустил водителя. Вечером на улице Вавилова, 5 Макаров встретился со своими старинными приятелями – генеральным директором совместного предприятия «Квинт» Тариэлом Джапаридзе и режиссером студии «Грузия-фильм» Михаилом Калатозишвили. Последний собирался утренним рейсом в Тбилиси на похороны бабушки. За упокой выпили по 15 граммов. Около полуночи Калатозишвили отвез друга на квартиру Жанны Прохоренко. Сыщики установили, что в два часа ночи Артур Сергеевич определенно был еще жив, что подтверждалось его звонком в Париж своей секретарше, которую он поздравлял с поступлением в тамошний университет…