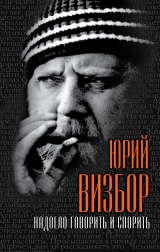
Текст книги "Надоело говорить и спорить"
Автор книги: Юрий Визбор
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сердце на фальшь не откликается.
Очевидно, песенная публицистика может иметь много разнообразных адресов. Не только стройки и дороги попадают в ее поле зрения, но и важные движения в духовном построении человека. Это песни, которые берут на себя смелость пофилософствовать над ходом жизни человеческой, разобраться в кипении страстей, дать мудрый совет.
Вот песня В. Гина, которая так и называется «Твой характер» (Сборник «Песня-75, март», редактор Д. Финко). Прочитаем внимательно ее текст.
Если огнем полыхает закат, – пишет В. Гин, – то значит, жди ветра с утра. Как говорится, народная примета. Далее: Если глаза твои в окна глядят, то значит, в дорогу пора. Вот уж совершенно не значит. Если грустен, то это пройдет, как в мае проходят дожди. По моим наблюдениям, дожди в мае не проходят, а только начинаются. Но если устал и духом упал, значит, удачи не жди. Вот те раз! Люди устают, и еще как устают, а все ждут удачи. Хорошо, что они, возможно, не знают того, что открыл В. Гин.
Это был первый куплет. Второй.
Если ты в жизни друзьями богат (это очень справедливо, потому что в смерти быть богатым друзьями нельзя), то лучшей не надо судьбы. Совершенно необязательная зависимость. Друзья – показатель общительности, а общительными бывают, как мы можем догадаться, не только положительные герои. Если любовью, как солнцем, объят, – не отдай ее без борьбы. Не ясно, почему надо отдавать любовь, хотя бы и с борьбою? Если так ставится вопрос, то выходит, что предполагаемая любимая не так уж склонна к тому, чтобы лирический герой был «любовью, как солнцем, объят». Кто кого любит? В чем проблема? Почему нужно отказаться от любви, предварительно поборясь? Не ясно. Бессмысленно. В третьем куплете поэт совершенно неожиданно дает весьма практический совет: Если почетом везде окружен, то хмель от себя отведи.
Много нелепостей в этой песне. Но печальней всего отсутствие мудрости. Я далек от мысли делать для автора этой песни какие-то обидные выводы, да и права за собой такого не желаю иметь, знаю, что он сочинитель нескольких хороших песен, но несерьезность рассмотренного произведения только удивляет.
Еще более удивительные открытия можно сделать в двух текстах М. Рябинина на музыку Е. Барыбина, один из которых озаглавлен по-библейски незатейливо: «Все приходит» («Песня-74, сентябрь», редактор Э. Финкельштейн), а второй коротко и ясно: «Это так» («Песня-75, июнь», ред. А. Юсфин). Цитирую оба текста строчку за строчкой.
«Это так»: Под луной ничто не вечно. Это так.
«Все приходит»: Все приходит и уходит (так и хочется добавить: а в тюрьме моей темно).
«Это так»: Ох, как время быстротечно. Это так.
«Все приходит»: Но жить на свете нам не зря дано.
«Это так»: Оглянуться не успеешь, это так. Ты уже чуть-чуть стареешь, это так.
«Все приходит»: Мы на то и люди, что живем и любим.
«Это так»: А земля все также молода и еще прекрасней с каждым днем.
«Все приходит»: Мир огромен и прекрасен, небосвод над нами ясен.
«Это так»: Ла, ла, ла.
«Все приходит»: Лай, лай, лай.
Честно говоря, просто теряешься от обилия и щедрости образов, мыслей, рифм, от замысловатости приемов. И какая невыносимая бодрость – лай, лай, лай! И какая железная логика: «Человек, для других живи, будешь достоин большой любви!» Вот он, наконец, раскрыт секрет настоящего чувства! Которые не для других, те могут и не стараться.
Я пытаюсь представить себе аудиторию, которой были бы просто милы рассматриваемые строки. Кто какую глубину откроет в том, что «мы на то и люди, что живем и любим»? Кто, бродя бессонными ночами по мокрому асфальту, будет в радостном исступлении шептать: «Жить на свете нам не зря дано»? Что это вообще означает? Как будто не было до М. Рябинина ни Исаковского, ни Есенина, ни Прокофьева, ни Фатьянова.
Есть песни-однолетки. Они создаются, не претендуя ни на что большее, чем на самих себя. У этих песен есть точный круг своих возможностей, круг задач, точный жанр. Они, как верные солдаты, служат свой срок и демобилизуются. Так ушли популярные один-два сезона «Мой Вася», «Тишина», «Чудо-песенка», «Подмосковный городок», «Ну что тебе сказать про Сахалин»… Их уже никто не поет, но их приятно вспомнить. Под раскидистыми кронами «Подмосковных вечеров», «Я люблю тебя, жизнь», «На безымянной высоте», «Течет река Волга», «Московских окон», «Песни о тревожной молодости» равноправно произрастали и однолетние цветки. Но рассматриваемые песни – не цветы. И не трава.
Мы ушли от «Королевы красоты». Хорошо бы нам уйти и от королевы пустоты. И дело здесь зависит не только от поэтов и композиторов, не только от худсоветов, но и от многих наших коллег редакторов и журналистов, дающих песне путевку в жизнь на радио и телевидении, в издательствах, газетах и журналах.
Тяга к песне. Мне приходилось видеть под Куйбышевом во время песенных фестивалей, проводимых куйбышевским обкомом ВЛКСМ, аудитории, насчитывавшие по двадцать тысяч человек! По своему составу это была очень разнообразная публика – и рабочие ВАЗа, и куйбышевские студенты, и камазовцы. Но как точно реагировала эта самая разнообразная аудитория! Как трогает сердца разных людей верно сказанное в песне слово! Я не могу сказать, что «уровень требовательности сегодняшнего любителя песни возрос». Он не возрос. Он стал необычайно высок.
Время делает песни. Это правда. Но и песни немного делают время.
1975
Пик Шукшина
2 июля 1977 года группа альпинистов из московского «Спартака» (руководитель Аркадий Мартыновский, старший тренер Владимир Кавуненко) в районе юго-западного Памира совершила восхождение на безымянную вершину высотой 5500 метров. По праву первовосходителей альпинисты назвали вершину пиком Василия Шукшина.
…От города Ош, от его дрожащего в знойном мареве горизонта, через семь высокогорных памирских перевалов, через плоскую безжизненную пустыню Маркан-Су, вознесенную на четыре километра под самое небо, по всему великому Памирскому тракту, а потом по опасным дорогам вдоль реки Шах-Дара нужно добраться до небольшого кишлака Сейж. Оттуда по старой тропе, по висячим мосткам над грохочущей водой, пересекая следы снежных барсов, мимо поражающих воображение гигантских стен вершин Павла Лукницкого и Ашам нужно подняться в каменистую чашу небольшой долины, которую замыкает массивная, кряжистая вершина. Вокруг горы, на которые ни разу не ступала нога человека. На земле такие места встречаются не часто.
Еще в Москве и потом в самолете, на автомобиле, во время переходов мы не раз говорили об этой вершине. Мы ни разу еще не видели ее, только знали, что она существует. Мы – строители и служащие, рабочие и инженеры – были не только альпинистами. В той, оставленной нами на два месяца равнинной жизни были мы и кинозрителями. Никто из нас не был знаком с Василием Шукшиным. Но все мы преклонялись перед его творчеством. Ранним утром 1 июня вершина, которую мы решили назвать его именем, открылась перед нами.
Это была мощная, коренастая гора, к которой сбегалось несколько гребней. В ней не было картинного изящества альпийских суперкрасавцев, в ней не было и мрачности развалин старых замков, на которые так похожи малые горы Европы. Это была прочная лестница в небо со стенами, вкосую исполосованными следами жутких тектонических сдвигов, с крутыми снегами и льдом, с гребнями, подобно гигантским пилам подбегающими к его склонам. Только с одной стороны – с северо-запада – путь к пику Василия Шукшина относительно прост, к его вершине ведут огромные снежные поля многокилометровой ширины. По ним двумя группами мы и поднялись на вершину, сложили памятный тур и оставили в нем записку.
1978
Лучше гор – только горы!
Рассказывают, что знаменитого французского альпиниста Люсьена Бернардини спросили на пресс-конференции: «Зачем вы вообще ходите в горы?» Покоритель невероятной стены Пти-Дрю ответил так: «Хотя бы затем, что там никто не задает глупых вопросов». Это остроумно, да и только.
Зачем мы ходим в горы? На высоте 4800 метров мы лежим с моим другом Аркадием, засунув головы под нависающий камень, чтобы хоть мозги защитить от этого мексиканского ультрафиолета. Юго-Западный Памир. В каменистом безветренном ущелье, формой напоминающем ложку, а содержанием – сковородку, нам предстоит пролежать весь день, пока не подойдут остальные участники, вышедшие позже нас. Над нами высятся сломленные в тектонических сдвигах скальные сбросы и снежные поля вершины, которую мы намереваемся по праву первовосходителей назвать (и назвали, когда взошли) пиком Василия Шукшина. Приоткрыв глаз, Аркадий говорит:
– Когда я оформлял отпуск, бухгалтерша мне сказала: «Аркадий Леонидович, какой вы счастливый! Вы едете отдыхать на фрукты, в Среднюю Азию…»
Я кисло улыбаюсь. Несусветное пекло. Апатия и равнодушие. Первый подъем на высоту всегда тяжел. Спина моей рубашки, калящаяся на солнце, хрустит как фанерная. Рядом стоят рюкзаки, все еще дымящиеся от нашего пота.
Зачем мы ходим в горы? Почему спортивное действие, совершенное наедине с самим собой, без свидетелей, если не считать товарищей по маршруту, звезд, солнца и облаков, нам милее и дороже успеха, достигнутого в присутствии стотысячной толпы? Любимые спортивные игры, сколь прекрасными они бы ни были, всего лишь площадка, где демонстрируются сила, быстрота реакции, крепость нервов… Альпинист же – партнер природы. Он состязается с величинами, не знающими ни правил игры, ни отступления, ни пощады. Эти величины – снег, скалы, лед, отвесы, ветер, холод, гипоксия. И победа в горах так щедра потому, что никакая спортивная радость не может сравниться с ней.
Горы не терпят одиночек. Выдающиеся спортивные подвиги, совершенные альпинистами-одиночками (Герман Буль, Вальтер Бонатти), только подтверждают этот вывод. Сражение одиночки с природой, столь любимое сочинителями вестернов и различных приключенческих произведений, в альпинистском варианте приобретает вид футбольного матча, когда одинокий вратарь сражается с целой командой противника. В самом счастливом случае матч оканчивается нулевой ничьей. Но Герман Буль, в одиночку преодолевший предвершинный гребень восьмитысячника Нанга-Парбат, с прочно установившейся славой профессионального убийцы, вскоре погиб, совершая восхождение на одну из вершин. Одиночка Вальтер Бонатти, прошедший ряд сложнейших маршрутов, натерпелся несусветного страха: «Веревка и скалы покрылись бурыми пятнами от крови. Мои кисти полностью превратились в лохмотья. Я берусь за скалы живым мясом моих пальцев. Но мне теперь не больно – пальцы потеряли всякую чувствительность… Одиночество… вызывает во мне странные реакции, даже галлюцинации. Уже не в первый раз замечаю, что начинаю говорить сам с собой, раздумываю вслух… Я даже дохожу до того, что начинаю беседовать с рюкзаком, как с товарищем по связке». В конце концов Бонатти благоразумно сменил ледоруб на кресло главы фирмы, выпускающей ледорубы, рюкзаки, ботинки и другое альпинистское снаряжение.
Вместе с тем спортивное творчество альпиниста – индивидуально. Впятером нельзя забивать крюк: кто-то должен первым преодолеть сложный участок; часто от усилий лидера зависит судьба всего восхождения; никакие коллективные дебаты не смогут заменить индивидуального, ответственного решения руководителя восхождения.
…Когда на Чегетской горнолыжной трассе Кавказа в разгар ярчайшего солнечного дня и чудесных мартовских катаний стало известно, что инструктор альплагеря «Шхельда» Евгений Зарх попал в лавину, заслуженный мастер спорта Алексей Александрович Малеинов тут же отправил на спасработы три отделения альпинистов, занимавшихся горнолыжной подготовкой, а сам помчался по склону собирать находящихся поблизости квалифицированных альпинистов. Набралось человек двадцать, среди них были известные мастера: Андрей Малеинов, Валентин Коломенский, Миша Хергиани, Леонид Елисеев…
В пятом часу мы поднялись на верхнюю станцию канатной дороги, захватив с собой лопаты, фонари, канистры с водой, лавинные щупы и другое печальное снаряжение спасательных работ. Мы заскользили на лыжах, траверсируя снежный склон, направляясь к месту аварии. Через несколько минут мы неожиданно увидели две колонны людей – ниже нас и выше нас, которые медленно тянулись к верхней станции канатной дороги. Это было ужасно! Они бросили поиски человека и уходили, торопясь к ужину. Мы остановились. «Товарищи! – закричал кто-то из нашей группы. – Вы бросаете человека! В лавинах люди иногда живут сутками! Как вам не стыдно?» Ветер рвал слова, но обе колонны явно слышали кричащего. Никто не остановился. Они упорно уходили, изредка поглядывая в нашу сторону. Один из наших «стариков», человек бурного темперамента, выхватил из-за пазухи ракетницу тем жестом, которым не раз выхватывал пистолет ТТ в партизанские свои годы, и начал стрелять по нижней колонне. Он стрелял и кричал, и славу богу, что в его руках была лишь ракетница. Никто так и не остановился.
Для того чтобы откопать Женю, нам нужно было человек пятьсот. Нужно было сейчас, сию минуту. Люди, погребенные под многометровыми снегами лавин, и вправду могут там оставаться живыми немало времени. Но каждая секунда, проведенная человеком в снегу лавинного языка, имеющего крепость цемента, вгоняет свою холодную пулю в его сердце. Сто пятьдесят человек уходили. Мы пошли дальше и теперь могли надеяться лишь на фантастическую удачу. Удачи нам не было. Толщина снега достигала одиннадцати метров, а площадь раскопок была сравнима с Арбатской площадью. Мы копали весь вечер и ночь…
Как выяснилось позже, Женя Зарх погиб сразу, не мучаясь. Но это никак не оправдывало тех, ушедших. Одного из них случайно я встретил через несколько лет после описываемых событий, далеко от гор, на Севере. Мой собеседник, горный инженер, привел много значительных аргументов в пользу того коллективного ухода, а потом неожиданно заключил: «Но от всего этого, понимаете, осталось ощущение не то что предательства… нет. Когда мы добрались до лагеря, с одной девчонкой случилась истерика… А у меня потом многие годы не выходил из головы этот человек, который в нас стрелял ракетами и кричал: «Сволочи! Сволочи вы!..»
Больше мне не приходилось встречаться ни с кем из этих людей. Только надеюсь, что, однажды не совершив поступка, достойного настоящего человека, в другой раз они совершат его. Меняется ли человек в горах? Да. Слесарь и администратор, художник и конструктор, технолог и ученый сообща занимаются любимым делом, и зачастую их городские привычки, стереотипы, нажитые за годы профессиональной деятельности, здесь не имеют значения. Зато здесь на первый план выходят фундаментальные качества души.
Я знаю многих товарищей-альпинистов (правда, из других городов), с которыми я ходил в горах, и весьма смутно представляю, чем они занимались «на равнине». Может, они и говорили мне, но как-то забылось. А вот о том, какие они люди, я знаю и помню прекрасно. В горах в совместно преодоленных трудностях я получил о них (и они обо мне) исчерпывающую человеческую информацию. Восхождение в этом смысле – идеальный прибор, снимающий точную электрокардиограмму душевных достоинств. Равно как и недостатков. И вместе с тем это уникальный точильный инструмент, способный вернуть сабельный блеск мужеству, покрывающемуся коррозией в вялой городской суете.
Почему-то бытует мнение, что современному интеллектуальному человеку горы необходимы, как антитеза его интеллекта, как разрядка. Это неправильно. Смешно думать, что альпинистский быт и практика горовосхождений освобождают человека от размышлений. Напротив. Здесь, вдали от телефонов, толчеи, домашних дел, чаще, чем где-либо, приходят «длинные» профессиональные мысли, значительные идеи, сами собой вспыхивают острые и глубокие мировоззренческие споры. Тем – масса.
Философия альпинизма предполагает отношения высокого нравственного класса. Равно необходимы доброта и мужество, преданность и сила, уживчивость и способность прийти на помощь. Причем эта самая помощь чаще всего проявляется не в высокопарном и довольно распространенном представлении о ней (подал «руку дружбы», нес на себе больного товарища и т. п.), а в простых делах: разжечь примус, когда ни у кого нет сил это сделать; помочь товарищу снять с ног кошки, превратившиеся за день работы в ледяные шары; свернуть утром затвердевшую от мороза палатку, звонкую, как алюминиевый лист; добыть на ночевке воды; пошутить, когда все раздражены. Эти простецкие и нехитрые для равнинной жизни дела в условиях восхождения, особенно сложного, приобретают ценность самой высокой пробы.
Призеры первенства СССР 1977 года, альпинисты московского «Спартака» и одесского «Авангарда», в совместном восхождении на стену пика Лукницкого преодолевали ряд участков, заливавшихся водой. Передовые связки работали буквально в водопадах ледяной, в прямом смысле слова, только что растаявшей воды. На крошечных полочках, там, где можно было собраться всем вместе, «нижние» восходители отдавали все свое сухое «верхним», а сами сушили их мокрую одежду на себе. Так продолжалось двое суток. К каким альпинистским правилам отнести подобные ситуации над головокружительной бездной? К технике горовосхождения? К тактике? Наверное, к дружбе, которую принято называть словом «коллективизм». Наверное, к той замечательной психологической учебе, которая в итоге оборачивается крепким духовным здоровьем каждого. Скверный человек может быть очень хорошим ученым. Но хороший альпинист не имеет права не быть – или не стать – хорошим человеком.
Представление об альпинистской этике часто диктует спортсменам странные, порой необъяснимые для не причастных к этому спорту поступки. Во время первого советского восхождения на неприступную красавицу Ушбу в 1934 году грузинская спортсменка Александра Джапаридзе провела целую ночь в скальной расщелине. Ниже была удобная (по понятиям восхождения) ночевка, где остановились остальные восходители, в том числе и ее брат. Александра, конечно, могла ночевать там. Но она видела, как тает решимость ее друзей, как подсознательно они готовят аргументы для отступления. Поэтому она не спустилась к ночевке от последнего крюка, а осталась там на всю ночь. Она оставила себя как бы в залог. Она надеялась, что утром восходители поднимутся за ней и это движение вверх заставит их идти дальше.
Так оно и вышло. Кстати, этому беспримерному случаю посвятил одно из своих известных стихотворений альпинист Николай Семенович Тихонов.
…С шестой башни вершины Корона, что в Киргизском хребте, сорвался альпинист второго разряда Юрий Варенов, инженер-конструктор Минского автозавода. Варенов пролетел пятьсот метров вдоль отвесных скал и упал на крутой ледник. Ни у кого не было сомнения в том, что он погиб. Однако известный альпинист Алим Васильевич Романов, поднявшийся за невероятно короткий срок на Корону, решил спуститься к месту падения Юрия. Впрочем, где он лежал, никто не мог сказать – была сильная метель. На гребне Короны обстоятельства к тому времени сложились таким образом, что Романов был вынужден спуститься один. Ежесекундно рискуя жизнью, Романов совершил этот спуск и увидел Юрия. Он уцелел. Были повреждены в коленях обе ноги, уже вмерзавшие в снег. Романов буквально вырубил Юру из снега, вырыл крошечную пещеру и трое суток в ней отогревал его под своей пуховой курткой. Через трое суток, борясь с ужасающей непогодой, к ним пробился спасательный отряд. Во Фрунзе Юре сделали операцию. В Минске вшили лавсановые связки. Через год он стал ходить, потом бросил костыли, потом встал на лыжи. Через два года Юра и Алим Васильевич совершили совместное восхождение.
Недавно мы собрались в одном альпинистском доме. Виновница торжества, мастер спорта по альпинизму, провозглашала тост за сидевшего напротив нее немолодого уже человека, называя его своим спасителем. Это был хирург, альпинист. Рядом со мной сидел мой старый товарищ, который впрямую был обязан своей жизнью хозяину дома, альпинисту высочайшей квалификации: во время известного землетрясения на Кавказе в 1963 году его с десятью тяжелыми переломами хозяин дома спустил на себе с отвесной стены Домбай-Ульгена. Сидел за столом и другой человек, помогший и самому хозяину дома, серьезно заболевшему на высотном восхождении, спуститься с одного из памирских семитысячников… Аркадий сидит и мотает головой. «Вечера не приносят прохлады и любви не таят серенады», – говорит он. Жара нестерпимая. Я начинаю серьезно сомневаться, что солнце вообще когда-нибудь зайдет за гору. А завтра на восхождении нас, по-видимому, будет мучить холод. Мы еще и еще раз глядим в бинокль на наш завтрашний маршрут. Видно неважно, потому что токи раскаленного воздуха колеблют картину. Из полиэтиленовой фляги Аркадий льет себе на голову нагревшуюся воду. «Как я вам завидую, Аркадий Леонидович, – говорит он сам себе, – вы едете в Среднюю Азию отдыхать, на фрукты!» Вода льется ему на грудь, на спину, и его рубашка с белыми разводами пота прилипает к телу. Снизу слышны негромкие голоса, постукивание ледорубов о камни. Это подходят наши.
Зачем мы ходим в горы? Я хочу процитировать Аркадию фразу из книги французского альпиниста Робера Параго, но не помню ее. Теперь могу привести ее дословно: «Что важно – это опыт, который человек один с самим собой обретает для себя в этой школе истины: оценка, которую он получает своей силе и своей слабости, и возможность судить о себе…»
1978
Старым путем…
В городе биологов Пущино есть замечательные дорожки. Они не предусмотрены архитекторами и не покрыты асфальтом. Это просто тропинки – кратчайший путь от подъезда жилого дома к подъезду института. С верхних этажей в дни ясной осени они прекрасно видны. Домов много и институтов много, и бегут эти тропинки, то пересекаясь, то расходясь и, наконец, сливаясь, но все же существуя отдельно. Иной раз такая тропинка протоптана одним человеком. Это – своя тропинка в науку.
Дмитрий Антонович Сухарев протоптал свою тропу в песенной поэзии – неспешно, небыстро, но основательно и надежно. В широкую проезжую часть песни, ее «слов» или, как писала одна девушка из Урюпинска, «текста слов» втаптывали свои следы многие. Разве, не зная автора, можно представить себе по стилю, «художественным особенностям» или манере – кто написал эти стихи – Пляцковский, Танич, Рождественский, Харитонов, Дербенев или ужасающий М. Рябинин (ну, правда, этого по уникальной безграмотности и бездарности можно отличить от других). Все они месят одну и ту же дорогу, их поэзия неотличима от соседней, дорога однообразна. Одна радость, что широка и что – все вместе.
Дмитрий Антонович Сухарев никогда – даже по праздничному, не совсем подотчетному делу – не попадал на эту дорогу. Даже не пересекал ее. Профессиональные сирены, сладострастно зазывающие в просторах бардовского моря к богатым и унылым берегам «серьезной», или «эстрадной», или «молодежной» песни, не обманули его и никак не коснулись. Лишь однажды, насколько я знаю, он откликнулся на подобный зов, написал песню на предложенную ему тему, но песню настолько прекрасную и глубокую, что она не устроила заказчиков (почти всегда им нужна унылая иллюстрация). Мало того – в двух словах этой песни была сказана не просто правда, а правда художественного образа – всего в двух словах. В наречии и прилагательном. Еженедельник «Неделя», считая, что он осчастливливает неизвестного Митю из Урюпинска, напечатал эту песню, «отредактировав» и наречие, и прилагательное. К чести Дмитрия Антоновича, он не оставил этого дела просто так – разразился скандал. И хотя слухи о снятии с занимаемого поста главного редактора еженедельника из-за наречия и прилагательного никак не подтвердились, все-таки создалось впечатление, что Сухарев выиграл это дело. Не часто бывает. Приятно.
Существует мнение, что художник-художник и художник-человек – совершенно разные люди. Что художник-человек может творить и вытворять все что угодно, совершать подлости, интриговать против друзей, всячески двурушничать и лавировать – это дело, дескать, человека. А вот когда он в поэтическом озарении, то нечто свыше диктует ему чистоту помыслов, великие незапятнанные мысли, призывы к прекрасному. Может быть, это и бывает. Как сказано в известной песенке о делах милиции: «Если кто-то кое-где у нас порой». В этом смысле у нас был один серьезный источник, как-то упомянувший о глубоких различиях между гением и злодейством. Дмитрий Антонович Сухарев, насколько мне известно, никогда не имел запасного чистого пути для своей поэзии. Он – един в своих помыслах и поэтических идеях, его человеческое достоинство всегда было совместимо с достоинством поэтическим. Он – глубокий гуманист, это его личное качество, и, право же, научиться этому совершенно невозможно. Это нужно просто иметь. Поэтому Сухарев – отдельное явление в нашей песенной поэзии. Какие бы номера ни расставляли любители околопоэтических рассуждений против фамилий тех или иных авторов, Дмитрий Антонович не входит ни в первую «десятку», ни в первую «семидесятку», потому что он отделен, его поэзия штучна, его тропинка – индивидуальна. И когда он пишет: «Мы живы, покуда поем, пока наши песни не лживы» – то так оно и есть.
Известно, что бардовская песня переживала различные времена, и во все эти времена волнообразно накатывались различные моды, веяния, поветрия. Дмитрий Антонович неспешно и упорно следовал своей дорогой. «Старым путем, милым путем в Звенигород, в Звенигород идем». Его не прельщали ни далекие страны, ни пиратские моря, ни псевдоромантика, ни заумные конструкции с великими претензиями, ни – без всяких претензий – дешевые шутки, за которыми, в сущности, ничего нет. Всю свою песенно-поэтическую жизнь он твердо следовал к одной цели, каждый раз достигая ее и каждый раз начиная этот путь снова. Цель эта – несказанная поэтическая драгоценность. Ее имя – интонация. Ей и вправду нет цены. И для того чтобы просто понять это, иные тратят годы. Это высшая математика поэзии, абсолютно невычисляемая, не добываемая нигде, кроме собственной души. Она – одновременно и цель, и средство. Поэтому его песни не стареют. Стареет их автор – увы. Но скромный маленький телеграф, по которому выстукиваются депеши по кратчайшему адресу от сердца к сердцу, оказывается настоящим долгожителем в сравнении с мегаваттными передатчиками моды, предназначенной для всех.
Песенный герой Дмитрия Антоновича – не интеллигент, но интеллигентен. Не хочется вдаваться в длинные рассуждения по этому поводу, однако красота его произведений нисколько не несет эстетствующей печати. Его песни просты, но не простецкие. Его образы полны тайной силы, его шутки часто замаскированы в форму. «За то ты нам, юным, и люб» – не просто шутка, но и мастерская, ядовитая мини-пародия. Для полного и глубокого восприятия его песен, очевидно, необходим некий образовательный ценз. Прочитанные как сюжет, его песни имеют успех. Прочитанные как состояние души, они восхищают. Когда их много – это происходит на авторских вечерах – все они в итоге оказывают какое-то странное, нигде, по крайней мере мною, не наблюдавшееся явление «осветления», что ли, души. Наступает легкий праздник приобщения к доброте. Подобный тому, когда читаешь Пушкина. Потому что его постоянный герой – человек, который любит другого человека. Так просто. Так незамысловато. И так редко.
Я далек от мысли полностью отождествлять героя Сухарева с самим Дмитрием Антоновичем. Герой есть герой. Когда-то Тургенев сказал, что «о многих вещах мы говорим с интересом, а о себе – с аппетитом». Лично о себе Сухарев всегда говорит с легкой, свойственной настоящим мастерам мудрой иронией. «Поглядывая в карты свысока». Но своего героя он любит, а это тоже не часто встречается. Он не отправляется за ним в далекие края. Он не прячется за северные горы, бушующие моря и прочую р-р-романтику. Места, где появляется его герой, весьма скромны – двор, вагон, поляна, бульвар, тропинка. Да и в Париже, на пароходике, плывущем по Сене, он, его герой, точно такой же, каким он был на пароходике, шлепающем по Оке в Голутвин. Да и дело не в месте. В конце концов – много ли можно сказать в стихотворении, в котором описываются намерения купить жене за границей различные вещи? Оказывается, многое. Оказывается – про всю жизнь. И щемящая, раздирающая сердце интонация этого стиха, соединенная с великолепной музыкой Сергея Никитина, стала одной из лучших их песен. (Стихи эти, к радости почитателей Дмитрия Антоновича, вскоре вошли в сборник избранной русской лирики.)
Тайно поигрывая на гитаре, Дмитрий Антонович Сухарев сам не сочиняет музыки. Он работал со многими одаренными композиторами: Г. Шангиным-Березовским, В. Борисовым, В. Берковским, С. Никитиным. Мне доводилось не раз наблюдать процесс рождения этих песен, эти домашние университеты. Они являлись полной противоположностью многим худсоветам, на которых я присутствовал. Там композитор и поэт с упорством тяжелых танков защищали свои «части» песен. У Сухарева споры шли по существу дела. Дорабатывал ли поэт свои стихи? О, да. Иной раз – в течение не одного месяца. Живой процесс взаимного творчества – вот что это было. Но чаще всего Дмитрий Антонович выступал в роли селекционера нот, и, надо сказать, вкус его никогда не подводил.
Я давно люблю Дмитрия Антоновича Сухарева, я старый поклонник и почитатель его замечательного таланта. Я горжусь тем, что мой старший друг пришел к своему пятидесятилетию как крупный ученый, как зрелый поэт. Мне крайне неприятно, когда иной раз со сцены, перед незнакомыми людьми его называют фамильярно Митя, но вот выходит Дмитрий Антонович в далеко не португальском костюме, всегда волнующийся, и оттого голос его срывается и вызывающе высок. Но вскоре все пропадает – и дурацкая фамильярность партнера, и только что вынесенный толпой из вагона метро костюм, и напряженная струна в голосе. Остается поэт, который когда-то, очень давно, где-то возле Звенигорода пошел своим путем. От человека к человеку. От сердца к сердцу. Старым путем. И между прочим, милым путем.
1980
Он не вернулся из боя
Владимир Высоцкий был одинок. Более одинок, чем многие себе представляли. У него был один друг – от студенческой скамьи до последнего дня. О существовании этой верной дружбы не имели и понятия многочисленные «друзья», число которых сейчас, после смерти поэта, невероятно возросло.
Откуда взялся этот хриплый рык? Эта луженая глотка, которая была способна петь согласные? Откуда пришло ощущение трагизма в любой, даже пустяковой песне? Это пришло от силы. От московских дворов, где сначала почиталась сила, потом – все остальное. Волна инфантилизма, захлестнувшая в свое время все песенное движение, никак не коснулась его. Он был рожден от силы, страсти его были недвусмысленны, крик нескончаем. Он был отвратителен эстетам, выдававшим за правду милые картинки сочиненной ими жизни: «…А парень с милой девушкой на лавочке прощается». Высоцкий: «Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою». Вспомните дебильное: «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить…» Высоцкий: «…А мне плевать, мне очень хочется!» Он их шокировал и формой, и содержанием. А больше всего он был ненавистен эстетам за то, что пытался говорить правду, ту самую правду, мимо которой они проезжали в такси или торопливым шагом огибали ее на тротуарах. Это была не всеобщая картина жизни, но этот кусок был правдив. Это была правда его, Владимира Высоцкого, и он искрикивал ее в своих песнях, потому что правда эта была невесела.








