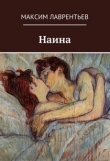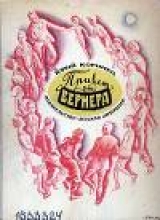
Текст книги "Привет от Вернера"
Автор книги: Юрий Коринец
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
ДОЖДЬ
Когда мы подходили к дому, полил дождь. Первый весенний дождь. Он весело шумел над городом и обмывал весь мир: и черно-оранжевые, с набухшими почками деревья, и золотые купола церквей, и серые крыши, и красные лозунги, и стены, и окна домов, и улицы с площадями.
Дождь был сильный, частый, с порывами ветра. Весной всегда идут дожди, которые все обмывают, всю землю – готовят ее к цветению. «Это в природе недаром все так устроено, – думал я, входя во двор. – А то бы всегда грязно было. Если 6 не эти дожди...»
В нашем дворе было какое-то водяное столпотворение! Дождь устроил здесь карусель, потому что ветер, залетая во двор, начинал крутиться вдоль стен как сумасшедший, поднимая рябь в серебряных лужах, вскипая под водостоками и брызгая пригоршнями капель по оконным стеклам...
С трудом, останавливаясь и смеясь, прорвались мы сквозь эту круговерть в свое парадное.
В парадном мы отряхнулись: я отряхнул шапку, а Иосиф слил воду со своей шляпы – на ней было много воды, и я оглянулся еще раз во двор: Памятник Воровскому стоял одинокий и покинутый, потемневший от дождя, и мне показалось, что полы его пиджака развеваются по ветру.
Дома нам здорово попало от мамы. И мне попало, и Иосифу. Ему даже больше. За то, что я промок. И за то, что у меня синие губы и горячий лоб. Как будто в этом виноваты мы с Иосифом! Это же природа виновата – дождь! Но мама сказала, что это наша природа виновата, а не дождь... Вот попробуй с ней и поспорь!
Мама взяла в буфете маленькую серебряную ложку, я открыл рот, и мама, прижав мне ложкой язык, велела сказать «а?». Так мама всегда делает, когда ей кажется, что я заболел. Я тогда говорю «а?», и болезнь отвечает или «да», или «нет». Она это маме отвечает на особом языке, на котором только мама понимает. А отец не понимает. И я не понимаю. Но это «а?» почему-то должен именно я сказать, а не мама, хотя ответ слышит мама. Или врач. Врач тоже понимает ответ. Все это странно, но факт!
– Ну как? – спрашиваю я. – «Да» или «нет»?
– Да, – говорит мама. – Допрыгались вы со своим ледоходом! Горло красное и жар...
Она кладет мне ладонь на лоб.
– Мне, наоборот, холодно! – говорю я.
– Час от часу не легче, – мрачнеет мама. – Видно, серьезно. Сейчас же ложись...
Мама приготавливает мне все чистое – стелит новые простыни, надевает новый пододеяльник и наволочки, – и я ложусь. Я люблю ложиться в новую чистую постель, особенно когда мне холодно и я устал, – а вы? Я очень люблю! Простыни и пододеяльники шуршат и топорщатся, потому что они накрахмалены, у них такой прохладный, приятный, свежий запах! Это они такие, потому что их китайцы крахмалили. Да, да, вы не удивляйтесь... В моем детстве почти все белье в Москве стирали и крахмалили китайцы; они были специалисты своего дела, и все, кто любил свежее белье, ходили в китайские прачечные. Я тоже с мамой часто туда ходил. Там в облаках горячего пара работали голые и худые китайцы – в одних только трусах. Потому что им было жарко. Они работали, как в бане. В те простыни я ложился, как будто нырял в прохладную реку. Все тело покрывалось гусиной кожей. Но ненадолго. Постель быстро нагревается, становится тепло и уютно...
Но на этот раз было совсем по-другому. Мне становилось все холодней. Гусиная кожа не проходила. Я дрожал. Мама дала мне градусник. Я сунул его под мышку и свернулся под одеялом клубком, накрывшись с головой. Мои зубы, когда я их не сжимал, выстукивали мелкую дробь...
Родители пили за столом чай и о чем-то шептались. В комнате быстро стемнело, потому что день был и так пасмурным. Ветер выл в камине с особенной силой, и дождь порывами барабанил в окно.
– Тридцать восемь! – сказала мама, взяв у меня градусник. – И глаза у тебя красные... странно!
– Мне что-то свет мешает, – сказал я слабым голосом. – Потушите!
Мама потушила яркий абажур над столом и зажгла зеленую лампу возле окна, прикрыв ее газетой. Она села на кровать и взяла меня под одеялом за руку. И Иосиф сел на кровать. Он положил мне свою тяжелую руку на голову.
Я очень любил, чтобы они сидели у меня на кровати. Когда я засыпал. Что может быть лучше в жизни, особенно если ты болен! Ничего! Это я вам точно говорю. Да вы, наверное, со мной согласитесь. Хочется, чтобы они так сидели всегда, всю жизнь, и никуда не уходили! Тогда на сердце так хорошо, хорошо! И вместе с тем грустно, потому что боишься, что они вдруг куда-нибудь уйдут. И они ведь действительно когда-нибудь уйдут, уйдут совсем, об этом и в песнях поется, а песни никогда не врут. И мама мне это говорила, и отец говорил, и Вовка. У Вовки ведь мама когда-то ушла, умерла то есть, как наш Усы. Только Вовкина мама не застрелилась, а просто сама умерла. И теперь у Вовки – Жарикова. Она хороший человек, и к Вовке относится хорошо, любит – и его, и Зусмана, – и все-таки она мачеха. А не мама. Это совсем другое дело. Чего-то в ней не хватает, в мачехе. Мне Вовка сам говорил. Мать свою Вовка помнит слабо, как будто во сне, но все равно он се любит больше всех на свете. Он мне показывал ее фотографию. Она такая худая, черная, с большими глазами... Но ее нет! Умерла – это значит нет и никогда больше не будет. А у меня есть мама: вот она сидит рядом со мной и держит меня за руку. И будет держать долго-долго, сколько я захочу. И Иосиф гладит мне голову рукой. У него совсем другая рука, у Иосифа, – тяжелая и шершавая. Сильная, большая рука!
Что-то есть в этих руках такое, чего нет ни в каких других человечьих руках.
Я лежу, и молчу, и думаю. И тихонько дрожу, потому что никак не могу согреться.
...Я помню – мне Вовка рассказывал, – что когда его принимали в пионеры, его спросили: а если его мама и папа сделают что-нибудь плохое? Ну, украдут чего-нибудь на работе? Как он тогда к ним отнесется? Скажет он тогда об этом в отряде? И если их в отряде осудят, готов ли он от них отказаться? А Вовка ответил, что у него мамы нет, что она умерла, что у него мачеха... Тем более, сказали ему. А Вовка сказал, что его папа и мама (даже если она мачеха) никогда ничего не украдут. Ну, а все же, и так далее... Его долго допрашивали. А Вовка все одно твердил: не украдут, и все! Его даже не хотели в пионеры принимать. Но потом все-таки приняли. Вовка мне сказал по секрету, что, если бы его родители что и украли, он все равно от них не отказался бы. Вот какой человек Вовка!
Я лежу и думаю, что я бы тоже так отвечал, как Вовка. Потому что мои родители никогда не сделают ничего плохого! Разве могут эти руки что-нибудь плохое сделать?
– Мам! – говорю я тихо, дрожа всем телом. – А мы Дика видели на льдине!
– Я думаю, это не Дик! – откликается мама, и голос ее звучит откуда-то совсем издалека. – Чего бы он полез на льдину? Ты спи...
«Действительно, чего бы он полез? – думаю я. – А если это все же Дик? Бедный Дик! Где он теперь?»
Ветер гудит все сильнее. Весь дом гудит от ветра. И тут я куда-то проваливаюсь...
ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ
Мама с Иосифом сразу исчезли.
«Где они?» – думал я, оглядываясь по сторонам.
Я молча смотрел в пустоту.
Вокруг не было ничего знакомого, была сплошная чернота, в которой вспыхивали и гасли разноцветные точки, шары, шарики, звездочки...
Я протянул руку, и она вдруг стала уходить в эту полную неживых тел пустоту, рука стала вытягиваться и удаляться, но не уменьшаться, как это ни странно, а увеличиваться.
Рука увеличивалась, увеличивалась, пальцы стали огромными, толстыми, как перетянутые колбасы; они шевелились вдали, закрывая собой все пространство.
Я притянул руку, и она опять стала маленькой...
Шарики, звезды, линии потянулись из глубины за моей рукой. Я попятился, сзади что-то не пускало меня, мягкое и упругое, а тела все надвигались...
Они вошли в меня и прошли насквозь...
Они плавали во мне, входили и выходили...
Потом они вдруг все вылетели из меня с долгим звоном; все вокруг зазвенело, голова раскалывалась, а все шарики, точки и звезды стали собираться в одну огромную массу...
Эта масса все росла, распухала, она стала какой-то пегой, серо-буро-малиновой; она притягивала меня, страшная и противная, вся скользкая; она смотрела на меня, хотя у нее не было глаз, смотрела, заполняя все вокруг, и мне стало так тоскливо и жутко!
Меня охватил ужас, масса стала душить меня. Я отталкивался, брыкался, но ничего не помогало, я чувствовал, что весь истекаю потом и задыхаюсь, и я закричал:
– МАМА! МАМА-А!
– Ну, что ты, что ты, что ты? – говорила мама, обнимая меня и целуя, и Иосиф стоял рядом и гладил меня по голове.
Я трепыхался, как лист под дождем, весь мокрый, и плакал.
– Тебе что-то приснилось? Что тебе снилось? – спрашивала мама.
– Это было так страшно! – сказал я. – Я не могу вам объяснить, как это было страшно!
– Ну ничего! Ничего! – успокаивала меня мама. – Все прошло!
– НЕТ, НЕ ПРОШЛО! – закричал я. – НЕ ПРОШЛО! – Я чувствовал, что ОНО опять надвигается, неотвратимое, что я сейчас опять буду один, совсем один!
Так повторялось, снова и снова, серо-буро-малиновое росло, собираясь из маленьких звенящих тел, надвигалось на меня, душило, и, когда я видел, что вот уже все, конец, оно незаметно исчезало, и я опять возвращался в нашу комнату, а потом опять все начиналось сначала...
От этого бесконечного ужаса я совсем иссяк и, когда приходил в себя, лежал мокрый, горячий, с пересохшим горлом...
Я едва мог пошевельнуть рукой, едва мог повернуть голову, и глаза у меня закатывались под лоб...
Потом – не знаю уж, в который раз! – серо-буро-малиновое село ко мне на кровать (я уже смотрел на него почти безразлично), оно шевельнулось, у него появились руки... ноги... голова... лицо... глаза, и я увидел, что это Беспризорник!
– «Когда я был мальчишкой, – улыбнулся мне Беспризорник своими ярко-белыми зубами, – когда я был мальчишкой, носил я брюки-клеш, соломенную шляпу, в кармане финский нож!»
Он разговаривал, словно мы с ним знакомы!
– У тебя есть нож? – спросил я шепотом.
– Финский, финский! – сверкнул зубами Беспризорник.
– А где ты взял? – спросил я шепотом.
– Украл! – крикнул Беспризорник.
– А шляпу где взял?
– Украл!
– А брюки-клеш? – Мне стало весело.
– Тоже украл! Я все могу украсть! И тебя тоже!
– Зачем?
– Так... – усмехнулся Беспризорник. – Чисто ходишь, где берешь, дай расписку, где живешь!
– А ты где живешь? – спросил я.
– В котле!
– В каком котле?
– В сковородке? – рассмеялся я.
– В чугуне! – рассмеялся Беспризорник.
– В поварешке? – смеялся я.
– В ложке! – смеялся Беспризорник.
– Там у тебя кровать? – Мне стало очень весело.
– У меня нет кровати! – сказал Беспризорник.
– Почему?
– Потому!
– А как тебя зовут?
– Никак! Отдай мне кровать!
– Пожалуйста! – сказал я. – Возьми!
– Еще встретимся! Тогда отдам, – сказал Беспризорник.
Я хотел встать, но не мог.
– Я не могу встать, – сказал я.
– А я хочу есть! – сказал Беспризорник.
– Warum? – спросил я.
– Darum! Потому что я хочу есть!.. – Он скрипнул зубами и взмахнул в воздухе финкой...
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ
Часть I
Он размахивал финкой перед самым моим носом, а я не мог пошевельнуться.
Вся комната задрожала, как будто падали камни... Это открылась дверь, и вошел Воровский. Он шагал тяжело.
– Ты что моих друзей обижаешь? – спросил он Беспризорника.
– Я не обижаю, – сказал Беспризорник. – Я так... мы играем! – Он спрятал нож в лохмотья.
– Это мой друг, – сказал обо мне Воровский.
– Вы Воровский? – спросил я.
– Какой Воровский? Я Виленкин...
– Какой Виленкин?
– Детский доктор Виленкин, – сказал он с улыбкой.
Он надел белый халат и сел ко мне на кровать. Он наклонился совсем близко. И Беспризорник наклонился.
– Зачем он лезет? – кивнул я на Беспризорника. – Он меня обижает!
– Как так обижает? – удивился Воровский-Виленкин. – Это же твой папа! Иосиф!
Я внимательно смотрел на Беспризорника... От напряжения заболела голова... Беспризорник улыбнулся, и вдруг я увидел, что это действительно Иосиф!
– Открой рот и скажи «а». – Человек в халате мял мне глаза. – Глаза воспалены, – сказал он отцу.
Он откинул одеяло и заголил на мне рубашку.
– И сыпь, – сказал он. – Это корь...
– А все-таки вы – Воровский! – сказал я. – Зачем вы обманываете?
Воровский подмигнул и приложил палец к губам.
Позади стояли родители. У них были очень грустные лица. Потом они все вышли, и я остался один.
В комнате было сумрачно. «Что сейчас – вечер, утро?» Сколько я так лежал один, я не знаю...
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ
Часть II
Снова задрожала комната: это опять вошел Воровский. Теперь он был без халата.
– Так вы все же Воровский? – спросил я тихо.
– Конечно! – шепнул он. – Говори мне «ты»!
– А почему вы... ты сказал, что ты Виленкин?
– Неудобно при родителях. – Он опять сел на кровать. – Они могли испугаться...
– Почему?
– Я же Памятник!
– А ты живой?
– Для тебя я живой...
– Почему – для меня?
– Потому что я тебя люблю!
– Я тебя тоже люблю! – сказал я радостно. – Очень!
– Я это знаю. Потому я и пришел...
– Можно, я тебя потрогаю?
– Потрогай. – Он придвинулся ближе.
Я потрогал складки на рукаве – они были твердые! И холодные!
– Ты – камень? – спросил я тихо.
– Камень! – улыбнулся Воровский. – Я всегда был камень!..
– Как – всегда? Ты же был человек?
– Конечно, человек! Но твердый как камень! Большевики все как камень...
– Ты никогда не плакал?
– Никогда! – твердо сказал Воровский.
– И когда тебя убили?
– Тогда я просто не успел бы, даже если б захотел.
– А почему они тебя убили, а ты не убил?
– Стреляли сзади, – сказал Воровский. – В спину...
– И отец говорил – в спину... Ты их не видел?
– Я их увидел потом...
– Как – потом? Мертвый?
– Я уже был мертвый, но еще мог видеть... некоторое время.
– Разве мертвые видят?
– В первые мгновения... вернее, в последние!
– Расскажи, как это все было! – попросил я. – Мне Иосиф рассказывал, но я хочу, чтобы ты...
– Я ужинал... – начал Воровский.
Но я его тут же перебил:
– Ты разве не воевал? На коне с шашкой?
– Все бывает гораздо проще, – усмехнулся Воровский. – Я просто ужинал в ресторане... А убийца сидел за соседним столиком. Белогвардеец Конради. Я его, конечно, знал, но не знал, что он будет стрелять вот тут, в ресторане, в спину...
– А я думал, что тебя убили на войне! – сказал я. Я был немножко разочарован.
– Там и была война! – сурово сказал Воровский. – Дипломатическая! Меня преследовали на каждом шагу!
– Значит, мы тоже будем на войне? Когда поедем за границу?
– А как же!
– И нас могут убить?
– Вполне...
Это мне понравилось. Не то, что меня могут убить, а то, что я буду там на войне! Ведь мы скоро поедем в Берлин!
– Ну, а дальше? – спросил я.
– Что же дальше... дальше он встал и выстрелил... Падая, я обернулся и увидел его, белого офицеришку! К нему подскочили, обезоружили... Он, подлец, еще требовал, чтобы оркестр сыграл траурный марш... Потом я умер... Вот и все!
– Тебе было больно?
– Он обточил пулю, и она разорвала мне внутренности!
Минуту мы помолчали.
– А я бы, как только увидел их в ресторане, сразу бы подошел и убил первый! – сказал я.
– Так нельзя, – улыбнулся Воровский. – Игра должна быть честной!
– Они же убили нечестно!
– На то они и подонки!
– Их много?
– Много, – сказал Воровский. – И чувствуют они себя там вполне свободно... Не то, что мы, красные... Но революция и там победит! Когда ты вырастешь, везде будет по-другому... А теперь мне пора!
– Куда?
– На пьедестал! А то заметят, что меня нет...
– И что тогда?
– Ну, неудобно все-таки... Я ведь должен стоять во дворе! Теперь моя такая работа...
Он встал. Мне стало грустно, что он уходит.
– А ты еще придешь?
– Приду! Письма ты хорошие мне писал...
– А ты все прочитал?
– Все до одного! – серьезно сказал Воровский.
– А как ты понял мои буквы? Мама ведь не понимает мои буквы!
– Любая буква – условный знак, – объяснил Воровский. – Просто я разгадал твои знаки! Спасибо тебе!
– Пожалуйста! И тебе спасибо – за то, что ты их разгадал!
– Пожалуйста! – сказал Воровский.
– Так ты приходи!
– Непременно!
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ
Часть III
Я лежал за ширмой и когда просыпался, все время пил – как рыба. Есть не хотелось. Дни и ночи слились для меня в бесконечный серенький вечер. И то с перерывами. Потому что временами я куда-то проваливался, где вообще ничего не было. Иногда я видел маму, иногда Иосифа, иногда доктора. Но странно: я никогда не видел, как они приходили и уходили, – они появлялись и исчезали, как в кино «Великий немой». Я и сам был, как Великий немой.
Ни Гизи, ни Вовка, ни Ляпкин Маленький не появлялись. Им нельзя было меня видеть, потому что они могли от меня заразиться. Они были где-то там, за стенками, в карантине. Карантин – это не комната. И не дом. Но все равно в нем сидят. Сидят долго и скучно. Это очень неприятная вещь – карантин. Они только иногда передавали мне приветы. Но что мне было толку от их приветов? Я эти приветы «складывал под кровать», как говорил Иосиф. Но от этого было» не легче. Правда, после первых дней мне стало немножко легче: серо-буро-малиновое оставило меня в покое. Потому мне и было скучно, что стало легче. Я теперь мог думать. И я все время думал. О Дике. И о Гизи. И о Вовке. И о Ляпкине Маленьком. О том, какие они все разные. И о Берлине я тоже думал. Что мы скоро туда поедем, и там у нас будет дипломатическая война. Вот будет интересно! Только нас-то они не убьют, фашисты! Фига с два! Мы их сами убьем! Мы все время будем оглядываться, чтобы нам не выстрелили в спину. Мы будем всегда начеку! Главное – это быть начеку...
И о Воровском я тоже думал. Он заменял мне теперь всех друзей. Я его все время ждал. Когда он приходил, мы разговаривали. О чем? Да обо всем! О революции. И просто о жизни. И даже об игрушках. И странно – его слова очень похожи были на слова Иосифа. Он говорил все почти то же самое, что Иосиф. Но вместе с тем это и не странно: ведь они оба дипломаты, наркоминдельцы. Они вместе работали за границей, в разных странах, и там подружились, я же вам говорил. Когда люди вместе работают и дружат, они почти всегда друг на друга похожи. Не внешне, конечно, а внутренне. Так сказал Воровский. И Иосиф тоже так говорит. А Воровский сказал, что мы все одного поля ягода. Красные ягоды большевистского поля – вот мы кто такие!
Родители тоже слышали, как я разговаривал с Воровским. Только они его не видели. И поэтому они называли мой разговор бредом. Я им говорил:
– Вон Воровский! Вон он стоит! Неужели вы не видите?
А мама говорила:
– Бедный мальчик! Как я устала от всего этого!
Но потом я перестал им говорить о Воровском. Я с ним просто разговаривал, и все. Раз они его не видят. И Воровский мне сказал, что не надо им о нем говорить. Он им все равно не покажется. Пусть они думают, что он стоит там, внизу, на своем пьедестале. Показываться он будет только мне одному. Потому что он меня любит. И потому что я болен. Если б я не был болен, он бы мне тоже не показался. Потому что нет худа без добра, сказал Воровский, во всякой беде есть свои плюсы. Вы думаете, когда человек болеет, это только плохо? А вот и нет! В этом тоже есть польза, потому что человек тогда много думает. А раз он много думает, он умнеет, потому что он разрабатывает свой мозг. И потом ему показываются Памятники. А здоровым Памятники не показываются. Это мне все Воровский объяснил. Так что для кого это все бред, а для кого – не бред! В том-то и дело...
– А ты хочешь постоять на моем пьедестале, чтобы ты был в середине? А все вокруг тебя? – спросил Воровский.
– Очень хочу, – сказал я. – Только как это сделать? Может милиция заметить.
– Это будет только одно мгновение, – сказал Воровский.
– Одно мгновение не интересно! – сказал я. – Я хочу долго!
– Для нас это и будет долго, – сказал Воровский. – А для всех других, для всего мира, – одно только мгновение! Они ничего не заметят...
– Ну, если так... – сказал я. – Если так, то давай! А то я не хочу, чтобы милиция узнала. И мама. Она велит мне все время лежать...
– Для них это одно мгновение! – повторил Воровский. – Так что ты не волнуйся!
– А я и не волнуюсь! – сказал я. – Я так, на всякий случай...
Я встал с кровати, я был в длинной ночной рубашке.
– Я в рубашке, – сказал я.
– Это ничего! – сказал Воровский. – Сейчас ведь лето...
Я и забыл, что лето! Так долго я болел.
Мы взялись за руки и пошли. И мама ничего не заметила. Она сидела под лампой и печатала, а мы спокойно вышли в коридор и спустились по лестнице. Была ночь, и весь дом спал. Мы вышли во двор, не открывая дверей, прошли прямо сквозь двери, потому что они были заперты... Но это не удивительно, Памятники все могут! Попробуйте погулять с Памятником, и вы сами увидите...
Весь двор был залит луной. Она стояла высоко в небе прямо перед нашим домом и светила во двор, как яркий желтый фонарь. Окна в доме мертво поблескивали. Над парадными горели фонари, но под луной они были совсем тусклыми. В середине двора стоял пустой пьедестал, и вокруг – ни души. От луны, от мертво блестящих окон, от того, что пьедестал был пуст, все вокруг казалось искусственным... или волшебным...
Казалось, что я здесь никогда не бывал! И вместе с тем все было знакомо.
Мы подошли к пьедесталу.
– Залезай, – сказал Воровский.
Он схватил меня за бока и поставил на свое место. Наверное, странно было смотреть со стороны, как он, высокий и каменный, подсаживает меня – маленького, в белой, до пят рубашке...
– Не страшно? – спросил Воровский.
– Нет, – сказал я. У меня немножко захватывало дух. Отсюда, с высоты, было еще волшебнее. – Теперь я памятник?
– Памятник!
– Памятник – чего?
– Памятник нашей дружбы! Вот тебе пистолет, держи!
– Ого! Пистолет браунинг! – сказал я. – А зачем?
– Когда пробьет твой час, ты сам поймешь – зачем! – торжественно сказал Воровский. – А теперь: внимание! Начинаем!
Он поднял руки над головой и трижды хлопнул в ладони. Звук ударов был звонкий, как сухие выстрелы, от которых зазвенело в ушах. Потом я услышал тихую уютную музыку, как будто рядом играл оркестр. Я оглянулся – никакого оркестра не было! Но музыка звучала все волшебнее и прекрасней, пели скрипки, вздыхала труба, тихо разговаривал рояль, и я понял, что сейчас произойдет что-то замечательное... Легкий ветер раздувал на мне белую рубашку.
Воровский стоял, приподняв руки, как будто начнет сейчас дирижировать, и смотрел к выходу со двора, на Кузнецкий мост. Я тоже посмотрел туда: оттуда, из-за угла, показались какие-то танцующие фигуры; они шли гуськом друг за другом... Первая была Гизи! Потом Вовка! Потом Ляпкин Маленький! Они шли с серьезными лицами, пританцовывая под музыку, и одежда на них смутно поблескивала в лунном свете.
У меня вырвался вздох удивления, я хотел крикнуть: «Гизи! Посмотри, я Памятник!» – но Воровский приложил палец к губам...
А фигуры всё приближались, возникая из-за угла: за Ляпкиным Маленьким – Ляпкин Большой, потом Сама Ляпкина, потом Зусман, Жарикова, Усы, Фатима, дворник Ахмет с метлой, потом мама, Иосиф, – они шли и шли, пританцовывая, движения у них были странные, как во сне. Это было очень красиво!
За Иосифом показалась Мархлевская, потом Гизина мама, потом Гизин папа – да, да, это был он, я узнал его по фотографии, которую видел у Гизи; он был такой светловолосый, стройный, в спецовке...
За Гизиным папой показался Дик... Он шел на задних лапах!
Гизи подошла к Воровскому, он взял ее за руку, и все пошли по кругу, взявшись за руки: Гизи – Вовка – Ляпкин Маленький – Сама Ляпкина – Ляпкин Большой – Зусман – Жарикова – Усы – Фатима – Ахмет – моя мама – Иосиф – Мархлевская – Гизина мама – Гизин папа – Дик... Дик протянул свою лапу Воровскому, и круг замкнулся...
Все вдруг остановились, разом взглянули на меня и запели:
Как на Юрино рожденье
Испекли мы каравай!
(«Какое рожденье? – подумал я. – Рожденье у меня зимой, в декабре!»)
...испекли мы каравай
Вот такой ширины!
Все отошли к стене.
...вот такой ширины!
Вот такой ужины!
Теперь все сгрудились подо мной.
Каравай, каравай,
Кого любишь – выбирай! —
крикнули все...
И вдруг я увидел Конради! Я его раньше никогда не видел, но сразу понял, что это он – белый офицер; он стоял в стороне, подняв пистолет на уровне глаз, и целился, и тут я сразу понял, что пробил мой час; я тоже поднял пистолет и стал целиться в Конради.
Два выстрела прозвучали почти одновременно: первый выстрелил Конради, и я увидел, как упал Гизин папа, обливаясь кровью, и Конради стал целиться в Воровского, но тут прозвучал мой выстрел, и Конради вскинул руки и упал, тоже обливаясь кровью...

– Убил! – крикнул я, отбросив пистолет, и тут все пропало...