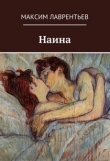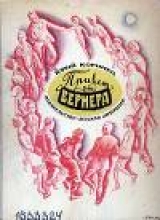
Текст книги "Привет от Вернера"
Автор книги: Юрий Коринец
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
ПРИВЕТ ОТ ВЕРНЕРА
Помню: в густом табачном дыму, как в синем тумане, плавают столики, головы жующих и хохочущих людей, оплывающие янтарными сосульками свечи с огненными язычками, вокруг которых мерцают разноцветные сияния, пронзенные прямыми, как оранжевые спицы, лучиками... Лучики движутся: прищуришь глаза – они удлиняются, впиваясь в дымный воздух; откроешь глаза – съеживаются возле самой свечки... В ушах звенит от гомона голосов, смеха, звона ножей и вилок, от плача скрипок и визга цыган на маленькой эстраде в глубине зала. Поют по-русски, и говорят по-русски, и даже смеются по-русски... Мы очень мило сидим в середине зала за круглым уютным столиком, накрытым крахмальной скатертью. Стол уставлен разными вкусными вещами в стеклянной посуде: калачи, икра, семга, соленые грузди... И еда-то вся своя, русская, какой я в Берлине еще не видал! Но на сердце у меня неспокойно, на душе противно, несмотря на то, что сижу я очень удобно – на подушке, которую подложил в кресло официант (он, кстати, тоже говорит по-русски), – противно, несмотря на всю эту вкусную еду и, главное, несмотря на то что говорят и поют по-русски. От этого даже еще противней, оттого, что все по-русски говорят, потому что все эти люди вокруг нас – наши враги! Это белые эмигранты, бывшие царские офицеры и заводчики, дворяне и недворяне, разный сброд, – все те, которых революция вымела из нашей страны в семнадцатом году. «Бывшие люди», как говорит отец.
Я сижу в костюме, который сшил мне Зусман, с салфеткой на груди, и отец в зусмановском костюме, тоже с салфеткой, а мама в шикарном немецком платье, со взбитой прической, такая красивая-красивая, что на нее нельзя не смотреть! Мы изображаем из себя – знаете кого? – добропорядочных немцев! И говорим только по-немецки! И делаем вид, что по-русски ничего не смыслим! Просто бред какой-то! Но так велел отец.
Это он сказал мне дома, когда мы сюда собирались. Он сказал, что мы пойдем в белоэмигрантский ресторан, что это так надо, для дела надо, что больше он ничего мне сказать не может. Что надо просто идти и изображать добропорядочных немцев. И не задавать вопросов – говорить на отвлеченные темы... Вы знаете, что это значит – отвлеченные темы? Это темы, которые находятся далеко от вас, да и то не все. Наркоминдел, например, сейчас от нас очень далеко, но о нем говорить нельзя. И о нашем советском посольстве, которое, кстати, намного ближе, даже совсем недалеко, тут, в Берлине, через несколько кварталов, – о посольстве тоже нельзя говорить, что вы! Упаси вас боже! Ни-ни! А о погоде, например, можно говорить, о дожде, о солнце, об игрушках – об игрушках пожалуйста, говори сколько хочешь! Особенно о немецких, о моей железной дороге, например. Поняли, что это такое – отвлеченные темы? Чтоб вам проще объяснить, скажу, что это темы, на которые говорить в данный момент не хочется. Но надо!
Вот я и говорю:
– Josef!
Но отец не слышит меня через стол из-за цыганского хора. Он о чем-то быстро говорит по-немецки с мамой, из чего я тоже не могу ни слова понять.
– Иосиф! – повторяю я громче.
– Да?
– Очень хорошая сегодня была погода, когда мы гуляли в Груневальде! – Я это по-немецки говорю, с набитым семгой ртом, и улыбаюсь.
– Ja, sehr gutes Wetter! – улыбается отец.
– Und gestern war auch gutes Wetter! («И вчера тоже была хорошая погода!») – говорю я.
– Да, – говорит отец, – и вчера тоже! – Он понимающе подмигивает мне, как заговорщик заговорщику.
И я вспоминаю, как мы с Вовкой перемигивались, когда скрывали Дика у Фатимы с Ахметом – помните? Но тогда что! Тогда все было не так, как сейчас! Сейчас все намного важнее! И я опять подмигиваю отцу и говорю:
– Наверно, завтра тоже будет хорошая погода!
– Ну ладно, хватит! – говорит отец. – Помолчи немного!
Ну, вот вам и пожалуйста! Конечно, скучно все о погоде говорить, но о том, что думаешь, ведь нельзя! Проклятый ресторан! Называется «Родина»! Какая же это родина, если это просто яма, подвал! Мы спускались сюда по обшарпанной лестнице. Довольно грязный ресторанчик, замечаю я. Пол каменный замусорен. И свечные огарки коптят; дыму от них еще больше становится. И семга пересоленная, и скатерть в рыжих пятнах – противный ресторанчик!
– Вон, видишь, – говорит отец, наклоняясь к маме и кося глазами в сторону, – это Конради!
Мне становится жарко! Тот самый Конради, который убил Воровского! И которого я ранил в бреду, когда мы спускались с Воровским во двор, – тот самый Конради разгуливает здесь как ни в чем не бывало! Он сидит где-то позади меня, я пытаюсь обернуться, но отец стучит ножом по столу и строго смотрит на меня.
– Не вертись! – говорит он. – И не смотри никому в лицо!
– А он не выстрелит в спину?.. – спрашиваю я шепотом, но отец вдруг сделал такие строгие глаза, что я чуть не подавился последним словом.
Я сижу как на иголках! Я спиной чувствую этого Конради, который сидит где-то сзади, с пистолетом в кармане, конечно! «Вот, начинается! – думаю я. – Начинается эта война!» Коснувшись спинки кресла, я вздрагиваю; мне кажется, что это Конради приложил мне к спине пистолет... «И зачем мы только сюда пришли!»
Уж лучше в немецком ресторане, там хорошо! Уютно, спокойно, чисто! Даром что среди чужих! А тут – среди своих врагов – страшно!
«Зве-е-е-зды и в сердце мо-о-е-ем!..» – тянут конец песни цыгане и под шум рукоплесканий сходят с эстрады.
«О каких они звездах поют? – думаю я. – У меня-то, я знаю, какие звезды в сердце! У меня красные пятиконечные звезды! А у них, наверное, белые и не пятиконечные!»
Бородатые цыгане в красных рубахах и сапогах и смуглые цыганки в ярких пестрых платьях, в шалях с кисточками, золотозубые, с золотыми серьгами в ушах и браслетами на запястьях, скрываются толпой за занавеской. На эстраду выскакивает какой-то юркий человечек в черном фраке с болтающимися сзади фалдами, похожий на карликового пинчера, которого мы видели в Груневальде. Он кланяется в зал, прикладывая руку к сердцу. Раздаются жидкие хлопки. Человечек садится к роялю, верхом на круглый стульчик, и, взмахнув руками, ударяет по клавишам.
«Как стра-ашно вспомина-ать! – поет он высоким плаксивым голосом. – Что где-то есть страна-а, которая для на-ас как будто бы мертва-а-а!»
Пьяные голоса в разных концах зала начинают ему подпевать:
«...Я вернусь, я вернусь в край родимый, где березы льют слезы весно-о-ой!»
– П-жалте! – говорит над моим ухом официант, ставя на стол тарелку с красным дымящимся борщом.
Толстый румяный человек за соседним столом пялит на меня пьяные глаза. Он немец – я слышал, как он говорил с официантом по-немецки. И лицо у него белобрысое, немецкое; я не могу этого объяснить, но сразу видно, что немец. «И чего он пялит на меня глаза?» – думаю я и отворачиваюсь...
Человечек на эстраде уже играет какой-то танец, и в середине зала начинают танцевать парочки. Пьяный немец встает и идет прямо к нашему столику нетвердыми шагами, бессмысленно улыбаясь... Он подходит к маме и наклоняется над нашим столом... На мгновение его лицо становится серьезным и совсем не пьяным.
– Привет от Вернера! – говорит он быстро по-немецки и добавляет по-русски: – Добрый вечер!
Показалось мне или он действительно все это сказал? Нет, конечно! Он же пьян, даже качнулся! Странный какой-то пьяный! Я смотрю на него во все глаза...
– Разрешите, мадам? – бормочет пьяный заплетающимся языком.
Он приглашает маму танцевать! Сдурел он, что ли? Сейчас отец ему задаст! Но отец кивает маме, и она встает! И идет с этим пьяницей танцевать! Что это отец – испугался, что ли? Я чувствую, что краснею, и у меня набухают глаза...
– Что это ты такой надутый? – тихо говорит отец.
– Зачем она пошла с этим... с этим пьяным дураком! – выпаливаю я по-русски. Я совсем забыл, что это нельзя. Я чуть не плачу...
– Hor'auf! Сейчас же прекрати! – сердито шепчет отец, а сам улыбается. – Это наш товарищ и вовсе не пьяный...
Я смотрю на отца растерянно-вопросительно.
– Выше голову! – говорит отец. – На нас смотрят! – Он весело улыбается, но в голосе звучат железные нотки.
«Вот оно что! – думаю я. – Отец сказал «товарищ» по-немецки: «Genosse». А немец сказал: «Привет от Вернера!» Как это я сразу не понял. Это же от Гизиного папы привет! Вот это дела! Здорово! Вот так дела!»
Я смотрю на маму: она кружится в толпе танцующих, обнявшись с этим таинственным немцем. И о чем-то с ним весело говорит, поглядывая на меня. И немец поглядывает на меня. У него толстое веселое лицо. И совсем он не пьяный, он здорово танцует!
Мне становится весело: значит, мы не одни здесь! Недаром мы сюда пришли, недаром! Да, да, недаром!
Музыка смолкает, и человек на эстраде встает, кланяясь публике, и танцующие расходятся по своим столикам. Наш новый товарищ ведет маму под руку, и опять у него пьяные глаза и противная улыбка... И опять он покачивается! Просто удивительно! Но теперь меня не проведешь, дудки! Я весело улыбаюсь этому хитрому немцу, когда он подводит маму к столу. «Сейчас поговорим», – мелькает у меня в голове, но отец не обращает на немца никакого внимания! Даже не смотрит на него! И мама на него не смотрит! Как будто его рядом и нет! А немец глупо кланяется маме, громко говорит: «Благодарю вас, мадам!» – и уходит из зала... На прощание он молниеносно подмигивает мне, но так молниеносно, что я опять сомневаюсь: не показалось ли это?
– Все так же, – говорит мама, – товарищ еще в тюрьме, но на днях его выпустят...
Возле эстрады шум – несколько пьяных что-то наперебой говорят пианисту... Потом длинный, худой, с усиками протягивает деньги, и пианист берет их с поклоном.
– Господа! «Богом хранимый»! – кричит длинный, оборачиваясь в зал.
Раздаются хлопки, шум...
– Черт, – говорит отец, – придется задержаться...
Черный человечек садится к роялю и начинает играть очень громко. Все встают, отодвигая стулья, и отец встает.
– Вы сидите! – говорит он нам с мамой.
«Богом хранимый, держа-авный! – запевает зал. – Властитель великой страны!» – все поют вразнобой, некоторые ревут, как быки, выпятив животы во фраках... А длинный с усиками, который давал деньги, дирижирует, стоя возле эстрады.

– Полюбуйся, – кивает мне отец, – вот это и есть Конради... – Он сказал это еле слышно.
«Царствуй, наш царь православный!» – ревет зал.
«Какой там царь, если его уже нет! – думаю я. – Ведь царя расстреляли! Мне отец говорил! А они поют «царствуй»! Дураки какие-то! А Конради какой противный, подлец! В спину Воровскому стрелял! А теперь стоит тут и дирижирует! И в тюрьму его даже не посадили! А наши сидят в тюрьме! Так бы и выстрелил этому Конради прямо в черный рот, которым он орет свою песню...»
Когда песня кончается, мы рассчитываемся с официантом. Он спросил у отца:
– Вы какими будете платить – долларами или марками?
И отец сказал:
– Марками...
Мы берем у швейцара свои пальто и поднимаемся вверх по грязной, выщербленной лестнице. На улице уже темно, нас охватывает морозный воздух. В черном небе тускло горят рекламы, потому что туман и изморозь. Противная зима в Берлине! Снега нет, а такой холод! Мокрый, пронизывающий. Бегут машины, прохожие спешат, подняв воротники. В конце улицы они растворяются в сером тумане, в извечном тумане, который так часто сопровождает мое детство! Отец берет меня за руку.
– Теперь побеседуем! – говорит он. – Должен сказать, что вел ты себя хорошо, но не очень...
– Почему?
– Чуть не расплакался, как баба, когда мать пошла танцевать!
– Приревновал, – смеется мама.
– Зачем вы тогда меня брали! – обижаюсь я.
– Не надо было бы – не брали! – строго говорит отец. – У нас был семейный немецкий ужин, понятно?
– Понятно...
«Хитрые они какие! – думаю я. – Вот хитрые! Но почему они тогда не убьют этого Конради? И не сделают поскорей мировую революцию?»
Я иду и... думаю, думаю, думаю...
Горят рекламы. Машины разных марок шуршат по мокрой блестящей мостовой, отражаясь в ней, как в черной реке. Спешат прохожие. Клочья тумана висят над Берлином, как надо всем миром...
СМОТРИТЕ, ЛЮДИ!
Дни шли за днями, зима в Берлине становилась все более снежной – не очень снежной, но все-таки. Приближался Новый год и дни сплошных праздников: почти целый месяц! Как так, спрашиваете вы? А вот смотрите сами!
Дело в том, что в Германии новогодние праздники начинаются за неделю до Нового года – вечером 24 декабря. Этот вечер и ночь после него считаются в Германии очень большим праздником. Все наряжают у себя дома елку, которая стоит до Нового года. Возле этой елки танцуют и поют и просто сидят, и так длится целую неделю, до 1 января. Все дни между двумя праздниками тоже праздники, и называются они «Weihnachten», то есть рождество. 1 января праздники кончаются, тогда елку опять разряжают, игрушки складывают в коробки до Нового года, а елки выбрасывают на улицу. Но это так у немцев, а у нас, у русских, праздники в Новый год только начинаются – они начинаются 31 декабря и длятся аж до 13 января, потому что 13 начинается старый Новый год! Дело в том, что у нас в России до революции Новый год начинался на две недели позже, вернее, на тринадцать дней позже, потому что раньше мы жили по старому календарю. А революция ввела новый календарь, как на Западе, – на тринадцать дней раньше. Вот и получилось в России два Новых года! Потому что некоторые стали праздновать его по новому стилю – 31 декабря, а некоторые продолжали праздновать по старому – 13 января. По-старому его продолжали праздновать разные старушки и старички, которые никак не могли согласиться с новым календарем. А самые веселые люди – вроде нас, например, и наших знакомых – праздновали Новый год два раза: по-старому и по-новому! Ведь человек в существе своем оптимистичен, шутил отец, почему бы ему не попраздновать лишний раз?..
В общем, так или иначе, но мы праздновали дома Новый год и по-новому и по-старому – два раза! Тем более, что родился-то я в Новый год по-старому, то есть в ночь с 13 на 14 января! Тут уж никак нельзя не праздновать, согласитесь со мной! Вот и было так, что в Москве мы всегда начинали праздновать 31-го, и это праздничное настроение длилось у нас до 14 января, когда мы отмечали старый Новый год и мое рождение. И эту семейную традицию мы захватили с собой в Берлин, а там прибавились еще немецкие праздники, которые начинались 24 декабря, и получается почти целый месяц веселых праздников! Ведь не могли же мы в Германии ходить все эти дни мрачные, когда все вокруг веселились и праздновали! Говорят же: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят!» Вот мы и праздновали вместе с немцами, а потом некоторые немцы, наши друзья, продолжали пребывать с нами в праздничном настроении до русского старого Нового года и моего рождения! Должен вам сказать, что и сейчас, по прошествии многих лет, где бы я ни был, я начинаю праздновать Новый год 24 декабря и праздную его до 14 января! Потому что это связано у меня с воспоминаниями детства, с воспоминаниями о моих родителях и о Гизиных родителях и о днях, проведенных в Германии. И моя жена, и мои дети тоже празднуют вместе со мной. И наши знакомые тоже. И вы, если хотите, тоже можете к этой традиции присоединиться. Потому что всегда приятно присоединиться к какой-нибудь традиции, особенно если это веселая традиция. Вы можете присоединиться к этой традиции после того, как прочитаете мою книгу. Уверяю вас, что хуже вам не будет!
Так что приближались праздничные дни, и все в Берлине готовились к этим праздникам. И я тоже готовился, внутренне, – я ожидал чего-то веселого и, конечно же, подарков. Хотя отец говорил, что я себе достаточно заказал подарков – он имел в виду тот злополучный случай с железной дорогой. Отец говорил, что я сам обеспечил себя подарками на несколько лет вперед. Но я чувствовал, что он шутит, что он просто подтрунивает надо мной. С железной дорогой я, конечно, поступил нехорошо, но нельзя же меня из-за этого лишать подарков на несколько лет! Это было бы несправедливо! Уж елку-то должны были купить, а к ней и какие-нибудь украшения и подарки, ну хоть самые малюсенькие, – совсем без них ведь нельзя! Это просто невозможно! Это не лезет ни в какие ворота, как говорили у нас дома. Так я себя убеждал, спорил сам с собой, и с отцом, и с мамой, а они все улыбались и подтрунивали. Иногда мне вечером казалось, что они не подарят, а утром опять казалось, что подарят! Немножко я, конечно, волновался и боялся, но в высшем смысле был уверен, что елка и подарки все-таки будут. Вот это и называлось: внутренне готовиться к праздникам.
Я очень ждал эту самую пресловутую елку, потому что это было тогда для меня в новинку. В те годы елок у нас в Москве не бывало – после революции елки были запрещены. В детских садах и школах даже разучивали стихи против елок, не против елок вообще, а против устройства елок в домах. Это считалось религиозной традицией, связанной с праздником рождества Христова, ибо раньше елки ставились в сочельник – канун рождества. А советские елки появились несколько позже, когда я уже ходил в школу; их тогда связали с праздником Нового года, с советским праздником, и ввел эту новую советскую традицию секретарь ЦК Постышев. Так тогда все говорили и в газетах писали, что новогоднюю елку ребятам подарил товарищ Постышев. Это все он придумал, и благодарны мы должны быть ему. Но это произошло позже, а в тот год я должен был увидеть праздничную елку впервые, и то не в Москве, а в Берлине, и именно 24 декабря, в начале немецких новогодних празднеств. Так что вы можете себе представить, как я ждал эту первую в своей жизни елку!
Хозяйка нашей квартиры, фрау Аугуста, когда заходила к нам в эти праздничные дни, то и дело спрашивала:
– А вы будете делать елку?
И я говорил:
– Будем!
А отец говорил:
– Не знаю, посмотрим! – и улыбался, хитро глядя на меня.
Тогда я кричал:
– Нет, будем! Будем! Обязательно будем!
И все смеялись. И фрау Аугуста говорила: непременно надо делать елку! Но она это говорила со своей мелкобуржуазной религиозной точки зрения, потому что она верила в бога! Мы-то не верили в бога! Ни в немецкого, ни в русского! Но все равно я хотел елку, я хотел ее не с религиозной точки зрения, а с ребяческой точки зрения, потому что праздничная елка – это красиво и весело, а все, что красиво и весело, должно принадлежать людям. Особенно детям, вы со мной согласны? Вот то-то и оно! И в этом вопросе – должен вам сказать это без лишней скромности – я предугадал мысль товарища Постышева! Да, да, нечего, конечно, хвалиться, но это так! Об этом еще никто не знает, это я вам впервые сейчас в этой книге говорю: что эту мысль предугадал я – устраивать наши советские елки! Тут уж ничего не поделаешь, вы же сами видите, что это так! Я про эту елку потом Вовке рассказывал, а Вовка другим ребятам, а те еще другим, – кто его знает, может быть, это и дошло до товарища Постышева! Это желание ребят иметь елку на Новый год! Вот он взял и подарил нам ее – всем советским ребятам! Может быть, все именно так и произошло, и я не советую вам со мной спорить, потому что обратных доказательств у вас нет!
Между прочим, Гизин папа тоже был со мной согласен: что надо купить елку. Пусть верующие устраивают свою елку и поют возле нее религиозные песни, а мы устроим свою красную елку, сказал Вернер, и будем возле нее петь наши, революционные песни! «Мы подведем под эту елку наш марксистский базис, – сказал Вернер, – и все будет в порядке!» Вот какой молодец был этот Вернер, не правда ли? Он был человек без предрассудков, настоящий коммунист!
Он теперь приходил к нам все чаще. Он говорил, что любит побыть со мной. Иногда он, правда, подолгу беседовал с отцом в его комнате. Тогда они оба закрывались и сидели там чуть ли не до утра, выкуривая по нескольку пачек папирос, так что в комнате можно было вешать топор – столько там было дыма, как говорила мама, которая приносила им туда чай. Мой отец и Вернер решали там важные мопровские дела. Этих дел у них было по горло.
Но чаще всего Вернер сидел со мной. Он говорил, что отдыхает со мной от работы. Мы играли с ним в железную дорогу, а иногда просто разговаривали. Он любил слушать мои рассказы про Гизи, потому что очень скучал по ней, ведь он ее давно не видал. И я ему много рассказывал про Гизи: как мы с ней познакомились, и как я ее сначала стеснялся, и как я на кухне когда-то хотел поразить ее своими яблоками на голове – помните? – и рассыпал эти яблоки по полу! И как мы с ней попали в Кремль на пионерский слет. И как мы жили на даче. И как я научил ее пить рыбий жир – это я ему, конечно, тоже рассказал! Он часто просил меня повторить ему этот рассказ и другие рассказы тоже. Он так любил свою Гизи, что мог слушать эти рассказы без конца. Так мы с ним без конца беседовали и беседовали, и нам не было скучно. Иногда мы с ним даже в ванной беседовали! И тут вовсе нет ничего удивительного...
Дело в том, что иногда, когда Вернер приходил к нам в гости, он заставал меня в ванне. Вечером, конечно. Он часто заставал меня там, потому что я очень любил купаться и купался почти каждый день. Ванна-то стояла всегда наготове – большая, сияющая белизной! И горячая вода всегда была под рукой: зажги колонку – и пожалуйста! И потечет горячая вода! Я любил сидеть в ванне, когда вода течет, низвергаясь из крана как водопад! Я тогда любил петь! Вода в ванне была прозрачной до дна, светло-зеленой, как в каком-нибудь горном озере! Тело в этой воде становилось розовым, руки и ноги, если смотреть на них сверху, увеличивались, как будто они были не в воде, а в зеленом увеличительном стекле! Можно было нырять и смотреть на них в воде – на свои собственные руки и ноги! И вверх можно было смотреть из воды – это было очень красиво! Белые кафельные стены, и зеркало, и ярко-желтая лампа над полкой выглядели из воды таинственными и волшебными. Они колебались, дрожали, и очертания у них были смазаны водой. Как будто вы смотрели в какой-то сказочный мир! Так рыбы видят из воды наш мир! Вот вы небось не знаете, каким представляется рыбам наш человеческий мир, а я знаю, потому что научился смотреть из воды! Вот попробуйте сами, и вы увидите, как это интересно.
А еще я любил наливать в ванну жидкого немецкого мыла – тогда становилось еще красивей! Вы наливаете в ванну немножко этого мыла, а потом пускаете сильную струю воды, и мыло вскипает под водопадом белоснежной пеной! Эта пена даже пышней, чем у самого настоящего горного водопада. И ты сидишь в облаках этой пены, как какой-нибудь водяной! Как морской царь! Одна только голова торчит из пены, и на ней тоже пена – как драгоценная корона морского царя! Так простое купание превращается в веселую игру, если, конечно, обладать хоть некоей толикой фантазии. А еще я брал с собой в ванну игрушки и играл там с ними, пока не надоест. Я любил, чтоб смотрели, как я купаюсь! Потому что я там кувыркался и показывал разные фокусы: с игрушками и без игрушек. Я всегда кричал из ванны: «Эй, смотрите, люди!» И люди всегда приходили смотреть – это были в основном родители. А иногда и гости, которые оказывались в это время у нас. Чаще всего Вернер. Как только я слышал в коридоре его голос, я сразу кричал: «Не, komm doch her! Werner!» – и Вернер сейчас же шел ко мне, и мы с ним сидели и разговаривали. Он, конечно, не в воде сидел – он сидел рядом на табуретке, а я в воде показывал ему разные штуки. Нырял как рыба, и пускал корабли, и пел. А иногда он со мной тоже пел. Он любил петь, так же как и Гизи. Он очень хорошо пел, у него был хороший голос, это Гизи от него унаследовала свой голос. «Ну, что ты там с ним все время сидишь и поёшь! – говорила Вернеру мама. – Не скучно? Иди лучше чай пить!» Но Вернер говорил, что ему, наоборот, очень хорошо и просил принести ему чай в ванную. Один раз он даже сказал, что это его идеал – вот так сидеть в ванной, когда я там плескаюсь. Ему тогда кажется, что это Гизи плескается, а он, счастливый, сидит рядом. «Такая жизнь – мой идеал, – говорил Вернер, – за это я и борюсь, и не сплю ночей, и иду под пули фашистов!» Ради нашего общего дела! Чтобы немецкие рабочие когда-нибудь все так жили! Все бедные, и нищие, и безработные – все! Ибо что такое идеал? Это самое лучшее, что только можно себе представить, это счастье, в данном случае семейное, а каждый нормальный человек стремится к семейному счастью, к своему идеалу. Коммунисты – такие люди, как Вернер и мой отец, – и борются за этот идеал для всех. Они ведь борются за коммунизм. А что такое коммунизм? Это идеальная жизнь для всех – вот что это такое. Ведь они борются за коммунизм не ради самого коммунизма, идут на баррикады не ради самих баррикад, и под пули идут не ради пуль, не ради смерти, а ради жизни, ради идеальной жизни для всего человечества! Вот это и есть «наше общее дело», как любил говорить Вернер.

Я часто спрашивал Вернера: «А мировую революцию вы скоро сделаете?» И Вернер говорил, что скоро. Он был в этом абсолютно уверен. Так же как и мой отец.