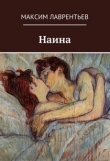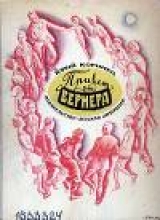
Текст книги "Привет от Вернера"
Автор книги: Юрий Коринец
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
ЧЕРНЫЙ ЦЫПЛЕНОК
Накануне Первого мая Вернер вдруг пришел к нам поздно вечером.
Отец еще не приходил с работы, мы с мамой были одни. Я уже лежал в кровати, готовый заснуть, как вдруг раздался звонок, потом щелкнул замок, и я услышал тихие голоса.
– ...und Jura? – услышал я голос Вернера.
– Er schlaft schon! – сказала мама. – Он уже спит!
– Я не сплю! – крикнул я весело.
– Aha! – рассмеялся Вернер. – Der ist aber schlau! («Вот хитрец!»)
Вернер был теперь редкий гость и очень хотел меня видеть, и поэтому мама тоже была рада, что я не сплю. Они сразу вошли в комнату. Вернер был в черном костюме с красной гвоздикой в петлице. «Это он ее прицепил в честь Первого мая!» – подумал я. Я знал, что гвоздика – революционный цветок. И в руках у Вернера был маленький яркий букет красных гвоздик. Он вручил его маме.
– С наступающим! – сказал он и сел ко мне на кровать.
Вид у Вернера был усталый, но веселый. Он похудел и уже немного загорел на своих весенних митингах. Под глазами лежали синие тени, как снег в Груневальде, обветренные скулы выступали резче, бледные губы плотно сжаты, а волосы на голове были как солнце.
– Давно я хотел тебя видеть, – сказал он, – но все не мог.
Я молчал. Мне почему-то стало грустно – может быть, потому, что вид у него был такой усталый.
– Долго еще продлится эта стачка? – спросила мама.
– Конец близок, – сказал Вернер. – И мы должны победить. – Он опять улыбнулся. – Дело вот в чем, – продолжал он, все еще улыбаясь; улыбка в его глазах разгоралась, освещая тонкое лицо внутренним светом. – Дело вот в чем – вы, наверное, скоро уедете?
– Да, – сказала мама. – Очень скоро... Иосифа отзывают.
– Я тут принес один пустячок. – Вернер полез в карман. – Для Гизи...
Он достал маленький сверток, что-то завернутое в тонкую шелковистую бумагу.
– На-ка, разверни! – протянул он его мне.
Я долго разворачивал шуршащую бумагу – ее было много, – и в самой середине этого вороха оказался маленький пушистый цыпленок! Он был совсем черный, с розовым клювиком! И еще там лежал железный ключик: цыпленок был заводной...
– Какой смешной! – сказал я. – Черный!
– Черные цыплята тоже бывают, – сказала мама. – Правда, редко!
– Я знаю, – сказал я. – Я видел у Вани на даче!
– Мне этот цыпленок напоминает Гизи, – сказал Вернер. – Такой же черненький, как она...
И я тоже увидел, что этот цыпленок похож на Гизи!
– Заведи-ка его! – сказал Вернер.
Я взял ключик, нащупал в боку у цыпленка граненый железный стерженек и завел. Потом я поставил его на тумбочку возле кровати, и цыпленок стал весело танцевать! В животе у него тихо жужжало, а он переступал по стеклу розовыми лапками, взмахивал куцыми крылышками и вертел головой.
Я смотрел на этого смешного цыпленка, а видел перед собой Гизи, и наш дом на Кузнецком, и Памятник Воровскому... Я как-то сразу почувствовал, что мы уезжаем!
Когда цыпленок затих, Вернер сказал мне:
– Прошу тебя передать его Гизи! Когда-то мы с ней увидимся, просто не знаю! И еще передашь привет Москве, – сказал он. – И своему Воровскому... ну, а теперь спи!
– Я не хочу спать! – сказал я. – Я тебя так давно не видел!
– Может, мы немножко посидим здесь? – спросил Вернер, глядя на маму.
– Конечно! – встрепенулась она.
Мама быстро сварила кофе, поставила дымящийся кофейник и чашки под лампой на тумбочке, и они с Вернером устроились рядом в креслах. Они разговаривали, а я закутался в одеяло и слушал.
– Нелегкий будет завтра день, – сказал Вернер. – Сошло бы все гладко...
Он имел в виду первомайскую демонстрацию.
– Все будет хорошо! – сказала мама.
– Полиция на ногах, – сказал Вернер. – Всюду шпики. И фашистские молодчики тоже что-то затевают...
– Где сбор? – спросила мама.
– Мы распустили слух, что сбор у Тиргартена... но это нарочно! Мы соберемся у вокзала и пройдем здесь, мимо вас...
И тут я заснул! Просто не понимаю, как это я так быстро заснул! До сих пор не могу себе этого простить!
Когда я утром проснулся, в комнате было тихо и пусто. Только на тумбочке, освещенной лучом майского солнца, стоял грустный черный цыпленок; у него был такой вид, как будто он пришел сюда сам и никакого Вернера не было...
ПЕРВОЕ МАЯ
Первое мая начиналось торжественно и вместе с тем пусто.
Мы опять стояли на балконе у фрау Аугусты, как в ту новогоднюю ночь, но внизу, под нами, уже не было никакого веселья.
Улица была пустынна, она ушла в себя, в свои подворотни и дома, приглушенная и настороженная. Ожидание демонстрации было разлито в воздухе, в холодном первомайском солнце, в насупленных карнизах домов. В этом ожидании не было торжественности: торжественность была в нас!
Я с утра повязал красный галстук, который мне подарили в Кремле, а отец вдел в петлицу гвоздику из вернеровского букета. И мама прицепила к платью гвоздику. А фрау Аугуста не прицепила, но она ведь не праздновала Первое мая. С минуты на минуту внизу по улице должен был пройти Вернер со своими рабочими, мы очень волновались. Фрау Аугуста, немного возбужденная, стояла рядом. Она говорила, что сочувствует рабочим и жалеет Вернера. «Не надо всех этих демонстраций и политики! – говорила она. – Вернер такой способный человек, зачем ему со всем этим связываться! Он всегда нашел бы себе работу у порядочного дельца! Много ли человеку надо!..» Так говорила фрау Аугуста. Она ничего не понимала в революции. И в жизни рабочих. И в том, что человеку надо много, очень много – в высшем смысле, конечно. Она не понимала всего этого, и мне было ее немножко жаль. Так же как ей было жаль нас.
На балконе было прохладно, дул ветер, но мы не уходили.
Я смотрел сквозь железную решетку на вылизанную ветром улицу.
Фрау Аугуста все о чем-то тихо говорила, излагала какие-то свои мелкобуржуазные мысли. А мы молчали. Мама сказала, что с фрау Аугустой надо вообще говорить поменьше.
Я вспомнил, как начинается Первое мая у нас, в Москве. Я вспомнил разукрашенные дома и предпраздничное оживление на улицах. И разноцветную иллюминацию по вечерам, которую мы всегда ходили смотреть в центр. И парад на Красной площади. Я часто ходил с родителями на парад, на трибуны возле Мавзолея. В Москве Первое мая было веселым и радостным, а тут...
И вдруг мы услышали песню! Это пели рабочие; их еще не было видно, они шли еще где-то там, за домами, левее, а песня, как это всегда бывает, опережала их, неслась впереди, над пустой мостовой:
Drum links! Zwei, drei!
Drum links! Zwei, drei!
Wo dein Platz, Genosse, ist?
Rein dich ein in die Arbeiter-Einheilsfront,
Weil du auch ein Arbeiter bist!
Песня звучала все громче, чрезвычайно энергично, в ритме шагов:
И – левой! Два! Три!
И – левой! Два! Три!
Проходи, товарищ, к нам!
Ты войдешь в наш единый
Рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам!
Обхватив прутья решетки, прильнув к ним лицом, я впился глазами в конец улицы... Там полыхнуло красным, и я увидел человека с красным флагом. За ним показался маленький оркестр: барабанщики и флейтисты. А дальше уже вливалась в улицу темная масса голов, над которыми колыхались плакаты – белые буквы на красном. Рабочие шли сомкнутой колонной, по четыре в ряд. Они приближались к нашему дому. Гулкие шаги сотен ног заполнили пространство. В едином с ними ритме звучали флейты и барабаны.
Кое-где на балконах и в окнах домов показались люди. Другие окна, наоборот, с треском захлопывались. Какой-то мужчина на балконе напротив приветственно поднял кулак навстречу рабочим. В первых рядах колонны тоже взметнулись кулаки.
– Rot Front! – ответила колонна.
Я тоже поднял кулак и восторженно закричал:
– Рот Фронт! – И мой голос потонул в общем крике.
Я узнал человека с флагом – он смотрел на меня, прямо в глаза мне!.. В вытянутых руках он держал древко, и алое полотнище, колыхаясь, осеняло спутанные золотые волосы.
– Это Вернер! Смотрите! – крикнул я. – Смотрите!
– Ах! – всплеснула руками фрау Аугуста. – Это ужасно!
«Что ужасно? – промелькнуло у меня в голове. – Почему? Это прекрасно!»
– Фашисты! – сказал отец.
Я посмотрел вправо, куда смотрели отец, и мама, и фрау Аугуста, и увидел фашистских молодчиков, выбегавших из подворотен и подъездов... Они что-то кричали и размахивали камнями и палками, а позади слезали с автомобилей полицейские в высоких касках, с дубинками в руках.
– Auseinandergehen! («Разойдись!») – прогремела в рупор команда.
– Wir furchten Karabiner, Gummiknüppel, Schuko nicht! Wir gehen drauf und dran! Rot Front![1]1
«Мы не боимся карабинеров, дубинок, полицейских касок! Мы наступаем! Рот Фронт!» – песня немецких коммунистов тридцатых годов. Ее пел, в частности, Эрнст Буш, известный певец-антифашист.
[Закрыть] – запели рабочие.
– Надо уходить! Сейчас начнется! – сказал отец.
– Что... – хотел я спросить и вдруг услышал свистки и крики.
Фашисты и полицейские бросились на рабочих одновременно... В мгновение все смешалось. Внизу шел бой! Я видел сверху головы и плечи, руки, наносившие удары... Над толпой мелькали черные дубинки полицейских, палки, камни фашистов, рабочие кулаки; звенели стекла... Я увидел Вернера с флагом... Потом руку с пистолетом... Раздался выстрел, и Вернер упал – как тогда, помните, в моем сне? – и я заплакал, сжимая пальцами ржавые прутья, прижимаясь к ним лбом... Меня тянуло вниз, в эту бездну, где два полицейских тащили Вернера по камням, оставляя кровавый след... Мама пыталась разжать мои пальцы... «Немедленно! Немедленно!» – кричал отец, оттаскивая меня за плечи, а я плакал, вцепившись в прутья балкона...

Меня потрясло случившееся... и то, что мы бессильны что-либо сделать. В этом была наша трагедия – трагедия бессилия: видеть, как убивают твоих друзей, и молчать...
ОТЦОВСКАЯ ПЕСНЯ
Через два дня были похороны Вернера. Я тоже был на похоронах. И мама. Отец взял нас с собой. Советским товарищам уже небезопасно было появляться на похоронах коммуниста. Террор фашистов, которые готовились захватить в стране власть, уже не останавливался перед «красными из Москвы». А с нами отец был как частное лицо, как посторонний. Мы и шли, и стояли там все время в стороне. Мало ли кто мог стоять в стороне!
С похорон мы вернулись усталые. Надо было очень много пройти по городу, а потом за городом и стоять на кладбище во время митинга. Всю дорогу нас сопровождала полиция, но все сошло спокойно.
Вернувшись домой, мы долго вспоминали эти похороны, переживали их снова. Мы вспоминали, как шли за черным гробом, утопавшим в красных гвоздиках. Мы шли сзади, а впереди блестел медными трубами оркестр. Он все время играл «Реквием». Этот «Реквием» написал Моцарт – великий композитор. Это великая музыка, в ней сказано все о человеческой смерти. И о жизни.
Мама все время плакала. И многие плакали. Но отец не плакал. И я тоже. Я думал о живом Вернере, и о Гизи, и о черном цыпленке, и – почему-то – о Воровском. И о своем московском сне я думал...
Так мы сидели дома и вспоминали этот ясный весенний день на кладбище, дымчатую зеленую листву на деревьях, свежие комья сырой земли возле открытой могилы. И выступления рабочих – друзей Вернера.
Мы вспоминали безмолвные ряды полицейских, оцепивших кладбище. И вездесущих шпиков в черных пальто и котелках, сновавших вокруг.
Когда гроб опустили в могилу, все стали бросать туда горстки земли.
Тогда мы тоже прошли вперед и бросили по горсти.
Мы это все снова переживали, сидя дома, в комнате отца. За окном быстро темнело, надо было ужинать. Но ужинать мы не могли.
Мы говорили о Гизи, и о ее маме, и о том, что вот – они даже не смогли приехать на похороны! И о том, что мы скоро поедем домой и все им расскажем, и я передам Гизи цыпленка.
Я достал сверток и развернул цыпленка и поставил его на стол... И он вдруг затанцевал! В нем еще сохранился завод! Но от этого танца мне стало страшно!
– Как я его передам? – сказал я. – Мне будет страшно его передавать!
– Надо передать, – сказал отец. – Именно ты должен его передать!
Мама взяла затихшего цыпленка и погладила его по голове.
– Как Вернер странно его принес! – сказала она. – Как будто он уже тогда чувствовал свою смерть...
– Подождите, – сказал отец. – Я спою песню...
Отец запел, почти не растягивая слов, совсем тихо:
О чем эта песня
В степи у огня?
Как сына отец
Поднимал на коня!
Обычная песня,
С обычным концом:
О доле казачьей,
О сыне с отцом.
Как вместе полями
Скакали они,
Смеялись и пели
В счастливые дни...
О чем эта песня
За тихим столом?
О том же коне
С опустевшим седлом.
Поникшие с гривы
Висят повода.
Отец не вернется
Домой никогда.
Бесстрашно с врагами
Рубился казак!
Что смерть его встретит —
Не думал никак...
О чем эта песня
В полынных кустах?
То клятва звучит
На сыновних устах.
Сын в юные руки
Берет повода —
Он в битву помчался!
Так было всегда...
Так было когда-то,
И будет опять:
Что сын за отца
Должен песню кончать.
Мы с мамой сидели и слушали, глядя в темное окно, а потом я спросил:
– Откуда эта песня?
– Это старая песня! – сказал отец. – Ее пел мой отец – твой дедушка...
– А ты ее пел про Вернера?
– Про всех нас, – сказал отец. – И про Вернера тоже...
– А кто же будет кончать его песню? – спросил я. – Если у него сына не было?
– Зато у него Гизи! – сказал отец.
– Но она же дочка!
– Иные дочери бывают похрабрее сыновей! – сказал отец. – А теперь пошли спать!
«Интересные слова он сказал!» – думал я, засыпая.
Я тогда еще не знал, что все так и будет!
СОН
Ночью ко мне пришел Памятник Воровскому, как тогда, в Москве, когда я болел.
Я не удивился, когда он вошел в комнату, большой и взъерошенный, несмотря на то что из камня. В петлице у него была черная с красным ленточка.
– Это у тебя траур по Вернеру? – спросил я.
Он кивнул и сел ко мне на кровать, как тогда.
Я не удивился, но все же спросил:
– Как ты приехал? А Москва? Теперь ты будешь стоять здесь?
– Нет, это опять мгновение, – сказал Воровский. – Никто не заметит, что я здесь...
– А как тебе удалось перейти границу?
– Это потому, что я – твои воспоминания, – сказал Воровский. – Ты обо мне думаешь, вот я и пришел. И на похоронах Вернера я тоже был...
– А это было удобно? – спросил я. – В смысле дипломатии?
– Вполне, – сказал Воровский. – Я был с вами незримо. Потому что ты обо мне думал.
– Да, – сказал я.
– Вот и уходит твое первое детство! – сказал вдруг Воровский. – И писем ты мне больше писать не будешь!
Мне стало как-то неловко. Я действительно не собирался ему больше писать. Хотя теперь-то я знал все настоящие буквы.
– Я же был тогда маленький! – сказал я. – Но я тебя все равно не забуду! И Вернера!
– Нас нельзя забыть! – сказал Воровский. – Мы всегда будем с тобой – там, куда уходит твое детство... А все же мне будет грустно без твоих писем!
– Ты говоришь, что мое детство уходит? Куда?
– В воспоминания! – сказал Воровский. – Все на свете уходит в воспоминания. Это и есть жизнь, когда действительность превращается в воспоминания. И надо жить так, чтобы эти воспоминания были хорошими, чтобы ты мог ими гордиться...
– Чего уж тут хорошего! – сказал я. – Вернера убили! И тебя тоже!
– Разве ты не гордишься Вернером? – спросил он.
– Горжусь! – сказал я. – Но тяжело, когда...
– Вот то-то и оно! – перебил меня Воровский. – Даже тяжелыми воспоминаниями можно гордиться! И учиться на них, чтобы не оплошать, когда пробьет твой час...
– Я не оплошаю! – сказал я.
– В этом я уверен, – кивнул Воровский.
И я кивнул.
– Главное – быть смелым и бороться за наше общее дело, как говорил Вернер... Тогда никакие воспоминания не будут страшны. Никакой конец, даже трагический... Он все равно будет хорошим и светлым!
– Как у тебя?
– Как у нас, – сказал Воровский.
– И у меня?
– У тебя еще все впереди! – улыбнулся Воровский. – Я имею в виду жизнь. Твое детство только начинает от тебя уходить. Оно уже сделало первый шаг и стоит у порога... Скоро ты вернешься в Москву и пойдешь в школу, а потом в институт... или в армию... Тебя ждут большие дела! И надо, чтобы в этих делах главным была революция!
– Война?
– Не обязательно! Но может быть и война... Хотя революция может быть и без войны: учиться, сомневаться, переделывать, ненавидеть и любить – это тоже революция! Ну, мне пора...
– Когда ты вошел, тебя никто не заметил? – спросил я.
– Они спят! – сказал Воровский. – Я всех видел... Спит Гизи здоровым сном неведения: она еще ничего не знает! Спит Вовка, и ему снится сон о пионерском слете. Спит Вернер в свежей могиле, и ему уже ничего не снится! И я сам сплю в могиле! Но не спят часовые революции! И памятники! Потому что живет наше общее дело... – Воровский все это говорил, как стихи, все тише и тише, пока не замолк, не исчез в темной берлинской ночи...
* * *
Я начинал эту повесть в тумане и кончаю ее тоже в тумане – в тумане времени.
В этом тумане я вижу, как мы уезжаем из Берлина, где уже дышит лето, и приезжаем в Москву, где нас опять встречает весна.
Я вижу, как в вечер приезда я вручаю Гизи цыпленка – посмертный подарок отца. Гизи молча берет его, глядя на меня огромными глазами, и уходит за ширму. И там долго плачет. И мы не мешаем ей плакать...
Так закончилось мое первое детство, мое брезжущее утро. Настоящее утро и день еще не начинались. А кончились они много-много поздней. Детство ведь бывает очень долгим. И время там идет медленно. Потом, когда вы вырастете, оно помчится быстро! Не успеешь оглянуться, как ты уже старик! Сейчас, например, мое время летит, как на Луну ракета... хотя я еще вовсе не старый. Но уже живу медленно. А у вас, ребята, наоборот: сами вы живете быстро, а ваше время движется медленно, только еще набирая скорость! И хорошо! Пусть ваше детство будет медленным и прекрасным. Как безоблачное утро в тумане. И никогда не спешите с ним расстаться, несмотря на то, что порой вам так хочется этого. Пусть оно идет медленно и получше запомнится вам. Чтобы было потом что вспоминать.

ЭПИЛОГ, ИЛИ ВЗГЛЯД В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Несколько слов о судьбе героев этой повести.
Лучше всех, пожалуй, сохранился Памятник Воровскому. Он стоит все там же, вверху Кузнецкого моста, перед тем же домом, хотя в доме уже давно не Наркоминдел. Воровский ни капельки не изменился. Когда я случайно бываю рядом, я захожу во двор моего детства и долго смотрю на Воровского. «Здорово, старик!» – шепчу я, и мне кажется, что он в ответ подмигивает. Хотя я понимаю, что это мне только кажется. И во сне он ко мне тоже больше не приходит. Сейчас мне снятся другие сны, все больше война. И писем я, к сожалению, Воровскому тоже не пишу... Да, отчасти я потерял сказочное отношение к окружающему. Но я изо всех сил стараюсь не терять его дальше. Потому что пишу книги для детей, а они ведь самые мудрые мастера сказок, и тут очень важно самому подольше оставаться ребенком. Это, конечно, не значит впадать в детство: впадать в детство – это совсем другое дело, упаси вас от этого! Хорошо было бы прожить всю жизнь, никогда не впадая в детство, но храня свое детство в сердце как самое прекрасное и мудрое время.
Родители мои умерли – Иосиф и мама, – и многие умерли, которые жили на страницах этой книги. Ведь столько было с тех пор, о чем я еще не написал!
Дик, конечно, давно умер, потому что собачий век короток, намного короче человеческого.
Зусман умер, и Жарикова умерла, так и не дождавшись, что Вовка станет художником. Между прочим, художником он не стал, мой самый лучший друг Вовка. Зато он остался моим другом. Мы с ним иногда переписываемся, когда нам очень трудно или, наоборот, когда очень хорошо, а иногда – раз в несколько лет – он бывает у меня в Москве. И я у него несколько раз был: это очень далеко, за Полярным кругом. Там Вовка работает орнитологом на биостанции – изучает птиц. У него очень милая жена, которая иногда в шутку зовет его по фамилии: Зусман, и двое мальчиков, таких же рыжих, как он, и очень похожих на него в детстве. Так что вместо одного Вовки у меня сейчас три! Правда, два «отпочковавшихся Вовки», которых зовут Петя и Юра, еще маленькие, потому что женился Вовка поздно, как и я, как все мы, у которых полжизни отняла война. Художником мой друг не стал, может быть, потому, что на войне ему оторвало правую руку. Но делает он свое дело так же увлеченно, как все, чем занимался в детстве. И так же мне с ним интересно, как было когда-то. И так же он знает обо всем на свете. И так же я могу на него положиться, как когда-то, когда он заступался за меня во дворе.
Мой деревенский бог Ваня, лоточник Кузнецкого моста, герой моей солнечной карусели, давным-давно где-то исчез. Куда он подевался в этом мире? Ведь подеваться-то было куда! Может, погиб где-нибудь... А может, он жив и здравствует, может, он даже прочтет эту книгу и узнает себя. Все может быть. Ведь говорят же, что может быть даже то, чего вообще никогда не бывает!
Один раз, спустя много лет, встретил я Ваню в Москве, но встреча эта вышла у нас неловкой. Это было в летнем театре «Аквариум». Мы ходили с отцом в оперетту. Иосиф мой был в то время уже старым и не таким красивым, как в моем раннем детстве. А я был этаким мнительным московским отроком с пробивающимися на верхней губе усами. Это меня очень смущало, оттого я был необщительным и всех стеснялся. Мы сидели с отцом в средних рядах у прохода и в антракте вдруг увидели, что по проходу прямо на нас идет Ваня! Мы его сразу узнали, но какой он стал важный! Это был уже не деревенский парень, светлый и неотесанный, хотя совсем неотесанным его никогда нельзя было назвать. Прямо на нас шел московский молодой франт в черном костюме с бабочкой на белом воротнике под подбородком, как когда-то носил мой отец. Голову с завитыми волосами Ваня нес подчеркнуто высоко, он шел размеренной красивой походкой, и его взгляд самоуверенно скользил по лицам... Отец очень обрадовался ему, вскочил, крикнул: «Здравствуйте, Ваня!» Ваня остановился и жеманно поздоровался с нами. Мне показалось, что он не рад. И оттого, что он так блестяще одет, намного лучше, чем мы (мы вообще в то время жили неважно), и оттого, что он был так надменен, я совсем смешался и молчал. Ваня скупо сказал, что учится в университете. Может быть, он был так натянут оттого, что мы назвали его «Ваней»? Может, ему было неприятно, что мы знали его деревенским парнем, знали, что его родителей в деревне называли кулаками. Может, он боялся этого, кто его знает! Но он был сух, и радость отца тоже сразу потухла. Ваня быстро попрощался и пошел дальше, высоко неся по проходу свою завитую голову... Больше я его так и не видел.
Ляпкин Маленький мне как-то сам позвонил, узнав мой телефон. Но разговора не получилось, вернее, я хоть и отвечал, но отклика в моем сердце не было. Потому что уж очень сильны были в его голосе нотки Ляпкина Большого. На вопрос, где он был во время войны – на каком фронте, – Ляпкин Маленький бодро пискнул: «Что ты! Почему на фронте? Я всю войну просидел в Куйбышеве, в штабе МПВО!» Тут позор вовсе не в том, что он был в Куйбышеве, а в том, с какой гордостью и презрением к фронту он об этом сказал. Ну что ж, ведь недаром говорится: яблочко от яблони недалеко падает...
Еще несколько важных слов о Гизи – о моей далекой и самой первой любви... И тогда, когда я еще называл свою любовь дружбой, и позже, когда мы учились в разных школах и виделись лишь иногда, потому что наши мамы стали реже общаться – жили мы в разных концах Москвы,: – и тогда, изредка встречая ее и зная, что и она знает, что я ее люблю, но опять стесняясь, как в самом начале нашего знакомства, я в глубине своих мыслей всегда о ней думал... Такая она была веселая, и скромная, и красивая! Один только раз я встретил ее невеселой. Это было в самом начале войны...
Я случайно встретил Гизи на площади Пушкина, в толпе возле столба, на котором содрогался черный репродуктор. Передавали обращение к народу. Кончалось оно словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Когда репродуктор замолчал, люди еще некоторое время молча под ним стояли, стояли черной суровой толпой, потом стали медленно расходиться. Мы с Гизи тоже пошли по площади. Мы пошли к памятнику Пушкину и там сели на лавочку.

Гизи была все такой же яркой и красивой, как в далеком детстве. Но фарфоровый румянец исчез, сейчас она стала смуглой, высокой и стройной девушкой. Она таки вылечилась у нас от чахотки! Мы вспомнили, как я учил ее пить рыбий жир, и Гизи улыбнулась. На щеках заиграли ямочки, но улыбка получилась невеселой, и глаза смотрели сурово... Ведь она была немкой! Невесело было быть немцем в те годы, да и сейчас еще невесело, когда вспомнишь, что весь почти немецкий народ поверил в своего сумасшедшего Гитлера и ринулся с ним на целый мир. Я говорю «почти», потому что оставались среди немцев такие люди, как Гизи, которым было все это особенно тяжело. Они переживали это как свою трагедию.
Мы долго говорили с Гизи в тот страшный день, сидя на лавочке возле печального Пушкина. Гизи говорила мне о том, как ей тяжело. Что ей кажется, что все москвичи смотрят на нее с презрением и ненавистью. Какие-то люди во дворе, где она сейчас жила, обозвали ее фашисткой. Она сказала, что понимает этих людей, хотя ей и больно. Она еще докажет, какими должны быть настоящие немцы, сказала Гизи. В тот год она только что кончила десятый класс, как и я. Мы с ней оба были комсомольцами. А я еще был допризывником и ждал со дня на день повестку в армию. Гизи не ждала повестку – девочки ведь невоеннообязанные, – но она сказала, что сегодня же пойдет в военкомат и поговорит с начальником. Что она подаст заявление, чтобы ее взяли на фронт: ведь она знает немецкий и могла бы быть переводчиком. Она сказала, что в Москве есть друзья ее отца, бежавшие от Гитлера коммунисты, и они ей помогут. А еще лучше стать разведчиком, сказала Гизи. Она очень хотела стать разведчиком и работать в тылу фашистов. Там она могла принести больше пользы. Я сказал, что тоже хотел бы стать разведчиком или летчиком, но не знаю, куда меня возьмут. Будущее было полно неизвестности, как никогда раньше... Как и все, мы с ней верили твердо: война скоро кончится, пройдет несколько месяцев, и Гитлер будет разбит! И мы с ней опять встретимся. Мы решили встретиться на этом самом месте, сразу после войны. Не ошиблись мы только в одном – что Гитлер будет разбит, но случилось это вовсе не так скоро...
Долго мы говорили в тот день, говорили в последний раз – больше я Гизи не видел. Страшная война раскидала нас в разные стороны. Я потерял след Гизи, хотя долго разыскивал ее – и во время войны, и после, наводил о ней разные справки, но все было бесполезно. Совсем недавно я случайно узнал о ее судьбе...
Вскоре после той нашей встречи, когда фашисты были уже под Москвой, Гизи поступила в разведшколу. Взяли ее туда как дочь погибшего немецкого коммуниста. Гизи проучилась там несколько месяцев, а потом ее забросили в тыл врага со специальным заданием. Она должна была пробраться в гестапо и стать переводчиком у немцев. Гизи все прекрасно удалось. Целый год она успешно работала у врага где-то на юге, бесстрашно передавая нашей разведке важные сведения. Присутствовала она и при допросах наших пленных. Один раз, во время допроса, один из пленных, учившийся вместе с Гизи в десятилетке, узнал ее! Он решил, что она предательница, продавшаяся фашистам... С кулаками кинулся он на нее, вне себя от гнева, и невольно все выдал. Судьба Гизи была решена: после страшных пыток ее расстреляли. По документам, которые попали мне в руки, я увидел, что Гизи держалась перед фашистами храбро, что она никого не выдала и умерла героем. И это та самая Гизи, которая так испугалась живого рака, которого я поймал ей на даче...
Гизина мама умерла на второй год войны, далеко от Москвы и Берлина – в казахстанских степях, куда она была эвакуирована. Наверное, она умерла от горя, узнав о гибели Гизи.
Так погибла вся эта семья.
Это очень страшно, когда погибает вот так целая семья. Когда от целой семьи, как от кустика, не остается ничего: ни одного цветочка, ни одного побега, ни даже сухого корешка! Как будто этой семьи вовсе и не было! Но она была – свидетель тому моя книга.
Много прекрасных семей, а не только людей погибло в этой войне. Они погибли для того, чтобы лучше жили мы с вами, говорим мы себе, и это так! Но эта мысль не излечивает. Есть в этих словах неразрешимая печаль.
Конец