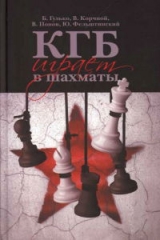
Текст книги "КГБ играет в шахматы"
Автор книги: Юрий Фельштинский
Соавторы: Владимир Попов,Борис Гулько,Виктор Корчной
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
11. Прорыв
Шестого мая, отсидев после демонстрации положенные три часа в милиции и наигравшись в нарды, в которые Аня нещадно обыгрывала меня, мы, как всегда, отправились на Старую площадь писать жалобу Горбачеву. Текст уже составлялся привычно. Поодаль нас поджидали наши соглядатаи. В тот день за нами следовала по пятам Домохозяйка – тетка с хозяйственной сумкой – и вторым эшелоном, чуть поодаль, следовали обсуждавшие что-то свое молодые ребята.
Когда мы покинули приемную ЦК, Домохозяйка чуток поотстала. «Бежим!» – приказала мне Аня. Ничего в этом ее импульсе не было, кроме усталости, оттого что за тобой все время кто-то ходит.
Мы помчались. В те годы мы были хорошими спринтерами. Краем глаза я видел на значительном расстоянии бегущих гэбэшников. Влетев в подземный переход на площади Ногина, мы не повернули налево, к толпе у входа в метро, а выскочили наверх с другой стороны перехода и юркнули в первую же дверь ближайшего здания. Это была приемная первого секретаря московского горкома партии Бориса Ельцина.
Мы долго писали ему письмо, отдышались и расслабились. Когда через полчаса мы вышли наружу, за дверью нас никто не поджидал.
Мы направились к Котельнической набережной, подальше от метро, где нас могли еще искать. Это было ни с чем не сравнимое чувство – за нами никто не шел. Чтобы испытать его, нужно целый месяц находиться «под колпаком» у КГБ. Такая небывалая свобода требовала выражения в каких-то действиях.
Мы замечали, что некоторые отказники, во время наших первых демонстраций изредка мелькавшие в толпе прохожих, чтобы увидеть, что происходит с нами, последние дни осмелели и небольшой группой стояли через дорогу от памятника, наблюдая наши баталии. Я видел по их лицам, что люди близки к тому, чтобы присоединиться к нам. Всем был ненавистен отказ, пожирающий годы жизни. '
Мы решили поехать к кому-нибудь из знакомых отказников и предложить участие в нашей демонстрации. Договариваться нужно было в секрете, иначе человека могли похитить по дороге на демонстрацию, как похищали в первые два дня кампании нас.
Выбор пал на отказников нашего призыва, 1979 года, ученых-биологов Володю Апекина и Катю Сказкину. Они вместе со своей дочерью Катей-младшей, талантливой художницей по керамике, представлялись нам людьми более решительными, чем большинство наших прочих знакомых. К тому же Володя находился в отчаянной ситуации. Ему необходима была операция на сердце, и делать эту операцию нужно было, естественно, не в Союзе. От кого-то я слышал, что Володе грозила и ампутация ноги.
Мы отправились к Апекиным на Рязанский проспект. Их, конечно, дома не оказалось. Прошлявшись часа полтора по проспекту, омерзительно безобразному, как большинство московских новостроек того периода, мы дождались их.
За чаем на кухне я рассказал о нашей кампании.
– Похоже, санкции на нашу посадку КГБ не получило. Выйдя на демонстрацию с нами, можно оказаться защищенным этим отсутствием санкции. С другой стороны, терпеть разрастание демонстрации они не могут. Значительна вероятность того, что просто отпустят.
Над столом повисла напряженная тишина. Секунд на двадцать. Может быть, на полминуты.
– А что… я выйду, – произнес Володя.
Мы обговорили все детали и отправились домой.
На следующий день Володя Апекин поджидал нас на лавке у памятника Гоголю. И надо же было такому случиться, мы запоздали. Минуты на две или на три. Эти минуты, Володя рассказал мне потом, были самыми страшными минутами в его жизни. Наконец с огромным облегчением он увидел, как мы пересекаем площадь и направляемся к памятнику.
Опираясь на палочку, Апекин поднялся с лавки у памятника нам навстречу. Мы стали в ряд и сняли куртки. На Володиной груди, на синей майке красовалась аппликация: «Отпустите нас в Израиль».
Я почувствовал – или мне почудилось – замешательство в среде поджидавших нас гэбэшников. Наверняка уже звонили телефоны в каких-то кабинетах на Лубянке, а может быть, и на Старой площади. Наконец к нам подошли милиционеры и потребовали, чтобы мы прошли к милицейской машине. Опираясь на палочку, Володя заковылял к машине.
– Мы не пойдем, – привычно заявили мы с Аней.
– Я тоже не пойду, – передумал Володя и вернулся в строй.
Надо отдать должное милиционерам: Апекина, я видел, они несли очень осторожно.
В тот день мы пробыли в милиции дольше обычного. Где-то велись обсуждения, кто-то получал втык. Наконец появились гэбэшники и приказали нам снять наши майки с аппликациями. Володя стал расстегивать куртку.
– Мы не снимем, – сказали мы с Аней.
– Я тоже не сниму, – присоединился к нам Апекин, вновь застегивая куртку.
Когда двое держат, а третий снимает майку – ничего не поделаешь. Мы с Володей подчинились неизбежному. Но не Аня. Она вырывалась и стойко противилась насилию. «Теперь вы увидите, кто из нас плохой», – злорадно подумал я. А может быть, Ане, долго работавшей над аппликациями, было жаль своей работы…
Освободившись, Володя поехал домой, а мы направились к телефону-автомату, из которого я все последние дни после демонстраций обзванивал корреспондентов. Автомат тот притулился к зданию Министерства иностранных дел СССР на Смоленской площади и в отличие от большинства московских автоматов всегда был исправен. Думаю, что он и прослушивался всегда. Впрочем, как и телефоны западных корреспондентов, которым я звонил.
Я рассказал корреспондентам историю Апекина, присоединившегося к нам, и пообещал, что 11 мая, когда в Нью-Йорке намечалась стотысячная демонстрация в защиту советских евреев-отказников, мы в Москве тоже выведем на демонстрацию группу людей.
С моей стороны такое заявление было не полным блефом. Я чувствовал, что есть отказники, готовые присоединиться к нам.
В тот вечер к нам домой приехал милиционер и привез повестку явиться в ОВИР на следующий день в четверг 8 мая к 4 часам пополудни. Очевидно, они хотели сорвать нашу демонстрацию, назначенную на три.
Мы поехали в ОВИР с утра. Известная всем отказникам Москвы инспектор Сазонова приняла нас сразу. Впрочем, мы разделились. В кабинет вошел я, а Аня осталась ждать снаружи.
Сазонова предложила мне взять домой и вновь заполнить анкеты, поскольку старые, заполненные семь лет назад, устарели. Я ответил, что зачем, мол, попусту заполнять анкеты. Пусть она лучше скажет мне, намерены ли они нас отпустить. Сазонова отвечала что-то нечленораздельное. Я настаивал. В конце концов Сазонова произнесла: «Принесете заполненные анкеты и получите открытку».
Открыткой называли документ, в котором было сказано о разрешении на отъезд и было указано, какие действия нужно совершить, чтобы получить выездную визу. Это походило на победу.
Я покинул кабинет. Снаружи Аня сообщила мне, что, вслушиваясь из-за двери в перебранку, она явственно слышала, как Сазонова все время кричала мне: «Вам разрешено», а я каждый раз что-то возражал ей. Это означает, что мой слух отказывался воспринимать фразу, которую я тщетно ждал долгие семь лет. Сознание не принимало ее.
Я позвонил Апекину и сказал, что на демонстрации мы больше не выходим – нас отпускают. Володя ответил, что подумает, что ему делать дальше.
Я испытывал некоторую неловкость перед Апекины-ми. Мы использовали Володино мужество, а теперь бросали его.
На следующее утро к нам пришла мама и сказала, что звонил Апекин и просил меня перезвонить ему. Я отправился на квартиру родителей. Отцу, как ветерану войны, поставили телефон, который, как у отца диссидента, тщательно прослушивали. На это Апекин и рассчитывал.
– Я напишу открытое письмо на Пагуошскую международную конференцию, – передавал через телефон моих родителей угрозы КГБ Володя, – напишу еще в какие-то инстанции.
– Мм-да-а-а, – мычал я расстроенно. – Очень Пагуошская конференция ему поможет.
Через два часа мама пришла к нам опять. Апекин просил позвонить ему еще раз. Я уже догадывался, что услышу.
– Я решил выйти на демонстрацию один, – услышал я в трубке.
– Вот это правильно, – поддержал я Володю.
Я догадывался, что на Лубянку поступил окрик со Старой площади, и КГБ должен был прекратить наши демонстрации немедленно. Все же выйти на демонстрацию одному, не имея относительной защиты, которую давала нам наша шахматная известность, я понимал, было нелегким решением.
Слава богу, угроза Апекина, переданная через телефон моих родителей, сработала. За несколько часов до демонстрации, на которую с Володей решила выйти его дочь Катя, милиционер доставил Апекиным открытку с разрешением покинуть Советский Союз. В Америке Володе сделали успешную операцию на сердце. И до сего дня – двадцать один год спустя – Апекин продолжает успешную научную работу в Массачусетском технологическом институте.
Неделю мы заполняли анкеты, получали какие-то дополнительные справки, и 15 мая, ровно через семь лет после подачи документов, мы опять были в Колпачном переулке, столь хорошо знакомом московским евреям, и вручили бумаги Сазоновой.
– Все в порядке, можете идти, – сказала она нам.
– А где же открытка?!
– Так вам сразу и открытка, – сыронизировала инспектор ОВИРа. – Ждите. Получите по почте.
– Мы уже семь лет ждем.
– Подождете еще.
С тяжелым сердцем спустились мы от Колпачного переулка к Старой площади. Мы надеялись, что наша борьба окончена. Похоже, это было не так.
Мы зашли в какой-то музей, размещавшийся в старой церкви, прятавшейся среди тяжелых зданий огромного комплекса ЦК КПСС. Постепенно решение вызрело.
Я набрал номера нескольких друзей-отказников, в телефонах которых был уверен. Телефоны эти прослушивались круглые сутки. «Нас обманули», – сообщил я им. – Завтра мы вновь выходим на демонстрацию».
Когда мы добрались до Строгино, нас дома уже ждал милиционер с открыткой: принесите такие-то документы, получите выездную визу.
Мы показали невероятную, казалось, вещь. В Советском Союзе можно провести демонстрацию протеста против действий властей и с вероятностью, отличной от нуля, добиться своего, а не загреметь в тюрьму.
Уже в дни сбора справок для выезда я свел вернувшегося за год до того из заключения отказника Бориса Чернобыльского с западными корреспондентами. Боря уже готовил новую демонстрацию. Вскоре он вывел свою семью – жену и троих детей – к Большому театру. Впятером они развернули лозунг «Чернобыльских – в Израиль».
В отличие от нас Чернобыльские не предупреждали власти заранее о своей акции и застали КГБ врасплох. Дело было через три недели после чернобыльской катастрофы, и гэбэшники, которыми в те времена кишел центр Москвы, никак не могли врубиться, что означает странный текст. Он звучал даже несколько антиизраильски. Может быть, даже был намек на то, что ядерный реактор в Чернобыле взорвали евреи. В этом случае такая демонстрация могла бы быть и разрешенной.
Только через 12 минут Чернобыльских скрутили. При этом гэбэшников взбесило, что лозунг был написан не на бумаге, как это делали мы в начале нашей кампании, а на снятой со стола клеенке. И порвать этот лозунг не представлялось возможным.
Борис получил 15 суток ареста. Но плотина была прорвана. Через какое-то время пришла информация о демонстрации отказника где-то в провинции.
Девять месяцев спустя, в начале февраля 1987 года, я прилетел уже из Америки на шахматный турнир в Париж. Добравшись до отеля, я по привычке сразу включил телевизионные новости. Рассказывали о демонстрации отказников в Москве с требованием освободить отбывавшего семилетнее заключение Иосифа Бегуна, отказника, осужденного за антисоветскую пропаганду. Нескольких женщин-отказниц, а среди демонстрантов было большинство женщин, гэбэшники жестоко избили. Сломали кинокамеру какому-то западному телеоператору. Но вскоре, в том же феврале, Бегуна освободили.
Это был уже другой уровень протеста. Боролись за права другого. И победили.
В ноябре 1987 года, переключая телевизор в нашей бостонской квартире с одной программы новостей на другую, я в каждой видел свою сестру Бэллу, ругающуюся с гэбэшниками во время большой демонстрации отказников на Смоленской площади перед зданием Министерства иностранных дел СССР. География еврейских демонстраций по Москве расширялась.
Рядом с Бэллой сражался с гэбэшниками за свою камеру известный тележурналист Арнетт. А так как все это снималось, было ясно, что рядом работали еще несколько тележурналистов.
Теперь понятно, что КГБ и партия совершили ужасную для себя ошибку, создав в СССР многотысячную общность отказников. Когда режим попытался модернизироваться, эта группа людей, по советским меркам внутренне свободная, борясь за свои права, увлекла и других и во многом способствовала гибели советской системы.
Занятна история отказника Сергея Мкртычана. По примеру нашей демонстрации, он с женой и младенцем-сыном начал весной 1988 года свои ежедневные демонстрации у памятника князю Юрию Долгорукому напротив Моссовета, требуя разрешения на выезд. Власти повели себя так, как я опасался, они могли бы повести относительно наших демонстраций, – власти не реагировали. Но Сергей демонстрировал и демонстрировал.
Постепенно к нему стали присоединяться другие. Но не отказники. Мало ли у людей могло быть претензий к советским властям. Демонстрации становились массовыми.
В концё концов Сергей с семьей уехали из СССР. А оставшиеся усвоили себе, что можно бороться с властью за свои права.
Вернусь к нашему отъезду. Сказалось чрезмерное напряжение последних полутора месяцев – 22 мая у Ани начались непонятные сильные боли в животе. К нам приехал мой дальний родственник и наш хороший друг Леня Селя. Сейчас Леонид – нейрохирург в пригороде Вашингтона и профессор Джорджтаунского университета. А тогда он работал хирургом-ортопедом в Боткинской больнице. Леня отвез Аню в свою больницу и простоял около нее в ту ночь все время, пока ей делали операцию. Что могло взбрести в голову людям из КГБ, когда человек столь беззащитен – с разрезанным животом и под наркозом?
На следующий день я приехал проведать Аню. Соседняя с Аниной палата была убрана в мрамор. Она была мемориальной. В этой палате в 1918 году лежал Ленин после того, как в него стреляли на заводе Михельсона. И я подумал, что между этими двумя палатами умещается вся история политически активных евреек России XX века. От страстного стремления что-то изменить в этой стране до не менее страстного желания покинуть ее.
В понедельник 26 мая я принес Сазоновой все необходимые бумаги.
– Вам надлежит покинуть СССР до четверга двадцать девятого мая, – сказала Сазонова.
– А нельзя ли в пятницу? – на всякий случай поинтересовался я.
– Нет, – на секунду задумавшись, ответила Сазонова.
А я подумал, что если бы она ответила – можно, мы все равно постарались бы улететь в четверг.
Я взял такси и поехал за Аней. Несмотря на то что врачи советовали ей пробыть в больнице еще три дня, нам пришлось сразу ехать домой. Нужно было получать визы в австрийском и в представлявшем Израиль голландском посольствах, покупать билеты.
После получения разрешения, когда конфликт, кажется, разрешился, опека над нами со стороны КГБ не ослабела – все те же две машины без номеров и две бригады преследования. При этом, видимо, обидевшись на унижавшее их поражение, гэбэшники стали грубы: толкались, угрожали.
Аня как-то пошутила: «Есть вариант, при котором мы не уедем никогда. Если они потребуют, чтобы мы оплатили им их работу с нами, – нам не расплатиться». Конечно, с нас содрали, как и со всех уезжавших тогда, по 1300 рублей с человека за отказ от их гражданства – примерно по среднему годовому заработку за один отказ. Но эти деньги покрыли бы лишь малую часть их расходов.
Может быть, поэтому при отъезде у нас украли на таможне нашу шахматную библиотеку и все наши спортивные медали. Книжки, которые они украли, я в основном уже прочел, но вот выиграть те медали вновь возможности не представилось.
Моя сестра, которая пробыла в СССР отказницей на два года дольше нас, написала жалобу на таможню. Она получила удивительный ответ от начальника московской таможни Сванидзе: медалей мы были лишены по решению Шахматной федерации СССР.
Хотел бы я посмотреть на то решение. Во-первых, там должно было быть сказано не «лишить», а «украсть», поскольку медали у нас не конфисковывали, а тихо забрали из багажа. Во-вторых, они изъяли не только медали, выданные нам Шахматной федерацией СССР, например золотые медали чемпионов СССР, но и две золотые медали FIDE чемпиона мира среди студентов, которые я выиграл в 1966 и 1967 годах в составе советской команды. Хотя конечно, украсть можно не только то, что сам выдавал.
Имея ответ Сванидзе, Бэлла подала в суд на Шахматную федерацию СССР. В те годы Бэлла стала главным экспертом среди отказников по юридической защите их прав от властей.
Суд состоялся, вернее начался. Вскоре после начала заседания в зал вошел некто и увел судью в заднюю комнату. Вернувшись бледным, судья огласил свое решение: иск о возврате наших медалей обсуждению в суде не подлежит. Хотел бы я знать, в чьих коллекциях пылятся нынче наши медали.
12. Свобода
Самолет Москва – Вена, на котором мы улетали, был почти пуст. В ту пору мало кто получал разрешение на эмиграцию. С нами летел лишь пятидесятник Паша Тимонин с женой. Они прорвались, «борясь за мир». Тогда отказники, как еврейские, так и не еврейские, создали шуточную организацию «борцов за мир». КГБ тратило в те годы миллионы, организуя на Западе «писников», боровшихся с внешней политикой США. Но не могло потерпеть внутри страны неорганизованных советских «писников». Тем более что те, встречаясь с приехавшими в Советский Союз западными «коллегами», могли рассказать тем, что СССР не такое уж миролюбивое государство. Вот этих советских «писников» понемножку и отпускали.
Паша сидел в самолете на ряд впереди меня и, оборачиваясь, пытался поделиться набегавшими мыслями.
При этом он все время прикрывал рот ладонью. Считалось, что гэбэшники могут на расстоянии читать по губам. Кто его знает, – может, и была у них такая техника. Я кричал бывшему «писнику»: «Паша, убери руку! Мы на свободе!» Паша смущенно улыбался: «Да, конечно». Но через минуту его ладонь вновь возвращалась к губам. Что поделаешь, многолетняя привычка.
Чувство свободы, о котором я кричал Паше, с момента нашего отъезда надолго стало доминантой, которую я ощущал постоянно всеми своими органами, включая кожу. Видимо, надо чего-то страстно желать на протяжении семи лет, чтобы, добившись, по-настоящему пережить это.
Года через полтора после нашего отъезда из СССР я играл в Лос-Анджелесе в турнире American Open. После первого дня соревнования я провел бессонную ночь – ужасно мучил зуб мудрости. Наевшись аспирина Bauer, я сыграл утреннюю партию и отправился к врачу удалять вредный мудрый зуб. И вот я играю вечернюю партию со ртом, полным крови после операции, и думаю: «Стало ли менее острым после зубных мучений чувство свободы, которое я ощущаю кожей? Нет, не стало!»
В 1990 году на турнире в Линаресе, ближе к финишу, я выиграл партию у Гарика Каспарова, доведя наш личный счет до 3:0. После партии ко мне подошел известный испанский шахматный журналист Леончо Гарсия, носящий среди шахматистов ввиду полного отсутствия растительности на его голове прозвище Череп, и, протянув мне микрофон, задал вопрос, на который, как ему казалось, он предвидит мой ответ.
– Какой момент в вашей жизни стал самым счастливым моментом после вашего отъезда из Советского Союза?
– Самым счастливым моментом в моей жизни, – не задумываясь ни на секунду ответил я, – был сам момент моего отъезда из Советского Союза.
Виктор Корчной
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Много труда мне стоило озаглавить эти несколько страничек, которые должны войти дополнением в важную книгу. А вот: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй!» Вообще, это эпиграф к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, долженствующий продемонстрировать ужас самодержавия, правящего в России. Радищев взял эту фразу из «Телемахиды» В. Тредиаковского. Но к описанию организации, претендующей править ныне в России, эта фраза годится.
Студент исторического факультета Ленинградского университета имени А. А. Жданова, я нимало не интересовался политикой, несмотря на то что занимался в группе «международных отношений». Специфика группы потребовала дополнительного изучения иностранных языков – латынь и французский (помимо принятого к изучению всем факультетом английского) нужно было «сдавать» на третьем курсе. По-видимому, из нас собирались сделать крупных ученых. Тем не менее политика, как внутренняя, так и внешняя, меня ничуть не интересовала.
Окружающая жизнь сообщала кое-что. Под 9 мая, когда бывали амнистии, в поездах встречались угрюмые люди интеллигентного вида… Доводилось разговаривать… Я знал десятки, сотни анекдотов, антисоветских в том числе, но выводов никаких не делал. В газетах публиковались пламенные речи А. Я. Вышинского и Я. А. Малика на заседаниях Организации Объединенных Наций, но не помню, чтоб я прочитал хотя бы строчку.
Я входил в шахматный мир, стараясь не отягощать свой мозг посторонними дрязгами. Но в шахматном мире бывали умные головы. И они делились со мной своими мыслями, чувствами, эмоциями. Один гроссмейстер рассказал мне: в Советском Союзе ведут политику три силы: партия, армия, КГБ. Как правило, они работают совместно, но в некоторых случаях две силы объединяются против третьей. Так, когда нужно было убрать Берию (1953), армия объединилась с партией; когда пришла пора снять Хрущева (1964) – объединились партия и КГБ.
В тюрьмах и лагерях находились миллионы людей, но прочесть об этом было невозможно – цензура работала прекрасно. Однажды в конце 1960-х годов меня посетил один геолог. Подарил мне несколько шахматных фигурок, кое-как сделанных из дерева. Рассказал такую историю: на Колыме поставили лагерь. Привезли туда несколько сот заключенных, стражу, еды на месяц. А потом начальство про этот лагерь забыло. Когда через полгода на это место пришли геологи, они смогли подобрать только сотни скелетов и… шахматные фигурки.
С началом моих поездок за рубеж я сразу обратил внимание на заместителя руководителя делегации, офицера КГБ, «переводчика». Персона совершенно отличная от всех остальных, с функциями тоже резко отличными. «Неглупо, – подумал я, – маленький человек, «переводчик», вносит свой вклад в большую политику!»
Когда в 1976 году я покинул СССР, я, конечно, обратил особое внимание на работу КГБ за границей. Я, повторяю, не был хорошо знаком с буднями КГБ внутри СССР, но дал активности этой организации за границей самую высокую оценку. Высокую оценку боевым делам КГБ в Европе и Америке получило КГБ в правительственных кругах десятков стран. Напомню: речь идет о преследовании или убийствах на территориях независимых стран бывших советских граждан, покинувших Советский Союз. Поэтому на другой день после моего запроса о политическом убежище голландское правительство приняло решение защищать меня специальным отрядом полиции, поэтому на протяжении всего последующего года, когда я выступал по Европе, меня защищала полиция в Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Англии.
В своих сомнительных делах по миру советская разведка опиралась на помощь прокоммунистических слоев населения, а также на поддержку множества эмигрантов. Не следует забывать: только в годы первой эмиграции (1917–1921) Россию покинуло 9 миллионов человек. Поистине не было в мире уголка, где бы ни осели беженцы от российского беспредела. Я, представьте себе, повстречал в 1963 году на Кубе русского, спасшегося от Ленина и Троцкого в 1920 году. Коммунизм догнал несчастного на Кубе…
Далеко не все эмигранты первой, второй и третьей волны готовы были сотрудничать с советскими карательными органами. Люди, покинувшие родину по политическим мотивам, как правило, не торговали совестью. Но нечистоплотных людей, экономических переселенцев, особенно среди недавних беженцев, было много. КГБ следило за мной и моими контактами. Мои наивные попытки передать с кем-то из живущих в Западной Германии русских евреев письма семье в Ленинград дважды не имели успеха…
В Союзе должны были знать, где я нахожусь, чтобы вовремя реагировать на мою активность. Ведь я находился под советским бойкотом, то есть в турнирах вместе со мной советские гроссмейстеры не участвовали. По-видимому, возле меня за границей находилось несколько стукачей; и у советской разведки неплохо получалось наносить превентивные удары. Прокол у них случился лишь один раз. Я прибыл на турнир в Лон-пайн, и туда приехала советская делегация. У меня, знаете ли, была квартира на Манхэттене, и из нее я мог совершать иногда вояжи, не доступные информации советской разведки. А в Германии КГБ вело себя свободно, позволяя в отношении меня враждебную деятельность. В одной из операций КГБ, в мае 1978 года, активно участвовал и «засветился» шахматный мастер Я. Эстрин.
В городе Женева в начале 1980-х я познакомился и побывал в гостях у эмигранта по имени Дзержинский, внука основателя и вождя ВЧК – Всероссийской чрезвычайной комиссии. Неохота заниматься здесь историей возникновения КГБ, но чудится мне, что кровожадная, беззаконная ВЧК оказалась повивальной бабкой современного монстра, прозванного ФСБ.
После смерти Феликса Эдмундовича всех его чад и домочадцев, как водится в Советском Союзе, отправили в Сибирь. Позже они получили возможность эмигрировать. Сначала внук прибыл в Израиль, оттуда уехал и основался в Швейцарии. Из разговора с внуком и его поведения я понял, что тот пошел по стопам деда – работает на разведки израильскую и советскую.
С моим переездом в Швейцарию КГБ стал менее активен, оставаясь более-менее в дипломатических рамках. В советском посольстве около половины штата работает на разведку. Какова конкретно структура российского посольства, как и каким образом там вкраплены разведчики? Скажем, какой пост занимал В. В. Путин в Дрездене? А может быть, я не прав? После моего бегства на Запад из посольства СССР в Гааге были уволены все сотрудники до единого, кроме посла, – около ста человек. Выходит, все, как один, были разведчики и все были виноваты в моем бегстве?
В своей автобиографической книге я рассказал, что в Волене у меня была своя квартира и был поставлен телефон. Номера ею еще не было в справочниках, но первый звонок состоялся из советского посольства – мне сообщили, что меня лишили советского гражданства. Ничего особенного – номер был известен полиции, и получить от нее информацию было нетрудно. Я понял, что в присутствии советской разведки в Швейцарии мой дом ни в коем случае не «моя крепость» и вскоре переехал к Петре.
В книге не слишком много рассказывается о работе КГБ в Багио (1978). Напомню, что в 1999 году в Англию бежал бывший сотрудник КГБ Митрохин. Он захватил с собой записи, которые он вел будучи на работе. Там есть такая справка: «На Филиппины направлено 17 офицеров КГБ для обеспечения успеха Карпова в матче с Корчным». Честно говоря, я их не видел. Были лишь косвенные доказательства их присутствия. Нашу группу охраняла филиппинская стража. Какие-то принадлежавшие мне предметы пропали, например walky-talky, Библия на русском языке… Несколько на редкость отвратительных физиономий было в так называемой «официальной делегации» Карпова, среди них упоминаемый в книге Пищенко, по некоторым сведениям (из других источников), неподражаемый специалист по молниеносной стрельбе.
С самого начала у КГБ возникла проблема найти документы, сделанные на Петру в Воркуте, где она по милости КГБ провела 10 лет. Лееверик была ее фамилия по мужу, а в Воркуте она сидела под девичьей фамилией Hajny. Но поскольку в русском языке мягкого «х» нет, большинство немецких фамилий переводят на Г (как Hitler, например, Гитлер). КГБ пришлось однажды подсунуть Петре питье и взять с ее стакана отпечатки пальцев. Короче говоря, основные функции работников КГБ сводились к тому, чтобы мешать нам и, конечно, охранять своих. Для охраны парапсихолога Зухаря им пришлось немало поработать. Напомню: когда в зале появились мои болельщики-йоги, они не тронули Зухаря пальцем. Но чувствовал он себя в их присутствии крайне неуютно. В итоге продолжавшейся около месяца борьбы советские добились казалось невозможного – йогов изгнали – благодаря активной поддержке бесстыжего Флоренсио Кампоманеса.
До конца соревнования ждать теперь оставалось недолго. Стража к концу матча вела себя откровенно враждебно. На редкость по-хамски вел себя по отношению ко мне и моим людям организатор матча Кампоманес. Мой многолетний соратник, но во время матча в Багио помощник Карпова Михаил Таль рассказал мне через 12 лет после окончания поединка, что в случае выигрыша мною матча я был бы уничтожен физически, т. е. убит. К этому, сказал он, было все подготовлено. Но совершенно ясно, что исполнить заказ КГБ должны были люди Кампоманеса и диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса.
Как я уже сказал, после того как закончился матч, я переехал из Германии в Швейцарию. Моя война с Карповым на время приостановилась. Но в КГБ по-прежнему раздумывали, какие козни мне устроить. Дважды организовывались поездки в Швейцарию и Германию делегаций, во главе которых были знакомые мне симпатичные женщины из Москвы и Ленинграда.
В своей автобиографической книге я уже рассказывал, что меня однажды пригласила к себе в гости дочь Сталина Светлана Аллилуева. Она считала, что КГБ следит за ней и имеет возможность на расстоянии вселять в нее страх. Боясь нападения сотрудников КГБ, она не единожды меняла квартиры в Штатах. Правильно или нет, я считал своим долгом постараться разубедить ее. Светлане это не понравилось – больше мы не встречались. На самом деле я считаю, что такие возможности у КГБ есть.
К сожалению, в книге очень мало информации о работе КГБ во время матча с Карповым в Меране 1982 года. Думается, все, чем обладала советская разведка на сентябрь 1982 года, все технические, химические, психические методы воздействия – все было использовано тогда для давления на меня, членов моей группы и даже на отдельных видных моих болельщиков. Не забудем, что в группе Карпова, приехавшей из Москвы, было 43 человека, к которым добавились люди из посольства в Риме. Всего их оказалось около 70.
Насколько читатель мог уяснить из первой страницы моего эссе, КГБ делило влияние и власть в стране с двумя другими мощными органами. Трения и дрязги внутри КГБ, конечно, имели место, очевидно, регулярно, но на генеральную линию партии они не слишком влияли. В начале 1983 года всем было ясно, что матч Карпова с Каспаровым не должен состояться – его не хотел Карпов и поддерживающее его безоговорочно партийное руководство. Тонкой игрой с Кампоманесом было договорено, что Кампоманес как место игры выдвинет США. Но советские партийные боссы знали наперед, что США как место игры советской стороной будут отвергнуты. Попутно в центральном аппарате КГБ высказывалось недовольство выскочкой Литвиновым, которому удалось занять удобное место опекуна восходящей звезды – Каспарова.








