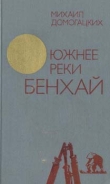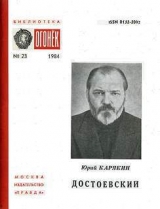
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Юрий Карякин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
III
«Сон смешного человека» опубликован в апреле 1877-го. Смешной увидел свой сон «в прошлом ноябре, и именно третьего ноября».
А теперь от этой конкретно точной (апрель 1877-го) и, очевидно, сочиненной даты (третьего ноября) перенесемся в 1866 год.
С 4 по 29 октября Достоевский диктует юной «стенографке» Анне Григорьевне Сниткиной десять листов «Игрока». Момент высшего творческого вдохновения, а еще и момент зарождения любви. Тайное тайных вдвойне, в совпадении.
В четверг 3 ноября он впервые посещает свою «стенографку» в ее доме на Костромской улице. Анна Григорьевна: «...он сказал мне, что без меня скучал это время и говорил, что нам непременно следует работать, потому что без меня он никак не может написать своего «Преступления и наказания» 3-ю часть...»
8 ноября Анна Григорьевна приходит к нему (в Столярный переулок). Он крайне возбужден и радостен.
– Не случилось ли с вами чего-либо хорошего?
– Да, случилось! Сегодня ночью я видел чудесный сон! Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещими. Когда я вижу во сне моего покойного брата Мишу, а особенно, когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда.
– Расскажите же ваш сон!
– Видите этот большой палисандровый ящик?.. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтересовало: я стал медленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный бриллиантик, но очень яркий и сверкающий.
– Что же вы с ним сделали?
– В том-то и горе, что не помню! Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним сталось. Но то был хороший сон!
– Сны, кажется, принято объяснять наоборот,– заметила я и тотчас же раскаялась в своих словах.
Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело.
– Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда? – печально воскликнул он...
А потом он рассказывает ей о замысле своего нового романа. Герой, пожилой человек, больной и несчастный, влюблен в молодую девушку...
– Поставьте себя на минуту на ее место,– сказал Достоевский дрожащим голосом.– Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
– Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь...
Когда Анна Григорьевна уходила, Достоевский остановил ее.
– А ведь я теперь знаю, куда девался бриллиантик.
– Неужели припомнили сон?
– Нет, сна не припомнил. Но я наконец нашел его и намерен сохранить на всю жизнь...
Звезда. Девочка.
«Мой сон третьего ноября»,– говорит Смешной. Сон Достоевского – восьмого, но третьего он побывал у нее впервые (и он часто путал имена и даты).
Не эта ли искорка, звездочка счастливого мгновения залетела в «Сон смешного человека»?
Еще совпадение: покойный брат снится и Смешному.
И всегда-то он, Достоевский, искупал «свои грехи огромные» работой, главным образом работой, творчеством.
«Мое житье, конечно – работа... Одно убежище, одно лекарство – искусство и творчество...»
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла...»
Искупал, а все равно страдал, все равно корил себя за то, что мало дает, мало спешит дать непосредственного добра людям, близким, родным.
Но тут все сошлось, как никогда.
Накануне свадьбы с Анной Григорьевной он писал ей: «Ты мое будущее всё и надежда и вера и счастье, блаженство всё... Мне Бог тебя вручил, чтоб ничего из задатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил...»
И еще сильнее чудится, что в той картине, в картине «Сна смешного человека», не мерцает – сверкает, живет, навсегда запечатлен образ самого художника, и убитого и воскресшего.
«А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!»
И еще об одном сне. Достоевский – неизвестному (начало 1860 годов): «Объясните мне мой сон, я у всех спрашивал; никто не знает: на Востоке видна была полная луна, которая расходилась на три части и сходилась три раза... Потом из луны вышел щит (на щите два раза написано «да-да» старинными церковными буквами), который прошел все небо, от востока на запад, и скрылся за горизонтом. Щит и меч осиянные».
Что это? Сон о призвании? о судьбе? о том, что надо «идти, идти»?..
IV
Но остается еще главный – самый главный – вопрос: утопичен ли «Сон»?
Прежде всего и тоже самое главное: «Сон» светоносен.
Достоевский так писал о задаче «изобразить положительно прекрасного человека»: «Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного – всегда пасовал». В литературе, продолжает он, «стоит всего законченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время смешон... Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение страдания и есть тайна юмора».
Не правда ли, здесь как будто наметка и образа нашего Смешного? Он и не знает себе цены, да и знать не хочет. Совсем он не о том, не для того, не за то ратует. Он и прекрасен и убедителен именно потому, что смешон. Является сострадание, является симпатия...
И еще Достоевский о Дон-Кихоте: «Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля и спросили там где-нибудь людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» – то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: «Вот мое заключение о жизни и – можете ли вы за него осудить меня?»
Можно ли, надо ли осуждать Смешного? За что? Он утопист? Конечно. А все-таки не совсем, а если разобраться, то и далеко не совсем, а если еще разобраться, то в главном даже и совсем не утопист, а самый что ни есть реальнейший реалист. Вот это я и попытаюсь доказать.
Во-первых, нет у него никаких иллюзий насчет страшной реальности мира. Он видит, знает, понимает такое, на что иной «реалист» боится взглянуть и краешком глаза. Неизбежность гибели человечества он видит, неизбежность, если все будет происходить по-прежнему. Мало? Хорошо, а когда люди начали осознавать реальность этой угрозы? Давно ли? Сколько лет (десятилетий) отмахивались от нее? Смеялись – со смеху умирали – и не то что над Смешным (образ, сочинение все-таки), но и над реальным Достоевским и над реальным Эйнштейном. И вот досмеялись. А он, Смешной, об этой угрозе больше ста лет назад заговорил. И он утопист?
Во-вторых, он же с себя все начинает. Не сваливает свою вину на «среду». Он все дурное о себе признал и вытравил. Он прежде всего отыскал ту девочку. Не так уж мало для начала. Он знает: никто не поверит ему без этого (и с этим-то не верят). Как писал Достоевский: «Прежде, чем проповедывать людям: «как им быть» – покажите это на себе. Исполните на себе сами и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного – не понимаю!.. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять,– вот в чем вся тайна первого шага». Да если б каждый так поступил! Утопия? Ну, тогда те, кто этого не сделал, и есть утописты, а Смешной осуществил эту утопию. Осуществил и опять всех виноватей?
В-третьих. Утопия, утопия, привыкли мы повторять. Но ведь даже прежняя история показывает: и самая немыслимая утопия не раз становилась реальностью перед лицом смерти. Так, может быть, время самой острой, небывалой, смертельной угрозы всему роду человеческому и станет временем небывалых, неслыханных еще подвигов людей и станет временем осуществленной утопии? Все зашло так далеко, что спастись без подвига, без возвышения, без одухотворения невозможно. Веками, тысячелетиями люди учились и выучились – не слушать, не выслушивать, не дослушивать, не понимать друг друга (из «принципа») и в этом видели высшую добродетель свою. Веками, тысячелетиями люди учились и выучились главным, решающим аргументом споров своих считать огонь, нож, пулю, казнь, войну – короче убийство. Убийство – как критерий правоты, критерий истины... Веками исподволь насаждалось и царило убеждение, будто чем дешевле человеческая жизнь (а она ценилась все дешевле, до нуля дошла, по мере роста численности людей), тем, дескать, обеспеченнее будущее человечества. Веками, наконец, шло чудовищное состязание различных изуверских теорий, каждая из которых обосновывала необходимость как можно более длинного проскрипционного списка (чем он длиннее, тем, мол, «чище» будет оставшееся человечество, и короткие списки воспринимались даже как несолидные, несерьезные, неавторитетные, что ли)... И вот все человечество попало уже в единый проскрипционный список, и люди оказались тем самым наконец перед выбором: либо выучиться слушать и понимать друг друга, пожелать этого, заменить критику оружием на оружие критики, относиться к каждой личности, к каждой народности, к каждой расе как к неоценимому достоянию человечества всего, сжечь все и всякие проскрипционные списки – либо погибнуть в самоубийстве.
А еще вдумаемся: «живой образ истины» в «Сне» есть не что иное, как художественная картина духовно, нравственно реализованного социализма, как его представлял себе Достоевский. Не этот ли пламенный «образ истины» и привел его на Семеновский плац, дал ему силы выжить «в гробу» и, оказалось, не только не потух, не перегорел, а вот вдруг – вспыхнул невиданным протуберанцем и осветил конец его жизни, а может быть, и смысл всех его исканий каким-то неожиданным светом? «Сон смешного человека» – не понять, не принять ни ортодоксальному христианству, ни – тем более – чисто буржуазному рассудку: для того и другого – он ересь, заслуживающая анафемы, или в лучшем случае высокомерной снисходительности именно, именно за «утопизм». «Реализмом» же почитается ими согласие («смиренное» и «трезвое») на самоубийство человечества.
«Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» – что здесь утопического? Признай люди это утопией – и что же останется? Вмиг человечество обессилится и растлится, вмиг забормочет: «бо-бок», «бо-бок». Нет, идеал – это не утопия. Тогда и все искусство и вся культура – утопия.
Наконец, в-четвертых. Да, скажут, все это так, ну, а как быть с такими словами Смешного: «...в один бы день, в один бы час все бы сразу устроилось!.. Если только все захотят, то сейчас все устроится»? Это-то уж явная утопия. Утопичнее ничего и быть не может. Решить за день, за час то, что не сумели за века, за тысячелетия?! Сам Смешной называет это утопией. Сам Достоевский считает так же. Как тут быть?
Если Достоевский считает так (в чем есть, по-моему, очень большие сомнения), то осмелюсь сказать, что тогда он неправ. А точнее, он может быть, сам не знал, насколько был прав, когда мечтал «устроиться в один день, в один час». В том-то и самый главный парадокс, что человечеству придется, приходится «устраиваться» за исторически считанные дни и часы, придется, приходится неотложно начинать реализацию выношенного веками и тысячелетиями идеала или... Вот и утопия. Как не вспомнить здесь опять-таки Достоевского: «Никогда фантазия не может выдержать сравнения с действительностью». Как не вспомнить: «Действительность превышает всякое воображение».
Именно не о простом «спасении животишек» идет речь, но о возвышении, о подвиге, об одухотворении людей,– без этого и никакое «спасение животишек» невозможно, потому что оно само по себе, писал Достоевский, «есть самая бессильная и последняя идея из всех идей единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца». Слепая жажда жизни не поможет – не надо ее идеализировать, такую жажду (сама, дескать, «вывезет», сама спасет). Слишком часто она оборачивается слепым, животным страхом смерти и не только не спасает, а еще скорее, еще вернее губит, губит ужасом, паникой, оцепенением, цинизмом.
Вспомним: Смешной спас себя, потому что «вопросами отдалил выстрел». Слова эти вдруг наполняются каким-то неожиданным смыслом: человечеству предстоит великими вопросами о тайне своего существования, своего духовного бытия, вопросами, которые откладывались до бесконечности (будущее-то до сих пор было гарантировано), вопросами, над которыми бились веками лучшие умы его,– теперь всему человечеству предстоит этими вопросами отдалить выстрел и сделать его невозможным.
И еще скажут: все это, может, прекрасно с художественной, эстетической точки зрения, но ведь вся жизнь сегодняшняя насквозь пронизана политикой. Еще Наполеон сказал в разговоре с Гете: «Политика – вот судьба!» (Изрек, чтобы, так сказать, приструнить искусство, поставить его на свое место.) Так. Но в том-то и дело, что идеализм сегодня (от идеала, от гуманистического идеала, над которым смеялись все и всякие наполеоны) и есть единственно реальная, спасительная, самоспасительная политика. Достоевский: «Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, выступают политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы – это одно, а нравственность государства – другое. А, стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица – подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости! Это учение очень распространено и давнишнее, но – да будет и оно проклято!»
Я отвлекся от художественности? Да может быть, и вся художественность, высшая художественность, давно уже, изначально даже (а сегодня, как никогда), и состоит в идее спасения человека и человечества, в спасении путем подвига, возвышения, одухотворения. Говорят, хорошая теория есть самая практическая вещь. Сегодня художественность (то есть литература, искусство) становится чрезвычайно политической вещью. А если уж человечеству предстоит покончить самоубийством, то никакой художественности при этом не будет. Апокалипсис – это мерзость, совокупная мерзость, а не красота. «Некрасивость убьёт» (из «Бесов»). «Мир спасет красота» (из «Идиота»).
Что такое Смешной? Это образ, живой образ идеала в безыдеальном обществе, образ нравственности в обществе безнравственном, образ совести в обществе бессовестном (а другого Достоевский не знал). Там, где господствуют трусость, корысть, наглость, некрасивость, глупость, невежество, злоба, зависть, бессовестность,– там мужество, бескорыстие, скромность, красота, ум, знание, мудрость, добро, доброжелательность, совесть,– все это и проходит по «чину Юродивого», «по чину» Смешного. Смешным был Сократ, Смешными были Сервантес и Джордано Бруно, Эйнштейн и Толстой. Смешными были десятки тысяч русских учителей и врачей, которые не за страх, а за совесть учили и лечили свой народ. Смешным был Швейцер, бросивший свою славу и уехавший в Африку помогать тамошним больным. Смешными мир держится. И если цель реализма, по Достоевскому, найти «в человеке человека», то это означает еще – найти в человеке Смешного, того Смешного, которого он часто сам в себе боится, стесняется, но который живет в нем, очеловечивает, спасает. Каждый может вспомнить своего любимого Смешного, каждый может вспомнить Смешного в себе. Может быть, все лучшее, что есть в человеке, бывает, проявляется тогда, когда он не боится, имеет мужество быть Смешным.
V
Достоевский словно первый из людей посмотрел, сумел посмотреть на Землю оттуда, из космоса, из будущего, и первый увидел то, о чем узнали мы только сейчас, сто лет спустя, от людей, впервые побывавших там физически и поразившихся (все одинаково!): как прекрасна и мала эта изумрудная звездочка, и как страшно представить, что она потухнет в самоубийстве, и как легко ей потухнуть. А что, если с нее во всю вселенную, в бездонную черноту, будет доноситься какой-то чудовищной «азбукой Морзе»: «бо-бок», «бо-бок»? Не «Дон-Кихота» туда предъявят, а «Бобок»?.. Для того «Бобок», для того «Сон смешного человека» и написаны, потому и выстраданы, чтобы этого не случилось, чтобы идеал не потух, чтобы он разгорелся и спас.
Он многое разглядел оттуда (и своих петербуржцев, и прошлых всех, и новых будущих, и нас, и себя) и вернулся: «О, теперь жизни и жизни!» И он пошел, пошел, писал, говорил, кричал, но мало кто его слушал тогда, мало кто слышал и понимал. «Сон» рассказал не только о Достоевском прошлом, но и о будущем, о Достоевском Пушкинской речи. Тогда, 8 июня 1880 года, люди замерли на минуту, слушая эту речь, оторопели, осветились, засветились и ни ему, ни себе долго не могли простить этой минуты. Опять: больной, юродивый, смешной, сумасшедший...
Оказалось: гениальный.
«Тайна первого шага»
Предположим: мы знаем текст Пушкинской речи Достоевского, знаем, что было до нее, и ничего не знаем о том, что произошло 8 июня 1880 года, когда она была произнесена. Что можно о ней сказать?
Во-первых, по сравнению со всеми предыдущими высказываниями Достоевского о Пушкине ничего нового, по существу, в ней нет. Можно взять каждый абзац этой речи и, как это делается обычно, подобрать к нему (параллельно, в два «столбика») соответствующие, в большинстве случаев дословно совпадающие цитаты. Речь – «минус» все предыдущее: «остаток» будет минимальным. Впрочем, было бы даже странно, случись это иначе.
Во-вторых, если проследить его настроенность с момента работы над речью (самое начало мая) до ночи с 7 на 8 июня, то возникает ощущение нарастающего ужесточения. Достоевский готовится дать настоящее генеральное сражение (своего рода Аустерлиц) всем своим давним противникам. Сплошная военная терминология: «война», «бой», «ратовал», «поле боя»... Все время об «интригах» («нас хотят унизить», «клакеры»). Особенно раздражает его вождь противной «партии» – Тургенев. С ним давние счеты, от него (и ему) незабываемые обиды, еще с 40-х годов. Тут и финансовые недоразумения (Достоевский брал у него в долг деньги на несколько недель, отдал через несколько лет). Тут и карикатура на Тургенева в «Бесах» (Кармазинов), и Тургенев в долгу, конечно, не остался. Каждый из них заочно говорил о другом такое, за что в пору было вызывать на дуэль, и почти все это обоим было хорошо известно. А тут еще всплыла как раз в эти дни история с «каймой» (дескать, Достоевский в 40-х годах потребовал, чтобы его произведения в отличие от произведений других авторов печатались обведенными какой-то претенциозной каймой). Прибавим сюда слухи, опасения: дадут – не дадут выступить, в каком порядке... Высокое, идейное, бытовое, сиюминутное, давнее, мелкое – все сплелось, перемешалось. Неужели и тут осуществятся давнишние слова: «везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной шутку...»
Что можно, что надо было ожидать от речи 8 июня? Чего угодно, только не того, что произошло: самое неожиданное, самое, казалось, немыслимое, невозможное: небывалый энтузиазм примирения. Тургенев и Анненков Достоевскому: «Вы гений, вы более чем гений!» Объятия. Праздник. И даже Глеб Успенский был растроган...
В чем дело?
Одного-единственного объяснения быть не может.
Потеплела, «подошла» почва, чтобы принять брошенное семя.
Устное, живое слово оказалось сильнее письменного, а люди изголодались по живому слову, по живому общению, и люди эти впервые в новой истории российской собрались не официально, а даже оппозиционно по отношению к властям.
Но куда девался воинственный настрой Достоевского? Да просто своим прежним мыслям, прежним словам он придал некое «чуть-чуть», которое и сделало их неотразимыми. Это «чуть-чуть» и превратило живое слово в художественное произведение. Речь стала литературой, искусством. Искусство, может быть, впервые столь властно и непосредственно вторглось в жизнь. Искусство примирило, как, собственно, и «положено» настоящему искусству. И на мгновение все злободневные страсти умолкли, как бывает это, скажем, когда разные люди слушают Баха или Моцарта. Тайна речи – тайна высшего искусства.
Убедительно? Очень. А все-таки остается какой-то «икс», какое-то «но». Куда же девалась нараставшая воинственность? Просто смягчилась искусством? Не просто.
Сколько раз (не счесть) он писал: будь братом, иначе не будет братства. Одолей себя и станешь всесилен...
Он постиг «естественную силу природного закона, закона смерти человеческой», закона, который примиряет людей, и это особенно неотразимо открывалось ему лично и 22 декабря 1849 года («Нет желчи и злобы в душе моей...»), и 16 апреля 1864 года («я и Маша»), и в декабре 1877-го, когда умер Некрасов.
А сейчас вся читающая Россия жила «Братьями Карамазовыми» и уже прочла о том, что если человека в ужас приводят злоба и ложь людские, то не сам ли он виноват в том, ибо дан ему был светильник и, стало быть, он сам мог светить светлее. Прочитала: «Воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать». Прочитала и ждала финала, не зная еще, каким он будет. А он, Достоевский, знал: будет потрясающая сцена у постели умирающего Илюши, а потом – у «Илюшиного камня»...
Он знал еще, что должен читать из Пушкина – монолог Пимена и «Пророка». Не эти же стихи должны были подлить масла в огонь его воинственности! Величавое спокойствие старца и духовная исповедь Пушкина: это ведь не о ком-то – о себе – Пушкин писал: «И вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый...»
И что же? В день Пушкина – Пушкина! – поднять знамя войны? К этому все шло, но этого не случилось.
«Прежде чем проповедывать людям: «как им быть? – покажите это на себе. Исполните на себе сами и все за вами пойдут... Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять,– вот в чем вся тайна первого шага».
В 33-м номере гостиницы Лоскутной (на Тверской) поздним вечером 7 июня он пишет Анне Григорьевне: «Завтра 8-го мой роковой день... Анненков льнул, но я отворотился... видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. Надо еще речь исправить... Завтра мой главный дебют...»
Не в эту ли ночь с 7-го на 8-е и произошло окончательное изгнание беса? Оно предчувствовалось и прежде. Среди воинственных заявлений предыдущих дней мелькало: «Эх в какую суетню я въехал...» Оно, конечно, предопределялось всей его натурой, всей его историей.
Имя Тургенева в речи было произнесено сочувственно и с благодарностью, а имя Белинского опущено. Судя же по черновикам, Тургенева благодарить он отнюдь не собирался, а на Белинского готовился напасть в открытую...
А самое главное – тон. Тон всей речи, тон, который действительно и сделал всю музыку. Жар самоодоления, накаливший каждое слово его живое, дух всенародной исповеди – не в этом ли тайна неотразимого воздействия речи на слушателей?
Это был не «скорый подвиг». Эти сорок пять минут делались сорок лет и останутся на века, навсегда.
«Настроение может быть передаваемо только художественным произведением» (Л.Толстой). Настроение изгнания бесовщины, настроение одоления себя, решимости самому сделать «первый шаг»,– не было ли это тем главным «чуть-чуть», которое и создало действительно художественное произведение? Достоевский прожег глаголом сердца людей, глаголом любви – не ненависти, глаголом мира – не войны, прожег потому, что вырван был свой язык грешный, празднословный и лукавый. И боль этой самоказни и радость одоления себя передались слушателям. Содержание наживо, как никогда, вросло в «форму». «Форма» и сделалась содержанием, слилась с ним абсолютно. Ответная волна сочувствия, сострадания, сорадования могла, должна была вызвать – уже по ходу речи – неожиданные для самого Достоевского не записанные им слова, но все это было уже предопределено главным.
Вышла «гениальная сцена», вышла в жизни.
Была одержана победа, перед которой все Наполеоновы победы – суета.
Достоевский был счастлив, как никогда.
«Подлинно высшее правило жизни: ловить точку».
«Точка» была уловлена.
«Клянусь, это не тщеславие... этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься».
Но иллюзий уже не было.
О.Миллер, друг Достоевского, писал: «Памятник Пушкину собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остается только потирать себе руки и приговаривать: divide et impera».
Назавтра сбылось то, чего так страшился Достоевский (и в чем сам так часто принимал участие): «Только чертей тешим раздорами нашими».
Назавтра открылось новое сражение – из тех бесчисленных малых сражений, из которых и построена страшная мозаика последних раскольниковских снов: «Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались».
Но: «...хоть и трудно предугадать, а значки в темной ночи догадок все же можно наметить, хоть мысленно, я и в значки верю».
8 июня 1880 года и был такой «значок»: «...это залоги будущего, залоги всего, если я даже умру».