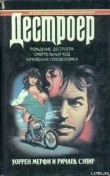Текст книги "Тень от носа (трагифарс)"
Автор книги: Юрий Божич
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Патрисия. И мсье Бертильон выслал?
Андре. Разумеется. Отказывать жене, клянчащей на булавки, – это еще куда ни шло. Но экономить на ее любовнике!.. Порядочный человек на такое просто не способен. Порядочный человек, мама, умеет ценить чужой труд. Особенно физический и неквалифицированный.
Патрисия. И что было дальше?
Андре. От мсье Мишеля пришел единственный лапидарный ответ (якобы читает по книге, уже не листая): " Деньги получил. Точка. Пропили всем табором. Точка. Дочь барона мила. Точка. Поиски продолжаю."
Патрисия. И все?
Андре. Все!
Патрисия. Но, Андре, не может же быть, чтобы он совсем пропал, мсье Мишель?..
Андре. О чем ты говоришь, мама! Вот (стучит по раскрытой книге), Германия, Равенсбург, пятнадцатый век. Почтенные люди пишут, инквизиторы: " Юноша чародейственым образом потерял мужской член, так что не мог видеть его и чувствовал лишь гладкое тело." Так то Германия! Страна относительно небольшая. А то (широко разводя руки, с восторженной улыбкой) Россия! Там таких Германий…
Пауза.
Патрисия. И как же мне ее играть, эту… алкоголичку?
Андре. Элементарно, мама. Становишься на колени, перед крестом и дурным голосом: " Доченька, доченька, на кого ты меня покинула? Горе мне, горе! Не жить мне без тебя, не жить!.."
Патрисия. " Доченька, доченька"? Но ведь это получается, что мадам Дюран – мать нашей несчастной Катрин!
Андре. Ну уж и несчастной! Две матери – это, знаешь… это, знаешь… это… Да, многовато. Две матери – многовато. (После паузы, воодушевленно) Но она не мать – мадам Дюран! Просто в роду мсье Бертильона было принято, чтобы старшая жена обращалась к младшей ласково – "доченька". Не правда ли, трогательно? Вон оно, кстати, распятие.
Патрисия (поворачиваясь в указанном направлении и натыкаясь взглядом на маски). Эти морды… Я их боюсь… Кто это вообще?
Андре. Родственники мсье Бертильона по линии Колумба.
Патрисия. Такие черные…
Андре. Это от скорби, мама. Ну, репетируем?
Патрисия (делая зверское лицо, опускаясь на колени и сжимая кулаки). Доченька, доченька!.. Вот уж покинула так покинула! Вот уж горе так горе! Вот уж не жить так не жить!..
Андре. Браво, мама!
В дверях появляется Катрин – стройная декольтированная
брюнетка с заторможенным взглядом.
Катрин. Она так кричит…
Патрисия. Надежды нет! О, дайте мне кинжал!
Катрин. Такие причитания! Бедняжка!.. (Подходя к Андре.) Мсье, мсье…
Патрисия. Или косу! (Заметив Катрин.) Добрый день, мадам.
Катрин. З-здравствуйте. (Андре.) Мсье, что, кто-то умер?
Андре. (скурпулезно оценивая внешние данные вошедшей). К несчастью, да, мадам.
Патрисия. (по-прежнему коленопреклоненно). Андре, так достаточно убедительно? Может, подпустить слезу? Я бы могла еще спеть. (Катрин.) Мадам, помните такую песенку? Ее поют в пансионах…
Катрин (рассеянно). Да-да, да-да… Я не училась в пансионе. (Андре.) Мсье, кто умер?
Андре. Одна дама.
Катрин. Знатная?
Андре. Да, вполне.
Патрисия. Не может быть, мадам, чтобы вы не помнили. (Встает, отряхивает колени, с блаженной улыбкой.) Вы ведь увлекались Ронсаром, правда?
Катрин. Да-да, да-да… Я с ним не знакома, мадам. (Андре.) Мсье, а господин Бертильон, он…
Андре. (вглядываясь в родинку на шее Катрин). Он, мадам…
Патрисия. Не может быть, мадам, чтобы вы не увлекались Ронсаром! Признайтесь, вы брали фонарик и уединялись с ним ночью под одеялом. Чтобы вам никто из девочек не мешал.
Катрин. Да-да, да-да… (Спохватываясь.) Мадам, что вы такое говорите! Я не люблю это делать с фонариком. (Андре.) Мсье, кто эта сумасшедшая?
Андре. (впериваясь взглядом в вырез на груди и взглатывая слюну). Моя мать, мадам.
Катрин. Вы выгодно отличаетесь от нее.
Патрисия. А наутро вам было больно. И вы плакали от светлой печали, испытав катарсис. Потому что Ронсар – это всегда катарсис.
Катрин. Мадам, я уже начинаю сожалеть, что мне с мсье Ронсаром не довелось… Мсье Бертильон – хороший человек… Душевный, отзывчивый… Но он, увы, не молод, и о катарсисе мне приходится узнавать в основном из фильмов.
Патрисия. Душечка, вы не должны наступать на горло собственной песне. Андре, скажи ей…
Андре. (с трудом переводя взгляд с груди на лицо Катрин). Сударыня, вы не должны!..
Катрин. (с потеплевшими глазами, слегка кокетничая). Вы правда так думаете, сударь?
Андре. О, да!
Патрисия. Вам нужно полюбить Ронсара. Андре, скажи…
Андре. (страстно). Сударыня… Ронсара… Хорошо бы…
Патрисия. Всеми фибрами души.
Катрин. (глядя в глаза Андре). А он, мадам, похож на вашего сына?
Патрисия. Кто, душечка?
Катрин. Ну, Ронсар.
Патрисия. Нет, душечка. Мой сын – обалдуй, а Ронсар…
Катрин. (сладко вздохнув). Жаль.
Патрисия. Что обалдуй? Естественно. Любая мать…
Катрин. Что не похож.
Патрисия (глядя на оцепенелую парочку). Когда я пела в хоре сестер милосердия во имя правосудия…
Катрин. Сестер чего?
Патрисия. Милосердия. Во имя правосудия… Нет, это несносно! На ваших взглядах впору развешивать белье. Андре, ты совершенно не щадишь свое зрение. И мое тоже. Ты помнишь, какая трагическая весть привела нас сюда два часа назад?
Андре. (продолжая улыбаться Катрин). Да, мама.
Патрисия. Вот! С тех пор я изрядно проголодалась. Мсье Бертильон, разумеется, был очень любезен, сообщив нам, что отправляется за…
Андре. За индейкой, мама. Вдовой Макиавелли.
Патрисия. В этом доме трагедия на трагедии… Его так долго нет, что я начинаю думать, будто здешние индейки одичали и на них надобно охотиться с ружьем. Я, конечно, храню терпение, но обидно было бы не дожить…
Андре. Мама, в такой-то славный день…
Патрисия. Ты абсолютно не обучен носить траур, мой мальчик. Ты слишком энергичен.
Андре. Да, мама. И я немедля потороплю мсье Бертильона.
Патрисия (вздыхая). Он тоже ушел кого-то торопить. Оказывается, это занятие отнимает уйму времени.
Андре. Нет, нет, мама. Я скоро буду. Мы не окончили наш разговор с мадам…
Катрин. Меня зовут Катрин.
Патрисия. Катрин? Как и мою бедную дочь? Но ведь никакого сходства! Андре!..
Андре. Не малейшего, мама. До этой Катрин я могу дотронуться (касается ладонью щеки Катрин), ощутить пальцами тепло и нежную кожу, провести ладонью по волосам. (Проводит.)
Патрисия. Все, я умираю. Голодные судороги… (Подергивает подбородком.)
Андре. Иду, мама, иду.
Уходит.
Патрисия. Всю жизнь, всю жизнь, душечка, я потратила на Андре. Я думала, что каждый божий день я бросаю в золотую копилку. А оказалось – в дырявое ведро, которое…
Катрин. О, мадам! Вы очень удачно вложили отпущенный вам капитал.
Патрисия. Не успокаивайте меня, душечка. Когда меня успокаивают, я начинаю рыдать. Самое горькое утешение я пережила в день взятия Бастилии.
Катрин. Потрясающе! Два века! Мадам, вы выглядите гораздо моложе.
Патрисия. (педагогически). Это было за несколько месяцев до рождения Андре. Я стояла в парке, под зонтом. И кормила уток. Погода была скверная. Моросил дождь, нудный, как мексиканские сериалы. И тут вдруг неизвестный мужлан с лоснящимися щеками возомнил, будто я удручена… (Пародируя.) "Ну, ну, мадам, такой день, мадам, расправьте плечи, мадам, вдохните полной грудью…" Бесстыдник! Это у меня-то полная грудь! Впрочем, я не уверена, что он вообще со мной разговаривал. У него были такие очки! (Сводит глаза к переносице и подносит к ним " козу" из пальцев.) Ему, чтобы попасть, обязательно нужно было промахнуться. Но я так сразу огорчилась! Боже! Мне стало жаль всех: себя, уток, тех, кто штурмовал Бастилию, тех, кто в ней сидел. (Всхлипывая.) Маркиза де Сада – судьба к нему не благоволила… Я зарыдала. (Плачет.) А этот утешитель попер на меня, как робокоп. И врезался в дерево. Так мне (заходясь в рыданиях) стало жаль и его…
Катрин. Мадам, прошу вас… Это не стоит ваших драгоценных слез.
Патрисия. (не унимаясь). Как же не стоит! Если он потом оступился и рухнул в пруд. И распугал всех уток. А я, как служба спасения на водах, тянула его на берег. Я тянула, а он скользил и падал, скользил и падал, скользил и… (Шморгает носом.) А потом родился Андре. (Задумчиво.) Жизнь так таинственно устроена, душечка. Почему-то, если мужчина спасает женщину, она выходит за него замуж. И дарит ему ребенка. А если женщина спасает мужчину, то он ее бросает.
Пауза.
И тоже дарит ребенка. Наверное, дело все-таки в ребенке…
Катрин. (сочувственно). И вы его больше никогда не видели?
Патрисия. Этого ватерполиста? Видела, конечно. Не в пруду же мы это все… ну, вы понимаете… Хотя Андре очень любит плавать. Просто очень!
Катрин. Вы его, конечно, проклинали?
Патрисия. Конечно, (промокнув платком слезы) нет. Он вполне мог… заблудиться. С таким – то зрением. Впрочем, с хорошим – он заблудился бы еще быстрее. (Внезапно радостно.) Но он, душечка, оставил мне вот это! (Достает из сумочки сложенный лист бумаги, разворачивает, протягивает Катрин.)
Катрин. (разглядывая лист). Что это?
Патрисия. (гордо). Линия шеи.
Катрин. Линия чего?
Патрисия. (показывая на себе). Шеи, шеи. Моей шеи.
Катрин. Похоже на ногу страуса.
Патрисия. Как вам не стыдно, душечка! Он работал почти на ощупь. Как гончар. Конечно, он щупал не только шею. Но изобразил именно ее. Он трудился над ней трое суток, едва отрываясь. Я ходила по магазинам, покупала много зелени, сыра, вина. Ставила перед ним, а он все творил, творил… Ему не давали покоя полотна старых мастеров флорентийской школы. Он говорил, что Боттичелли еще в эпоху своей Венеры гениально предвидел появление через века именно такой шеи. Вообразите, душечка, – такой! Моей! (Чуть помешкав в раздумье.) Хотя, с другой стороны, на кой черт Боттичелли чужая шея, а?
Катрин. А почему она без головы?
Патрисия. Да, я тоже его об этом спрашивала. Но он ответил, что вещь должна быть ценной сама по себе. А потом, в досаде, слегка напыщенно так, выкрикнул: " Я поведу тебя в музей!"
Пауза.
Вот скажите, душечка, с вами хоть кто-нибудь прощался навсегда такой странной фразой?
Катрин. Нет, мадам, никогда. Но у меня тоже был один… водоплавающий. Боцман. Так он свистел. И довольно громко. Но может быть это от того, что он понятия не имел о музеях?.. У него отсутствовал передний зуб.
Патрисия. Вот видите, душечка, что нам остается от мужчин, – слова, слова, слова…
Катрин. Нет, мадам, мой свистел без слов. Как норд-ост.
Патрисия. Норд-ост-тоже слово. Как зуб или свист.
Катрин. А если бы он пел?
Патрисия. Кто?
Катрин. Ну, мужчина..
Патрисия. Песня – тоже слово. Только женского рода.
Катрин. А если бы играл в покер?
Патрисия. Само собой. Покер – слово известное.
Катрин. А если бы дарил цветы?
Патрисия. Могли бы и не спрашивать. Цветы… Кто их сейчас дарит? Конечно, слово.
Катрин. Ну, а если бы он был оригинальным, непохожим на других? И делал бы все-все-все иначе?
Патрисия. В жизни женщины?
Катрин. Да.
Патрисия. В жизни женщины все-все-все иначе – это ребенок. Ребенок – это слово.
Катрин (восхищенно). Мадам, вы такая умная!
Патрисия. А, нет! Это чужой ребенок – слово. А свой – сплетня.
Катрин. Почему?
Патрисия. Потому, что без мужа
Катрин. Мадам, вы еще умнее!
Патрисия. Мой сын так не считает.
Катрин (с нежностью). Он – болван.
Патрисия. А я вам что говорила?
Катрин. Но я его, кажется, люблю.
Патрисия. Любовь – тоже слово.
Катрин. (огорченно). Мадам, нельзя ли сделать так, чтобы она не была словом?
Патрисия. Нельзя. Мы этим сильно ударим по репертуару поп-исполнителей. И лишим девушек половины их словарного запаса. Это не гуманно. Особенно сейчас, в дни траура по усопшей супруге мсье Бертильона.
Катрин (изумленно). Вы ничего не путаете, мадам? Жена мсье Бертильона – умерла?
Патрисия. Увы, душечка. Такая весть, такая весть… А вы, очевидно, тут совсем недавно? Буквально с корабля на бал…
Катрин. Да. Каких-нибудь три года.
Патрисия. Три года?! (В сторону.) Слуги деградировали окончательно – им лень даже замечать, живы ли их хозяева. Пожалуй, я тоже заведу себе парочку. Каждое утро – романтическое знакомство. Шарман! (Катрин.) Вы сказали, душечка, три года? Но тогда вы должны были принимать участие в церемонии венчания – ну, той, что проходила в соборе Святого Игнасия.
Катрин. Святого Игнасия? Грешно отпираться, мадам, – принимала.
Патрисия. Вы, вероятно, несли фату. У вас для этого все данные – волнующее лицо, грация… Тот, кто несет фату, душечка, должен обязательно соответствовать невесте. Ибо несение фаты – это…
Катрин. Да, мадам, я пыталась быть под стать. По мере сил. Во всяком случае, жених был доволен.
Патрисия. Вот это важно! Если жених доволен… Это очень важно! А невеста? Не может быть, чтобы она не вызвала у вас восхищения!
Катрин. Если честно, мадам, за долгие годы я к ней так прикипела, что слегка утратила первозданную свежесть восприятия.
Патрисия. (удивленно). Так вы с ней давно знакомы?! С моей…
Катрин. Практически с рождения.
Патрисия. (вглядываясь в черты Катрин и измеряя ладонью правой руки рост воображаемого ребенка). Вы – Матильда. Ваши родители жили на улице Фуше, в розовом доме с виноградом. Третий этаж. Под вами располагалась сапожная мастерская. Сапожника звали Клод. Он был однорук.
Катрин. (озадаченно). Нет.
Патрисия. (проделав измерительные пасы левой рукой). Тогда вы – Оливия. Цветочный бульвар, шесть. Окна выходят на рыбный магазин. Во дворе неработающий фонтан с фигурой русалочки. У русалочки отбит нос.
Катрин. Что у вас, мадам, все какие-то калеки! Нет!
Патрисия. (нахмурившись, проделав упомянутые измерения уже двумя руками вместе, озадаченно). Погодите, у вас есть родинка на затылке? Так я и знала… Мне нелегко вам об этом сказать, но вы – Бертран. (Со слезами в голосе.) Переулок Русских Казаков, тринадцать, пропади они вообще пропадом! Вход под арку, мимо контейнеров для мусора. Консьержка вспыльчива, как тореадор, на левом глазу бельмо, отзывается на имя Роза. Перед парадным серебристый тополь. (Валится на стул.) Господи, что они с вами сделали!
Катрин. Да нет же, мадам, нет. Разве я похожа на Бертрана?
Патрисия. (всхлипывая). А разве нет? Тут ведь… (Тычет себе в затылок троеперстием.) Такие совпадения…
Катрин. Мадам! Но ведь все мое естество, моя сексуальная принадлежность…
Патрисия. (шморгнув носом). Душечка, в моем возрасте этими мелочами уже можно пренебречь, как Эйнштнейн когда-то пренебрег постулатом о линейности времени.
Катрин. Но он, кажется, был тогда еще не стар.
Патрисия. Гении – они вообще способны постигать истину лежа в колыбели.
Катрин. И долго они способны… (Двигает кистью руки как шарманщик.)
Патрисия. Постигать?
Катрин. Да.
Патрисия. Долго. То есть… постигать – недолго. А лежать – долго.
Катрин. Я тоже, мадам, заметила: чем дольше лежишь, тем умнее мысли приходят. Они такие умные, мадам, такие умные… Самая глупая из них (противным голосом) – пора вставать. А зачем, мадам? Ведь вся прелесть существования остается там, в снах. (Мечтательно.) Вы бы только видели, как я сегодня расправилась с толстомордым одноглазым пиратом. Вернее, вначале он был просто толстомордым, а уж потом…
(Делает указательным пальцем фехтовальный выпад.) Он только и успел произнести: " О, небо Флоренции!" Уже лежа. У вас есть сонник, мадам? Нигде не могу найти, к чему это.
Патрисия. Очевидно, к перемене погоды.
Катрин. Небо Флоренции? Вы думаете?
Патрисия. Покойник.
Катрин. Господи, мадам! А небо? А Флоренция?
Патрисия. Тоже.
Катрин. Какой кошмар! Зачем, мадам? Зачем я пробудилась? Чтоб вы мне сказали эту гадость? Или сообщили, что мсье Бертильон в очередной раз безнадежно овдовел, а я (с омерзением) – какой-то Бертран из переулка Русских Казаков, с консьержкой – тореадором и мусорными баками в придачу!
Патрисия. Не кричите на меня! У меня начинаются печеночные колики.
Катрин. Не смертельно! Мсье Бертильон в таких случаях заваривает корень цикория и листья мяты перечной. До двух стаканов в день.
Патрисия. (поразмыслив). Это резонно. Рекомендуют еще копытень европейский – вот он тоже… очень… просто очень…
Катрин. Ну, копытень… это…
Патрисия. Хотя лично я считаю, что полезней корневища касатика и плодов фенхеля ничего нет. Ничего. Абсолютно! В особенности осенью, зимой и весной, для поддержания регулярного стула при гепатитах.
Катрин. Ну, для под-дер-жания стула… это…
Патрисия. Парить тридцать минут. (Голосом, каким собиратель древностей поведомляет, какому веку принадлежит найденный раритет.) Процедить!
Катрин. Ах, даже так?!
Патрисия. Но лето мне милее. Конкретно – июль. Да! Никаких тебе, понимаешь, цикориев. Солнце висит неподвижно, загар так и льнет, так и… Прямо спасу нет. Я становлюсь черной, как ебеновое дерево.
Катрин. (проморгавшись). Э – беновое, мадам. Э.
Патрисия. Э? Ну, к загару это прямого касательства не имеет… Меня даже за эфиопку принимали, да. Рот, говорили, такой (выпячивает губы) типично эфиопский. И взгляд еще… (Таращит глаза на Катрин, та отворачивается в усмешке.) Вот видите, душечка, никто не выдерживает. С таким взглядом я бы без труда могла сыграть Отелло.
Катрин. Отелло?
Патрисия. Лучше, конечно, Медею. (Поворачивается к распятию и, потрясая руками, страстно цитирует из Еврипида.) " Все, что имела я, сошлось в одном, и это был мой муж, – и я узнала, что этот муж – последний из людей." Во как! А мне, душечка, всучивают в виде залежалого товара какую-то алкоголичку!..
Дверь в кабинет отворяется, нервной походкой слепца
входит, если только не вползает, слесарь. Глаз,
перепеленутый черной повязкой, черные же очки с
высаженным стеклом, – как раз в месте, приходящемся на
повязку, – типичный кот Базилио. Вдобавок на голове цветная
косынка. Облачен в невообразимого покроя сюртук, о цвете
которого остается лишь догадываться. Весь помят, весь в
свежей пыли. Естественным образом взгляды обеих дам
устремляются к нему.
Слесарь. Мсье Бертильон, я вынужден заявить свой протест! (Вытягивает вперед левую руку с эрегированным указательным пальцем, полагая, что именно на этой директрисе и находятся стол и его хозяин; промашка составляет угол градов в сорок, то есть этот " заплутавший танк" угождает " стволом" прямиком в Катрин.)
Катрин (вскрикивает, подбегает семеня к Патрисии, жарким шепотом). Мадам, умоляю! Это он!
Слесарь. И не надо, мсье, шушукаться по углам!
Катрин. Это пират! Из подземелья. Спасите меня! (Лезет под стол, который, задетый неловким движением, издает ухающий скрежет.)
Патрисия. (тихо). Вам показалось, душечка. (С ехидцей.) Этот не из подземелья, этот из прошлого.
Слесарь. И не надо двигать мебель! Мебель, мсье, в наших с вами отношениях совершенно ни при чем. (Прислушивается, убирает обе руки за спину.) Вам, гляжу, нечего возразить.
Патрисия. (притворным мужским тембром). Насчет мебели?
Слесарь. Мебели? Какой у вас, однако, странный голос. С утра он казался мне насыщенней. В нем было больше металла.
Патрисия. Ваш тоже… потускнел.
Слесарь. Да, черт возьми! Я осип, призывая на помощь всех святых. Хорошо, что они не работают в пожарном департаменте. Или ургентными врачами. У нас бы любой исход был летальным. Я выбрался сам!
Патрисия. Откуда, мсье?
Слесарь. " Откуда…" Слово " подвал" вам ничего не навевает? Если вы помните, я отправился туда по вашему настоянию. Вы просили вскрыть там замки. Вы, верно, решили, что раз слесарь – значит, можно беззастенчиво оскорблять. Сказать кому – вскрыть замки!.. Нет, поначалу, разумеется, прогулка показалась мне даже приятной. Стены представлялись скомканной и вновь расправленной фольгой… Дайте мне по крайней мере стул! Что это я – стоя, как в музее…
Патрисия исполняет его просьбу, слесарь пыхтя садиться.
Да, фольгой. По которой мерцал крошащийся свет. В духе тех плавящих темноту бликов, которые забыл погасить на своих полотнах сеньор Караваджо. Я, правда, ощущал некоторое зловоние, но зато меня веселил мой новый наряд. (Достает из одного кармана трубку, из другого – кисет, начинает набивать.) Я думал, что, должно быть, именно такое одеяние было присуще кладоискателям и старым флибустьерам. Дух романтики и авантюризма, мсье, – я успел пригубить его.
(Снижая пафос.) Вот только… вот только какой дурак, мсье, там, где ступени круто забирают вправо, поставил зеркало? Мой вид был настолько свиреп, что, встретив свое отражение, я едва не наделал в штаны. И что особенно противно, как раз в тот момент, когда подумал – светло, знаете, так, с этакой хрустальной грезой, – подумал:
вот опаздываем мы, опаздываем родиться.
Патрисия. (своим обычным голосом). Зато торопимся родить.
Слесарь. Да, мсье, пожалуй, вы… Кто здесь? Какой-то, я бы сказал, женский голос… Галлюцинация… Мсье Бертильон! Мсье Бертильон, вас… оскопили?
Патрисия. Здесь дама, мсье.
Слесарь. Дама? К черту даму! Если она стыдлива, пусть заткнет уши. Если глупа – рот. Если нормальна – то как она вообще сюда попала?
Патрисия. (подходит к слесарю со спины и кладет ему ладони на плечи). Итак, вы миновали зеркало…
Слесарь. (ощупав чужие руки). Гм, действительно, дама. Пять пальцев… Я – осел, сударыня.
Патрисия. (в сторону). Уже лет двадцать.
Слесарь. Только отек глаза и сотрясение мозга – причиной тому, что я не сразу узнал вас.
Патрисия. О, слезы всей Франции! Вместе с Алжиром и прочими утраченными колониями. Неужели, мсье, вы все еще помните ту бедную девочку, шею которой…
Слесарь. Да, мадам, да, шею, обтянутую ажурным крепом траурного воротника…
Патрисия. Траурного воротника, мсье?
Слесарь. Она так возвышалась – над всем, – шея. Как ваза Войны в Версальском парке. Над муаровым платьем с плерезами – шея. Над согбенной фигурой вашего сына, обиженного здоровьем…
Патрисия. О, мсье, плохо вы его знаете. Нашего сына.
Слесарь. Над мирской суетой – шея. Над индейкой, которую вы с аппетитом съели, – шея…
Патрисия. С аппетитом?
Слесарь (выпыхнув из трубки пару колец, покладисто). Ну хорошо, без аппетита.
Патрисия. Съела?
Слесарь. Ну хорошо, не ели.
Патрисия. Сударь, я подозреваю вас в путанице и сумбуре.
Слесарь. О, мадам! Хотя бы в чем-нибудь одном! Когда меня подозревают в нескольких вещах сразу, я чувствую себя абсолютно невиновным.
Патрисия. Кто я, по-вашему, мсье?
Слесарь. Режьте меня на куски, мадам, или зажарьте целиком, как барбекю!.. В моем лице вы видите преданнейшего менестреля, трубадура вашей, так сказать…
Патрисия. Сударь, меня не интересует, кого я вижу в вашем лице. Будьте так любезны – кого вы видите в моем?
Слесарь. Сударыня! За те считанные часы, что минули…
Патрисия. Кто я, сударь?
Слесарь. Вы, мадам… (Встает расправляя плечи.)
Патрисия. (грозно). Ну!
Слесарь. (с громогласной торжественностью). Мадам Дюран!
Дверь открывается. Входят Одетта и Мишель.
Одетта. (патетично). С сыном! Надо добавлять: с сыном.
Слесарь. (Патрисии). Это вы сказали?
Патрисия. Что?
Слесарь. Мне показалось кто-то сказал: с сыном.
Патрисия (после секундного колебания). Это горничная, мсье. Она сказала: с сыном все в порядке. Скоро будет.
Слесарь. Таким тоном? В этом замке, мадам, слуги столь гонористы и строги… Почему они все еще не порют своих хозяев? Непостижимый для меня либерализм…
Одетта. (повелительно). Подайте мне стул!
Слесарь. (Патрисии). Ну, что я вам говорил? И, главное, голос – пока мне не подбили глаз, я его где-то слышал.
Патрисия. Пустое, мсье. У всех служанок голоса одинаковые.
Слесарь. Вспомнил! Я слышал его в спектакле " Щелкунчик".
Патрисия. Тысяча чертей! Это же балет!
Слесарь. Именно так он и выразился.
Патрисия. Кто – он?
Слесарь. Голос. А потом она ушла.
Птарисия. Кто – она?
Слесарь. Дама. Ей стало досадно. Она ожидала, что будут петь.
Мишель. (подходя к Патрисии и слесарю и переставляя стул на полметра ближе к двери). Садись, мама!
Патрисия со Слесарем ретируются задом к дивану. Катрин,
удивленно вскинув брови, вылазит из-под стола; пока на нее
не смотрят, быстро сдергивает со стены маску великанши-
людоедки Дсоноквы и водружает себе на лицо, как забрало.
Одетта походкой манекенщицы подходит к стулу, глядя в зал,
опускается на него.
Слесарь. (Патрисии). Мужчина мне тоже знаком, тембрально.
Патрисия. Опять балет?
Слесарь. Нет, железнодорожный вокзал. Он торговал горячими сосисками. Он выкрикивал что-то совершенно несуразное. Что-то типа: " Съешь сосиску! Съешь сосиску!" Как будто без него никто бы не догадался, что сосиски – это для еды, а не в качестве средства от мозолей. Он, впрочем, был весьма убедителен. Синий берет, красный шарф, угольные глаза. На нем есть синий берет?
Патрисия. Что вы, мы же в помещении.
Слесарь. А красный шарф?
Патрисия. Скорее бежевый пиджак, мсье.
Слесарь. Но глаза – они, по крайней мере, блестят, как антрацит?
Патрисия. Антрацит – это такой зеленый, да?
Слесарь. Кто из нас слепой, мадам? (Усаживаясь на диван.) Спросите его, почем он их продавал, сосиски. Я отлично помню, он стоял возле уличного телефона, под навесом. Белая тележка, ценник… Бьюсь об заклад, он драл с покупателей три шкуры. За соус. А была только горчица, причем цвета трехдневной сопли. Бездарь! Спросите его, он вообще что-нибудь слышал о флорентийской школе.
Одетта. (нарочито громко). Вот видишь, сын, в этом доме не принято выражать соболезнования даме, потерявшей единственную дочь.
Патрисия. Как, мадам, и вы тоже?
Слесарь. (Патрисии). Скажите ей, что в балете главное – танец и пантомима. Никаких слов – все средствами пластики.
Одетта. Что значит – тоже? Моя несчастная дочурка Катрин Дюран, в замужестве Бертильон, на днях скончалась, не приходя в сознание.
Патрисия. Что?!
Катрин. Вот как! (Одновременно).
Одетта. (повернувшись к Катрин и увидев маску Дсоноквы). Боже! Кто это?
Катрин. (подходя к Одетте и наклоняясь над ней). Дух скоропалительно скончавшейся дочери… мама. Не правда ли похож на Мельпомену? Ах да, ты же никогда не любила театр. (Начинает расхаживать по сцене. Обращение " мама" произносит с неизменной издевкой.) Ты говорила, там работают одни гомики и шлюхи. Театральные афиши служили тебе чем-то вроде плевательниц. Однако скромный юноша с пушком под носом и млечным путем мелких розовых прыщиков на лбу наперекор тебе ранними предрассветными утрами петлял меж рекламных тумб. В руке его, мама, были маникюрные щипчики с изогнутым клювом, подаренные тобой вместе с книгой " Мальчик становится мужчиной". И если бы ты, мама, презрев свои аристократические привычки, заглянула в ящик его стола, ты бы обнаружила там десятки изображений мадмуазель Перрье.
Одетта вздрагивает.
Впрочем, эта фамилия тебе наверняка неведома. Ты ведь слыла комильфо, верно?
Одетта. Э-э…
Катрин. Нет, она не была шлюхой, эта мадемуазель Перрье. Ну так, заурядная инженю, наивная девочка, взирающая на мир широко распахнутыми (заглядывает в лицо Одетты) васильковыми глазами. Мелкая шлюшка, не более. Мужчины с толстыми сигарами, толстыми животами и толстыми портмоне внимания на нее не обращали. Правда, главреж театра, человек с угасшим темпераментом, но зато необыкновенно творческий, внушавший ей некогда благоговение, слегка поизносившееся к ее третьему аборту, считал себя в некотором роде ее должником. И потому время от времени все еще давал ей роли, деньги и туманно инкриминировал ей талант.
Одетта (вспыхнув). Неправда! Он никогда не говорил о таланте.
Катрин. Тогда о чем же?
Одетта. Об уходящей молодости, об утраченных иллюзиях. О том, что прожил свой век с женщиной, которую не любил, но которая всегда его понимала и поддерживала. О том, что всю жизнь хотел ребенка, даже двух – мальчика и девочку, – но жена страдала неизлечимой формой бесплодия.
Слесарь (протяжно зевнув). Какая длинная история. Напоминает ирландскую сагу.
Катрин (иронично). Мужчины так любят нерожденных детей, мама, что рожденные всякий раз застают их врасплох. А весть о беременности любовницы вообще сражает наповал. Седеющим ловеласам, вероятно, следовало бы волочиться за беззубыми матронами – ни тебе досады от менструаций, ни потрясений от зачатий.
Одетта. Он не был ловеласом. Он хотел, чтобы я вышла замуж, устроила свою судьбу…
Катрин. И потому был несказанно счастлив, увидев свою стареющую девочку в обществе прыщавого юнца. Творческий вечер мадемуазель Перрье с павлиньим разнообразием сценического гардероба, с биссированием, с криками " браво", с банкетом и хорошей прессой – какое чудное прощание Пигмалиона с Галатеей!
Одетта. (грустно). Да, это было великолепно.
Катрин. Но постепенно фанфары смолкли, обелиск был без остатка поглощен венком, и жизнь мало-помалу перетекла в мансарду.
Одетта. Да, в маленькое помещеньице под крышей на улице…
Катрин. Руссо. (Останавливаясь рядом.) На улице Руссо, напротив магазина с жестяной бригантиной у входа и чешуей бижутерии внутри. В квартире были цветочные горшки с кактусами и каланхоэ, скрипучая кровать, очевидно, помнящая Мопассана, шкаф – родственник тигра, такой темный, как если бы тигра произвела на свет таитянка. Дверь у шкафа не закрывалась, и весь пестрый карнавал платьев, окропленных белой луной, казалось, норовил выплеснуться среди ночи на истоптанный коврик и пуститься в самбу, словно во все тяжкие. Туда, в эту неказистую комнатенку, в это обиталище выносливых пауков и аскетичных тараканов, и перекочевал однажды пятнадцати… нет, уже шестнадцатилетний любовник. Кажется, это был март.
Одетта. Апрель.
Катрин. Феноменальная память!
Одетта. Именно в тот месяц мой добрый ангел, которого вы уничижительно назвали главреж, навсегда исчез из города.
Катрин. Как трогательно. Жаль, мне не довелось знать его лично.
Одетта. Слышали бы вы тогда, мадам, мой плач…
Внезапно раздается недюжинный храп – оказывается,
слесарь, убаюканный "сагой", заснул. Его турецкого
загиба трубка тлеет в откинутой руке.
Патрисия (подскакивая и тормоша слесаря за плечо). Мсье. Мсье! Пожалуйста, проснитесь. Вы можете сгореть!
Слесарь (от толчков слегка колыхаясь головой, как прикорнувший кучер, чья повозка решилась отправиться в путь, не дожидаясь его соизволения; утробно). Угу… угу… угу… (Внезапно отчетливо.) Повторяю, лес рубить и сплавлять англичанам!
(Снова впадает в храп.)
Патрисия. Мсье, я вас умоляю. Каким англичанам? Давайте-ка, давайте…
Слесарь. (вновь утробно). Угу… угу…угу… (Вновь отчетливо.) Никаких " Я хотела "! Бензопилы – строго под роспись. (Вновь храп.)
Патрисия. Мсье, ради Бога! Будь они неладны, бензопилы ваши. Да проснитесь же вы наконец!
Слесарь (вскидывая голову). А? Что? Грабеж?
Рывком, как будто за ним гонятся, входит Франсуа.
Из кармана торчит газета. Выражение лица
встревоженное, но за три шага меняется так
радикально, что и вовсе исчезает.
Я всегда путаю грабеж с пожаром.
Франсуа. (непроницаемо). Дамы и господа, верхние слои атмосферы, по всей видимости, сулят осадки.
Слесарь. Во как!.. А нижние?
Катрин. Вы это к чему, Франсуа? (Одновременно.)
Патрисия. А ужин они не сулят?
Франсуа. На Хонсю с минуты на минуту обрушится цунами. Мое почтение мадам Дсоноква, прекрасно выглядите. (Кивает Катрин.) В Вашингтоне – семь часов утра.