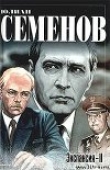Текст книги "Экспансия – III"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
– Да вы продолжайте, Штирлиц, продолжайте, – сказал Мюллер. – Смеется тот, кто смеется последним.
– Ладно, не буду смеяться, – согласился Штирлиц. – Да и до смеха ли мне, группенфюрер? Вскоре после этого начальником «корпуса добровольцев свободы» стал генерал Кадорна, помните? Интересная личность: противник фашизма, но при этом практик антикоммунистической борьбы. И отправился генерал Кадорна не куда-нибудь, а в Швейцарию, и не к кому-либо, а к Аллену Даллесу. И там-то мистер Даллес поставил вопрос в лоб: «Сможет движение дуче удержать север Италии от коммунистического восстания? Хватит ли у Муссолини сил и авторитета спасти страну для демократии?» И Кадорна, который был реалистом, ответил, что дуче не сможет спасти север Италии от коммунистического восстания. Он имел постоянный контакт с доктором Захарисом, отправленным Гитлером к дуче в его «столицу» Гарньяно; тот, поняв, что дело проиграно, снабжал генерала Кадорну интимной информацией о Муссолини: «Он в состоянии депрессии, плохо понимает происходящее, убежден в том, что нация стоит за его спиной, готова дать смертельный бой союзникам; порою, однако, обсуждает с главой секретной полиции Тамбурини подробности предстоящего побега на подводной лодке в Японию. Генерал Вольф, возглавивший немецкие войска на севере Италии, перестал общаться с Муссолини; впрочем, его заместитель успокоил дуче, сказав, что на днях будет пущено в ход секретное оружие фюрера, которое сметет русских, англичан и американцев; оснований для беспокойства нет; все идет, как запланировано…» И было это двадцатого апреля сорок пятого, группенфюрер, когда Гитлер возложил на вас ответственность за спасение дуче. А сделал он это не зря, ибо Шелленберг – торгуя всеми, кроме себя, – отдал в бункер информацию, что Муссолини отправился на встречу с врагами: двадцать пятого апреля в Милане дуче Италии сел за стол переговоров; напротив него расположились генерал Кадорна, христианский демократ Мараца и член ЦК партии действия Рикардо Ломбарди. Эта делегация Комитета национального освобождения имела указание: переговоры продолжаются ровно час; условие только одно – безоговорочная капитуляция. Вел встречу кардинал Шустер. Выслушав слова о «капитуляции», дуче недоуменно заметил, что ожидал совершенно иного; поинтересовался, какая судьба ждет лидеров фашизма. Ему ответили, что их судьба будет решаться по закону. «По закону военного времени? – сразу же спросил Муссолини. – Или мирного?» – «По действующим законам», – ответили ему. «Я должен посоветоваться с немцами, которые ведут бои, – сказал дуче, – только я могу понудить их сдаться, если вы гарантируете жизнь». Он прервал заседание, отправился в свой штаб, а там ему сказали, что Вольф уже сидит за столом переговоров с американцами. «Они предали меня», – сказал Муссолини и сел в машину; а ведь его сопровождали ваши люди, группенфюрер… Они должны были вывезти его в Тироль… А они его бросили, как только дуче переоделся в немецкую форму и натянул на голову каску… Один из этих ваших людей жив… Он дал показание, что вы отправили приказ: «Пусть с дуче разбираются сами итальянцы, охрану снять». Зачем вы отдали такой приказ? Чтобы поскорее уничтожили свидетеля, который лучше всех других знал, что творило гестапо в Италии? Или же – я вправе трактовать этот приказ и так – хотели помочь американцам схватить Муссолини, в случае чего зачтется?
– Текст моего приказа у вас есть?
– Есть показания.
– Одного человека?
– Трех. Дуче ведь пытался пробраться в Альпийский редут с немецкой зенитной батареей… Все солдаты, присутствовавшие при его аресте, опрошены и в один голос показали, что люди гестапо бросили Муссолини, когда он решил ехать на озеро Комо…
– Еще кофе? – спросил Мюллер.
– С удовольствием.
– За сердце не боитесь?
– Боюсь. А что делать? Разве можно лишать себя удовольствия, постоянно высчитывая, что может из-за этого произойти в ближайшем будущем?
– Тоже верно, – согласился Мюллер задумчиво. – Ну, это, я надеюсь, все?
– Только начало, группенфюрер, – Штирлиц рассмеялся. – Я хочу напомнить вам дело Кисселя… По-моему, именно вы вели с ним переговоры в тридцать втором, а?
Мюллер резко встал из-за стола, отошел к окну, забросил руки за спину:
– У меня есть выход, Штирлиц, – сказал он тихо. – Я пристрелю вас и уйду из Виллы. Вы же понимаете, я не зря провел два года в этом регионе, мне есть где обосноваться на юге Америки.
– Бесспорно, – согласился Штирлиц. – Но если здесь вы бог национал-социализма, то в любом другом месте станете загнанным зверем. И каждый раз, когда ваши люди будут получать от вас шифры к банковским сейфам, где хранится золото СС и партии, ожидание их возвращения станет для вас муками ада… Они ведь будут брать золото изменника, группенфюрер. А зачем отдавать изменнику то, что ему по праву не принадлежит?
Мюллер повернул колесики громкости радио, увеличив мощность; вернулся к столу:
– Ну, так и что же вам известно по делу Кисселя?
– Все, – ответил Штирлиц. – Но этот документ я перешлю вам лишь только после того, как мы заключим договор. Я не принес его с собой, опасаясь обыска… Это ведь такой документ, который равнозначен для вас смертному приговору, вы же понимаете это, нет?
Мюллер понимал это.
– Комбинация была начата в тридцать втором году, когда Гитлер в третий раз отказался от должности вице-канцлера, которую ему предлагал канцлер Папен, выражавший волю Круппа и Тиссена, всего крупного капитала. После того, как Папен был вынужден уйти, президент Гинденбург передал власть генералу Шлейхеру; как опытный политик, этим назначением генерала он грозил и коммунистам, и нацистам, и ненавистному Парижу: в конечном счете все и везде решает армия.
Шлейхер сразу же начал действовать; он знал, что в НСДАП произошел раскол: Штрассер рассорился с Гитлером; денег у партии не было, штурмовики стояли с кружками на улицах, прося у прохожих пожертвований; хозяин типографии, печатавшей «Фолькишер беобахтер», потребовал у Геринга немедленной уплаты долга или же: «Я прекращаю выпуск вашего листка, он ныне убыточен, уже сколько лет вы сулите немцам благоденствие, а все, несмотря на это, катится в тартарары».
Шлейхер готовился к конспиративной встрече с Грегором Штрассером, истинным создателем НСДАП, имевшим определенное влияние на рабочих Рура: «Если я смогу уговорить его стать членом моего кабинета в качестве премьер-министра Пруссии, за Штрассером пойдет треть нацистских депутатов рейхстага и Гитлер таким образом перестанет быть той силой, которая шантажирует республику. Меня устраивает штрассеровская трактовка национал-социализма, поскольку, по его словам, он не имеет никакого отношения к интернационализму; это дух товарищества нации плюс высочайшая производительность, социализм немцев – это крепостные стены имперских городов, традиции и дисциплина!»
После первой встречи Шлейхер привез Грегора Штрассера в имение президента Гинденбурга; старый маршал внимательно обсмотрел сухое, чуть удлиненное лицо одного из руководителей национального социализма, заметив при этом: «Какое счастье, что вы говорите без венского акцента… Все же немцы любят хохдойч, государственность вне главного диалекта страны немыслима».
Тогда же, во время этой встречи, Гинденбург согласился предоставить Штрассеру пост вице-канцлера. Вы же знали об этом, группенфюрер, нет?
– Продолжайте, пожалуйста, Штирлиц, – все более раздражаясь, ответил Мюллер. – Вы обещали рассказать о каком-то Кисселе, вот я и жду этого рассказа.
– «Какой-то Киссель», – Штирлиц улыбнулся. – Вне отношений Штрассера и Гитлера дело Кисселя не имеет смысла, группенфюрер, и вы прекрасно это знаете… Вы же помните, что после того, как в декабре тридцать второго Штрассер подал в отставку со всех своих постов в партии и заявил прессе, что Гитлер проводит политику «исключительности», которая чревата закатом движения, фюрер был близок к самоубийству, потому что на местных выборах НСДАП потеряла треть голосов. «Я всегда мечтал привести к управлению государством нацию немцев, – заявил Штрассер, – крестьян, рабочих и служащих. Гитлер хочет править государством единолично, – в этом два подхода в партии к вопросу о власти!» Вот тогда-то и возник ваш старый знакомый, редактор Церер, которого вы спасли от скандала в Мюнхене, когда его, пьяного, обобрали две проститутки, а он их за это избил до полусмерти… А ведь каков был трибун, глава газеты «Ди тат», адепт «немецкого духа», хотя, правда, это не мешало ему утверждать, что если дух нации медленно, но постоянно ставится под контроль, то это полезнее всего для него самого, ибо наиболее глубокие идеи человечества довольно редко возникали на свободе… Помните?
Мюллер деревянно хохотнул:
– Это как раз помню… Любопытное умозаключение… Многосмысленное. И вполне рациональное…
– А закрыть уголовное дело Церера тоже рационально?
– Конечно, – ответил Мюллер устало. – Увы. Ну, валяйте дальше… Вот уж никогда не думал, что даже я так много наследил в архивах…
– Каждый человек, думающий о карьере, следит, группенфюрер… Вы же помните, что именно Церер приехал к вам с просьбой поглядеть в архивах полиции дела на всех тех, кто был в охране фюрера?
– Не помню, – отрезал Мюллер.
– Это было третьего января тридцать третьего года, группенфюрер. Именно третьего января вы затребовали дела на людей СС, охранявших Гитлера… И нашли компрометирующие материалы на Кисселя: он привлекался к суду за растление малолетней, но был помилован, потому что ему не хватило трех дней до шестнадцатилетия, а девочке было девять… И вы вместе с Церером пришли к нему ночью, на Келенхоф, три, помните?
– Нет, – повторил Мюллер, напрягшись, – не помню.
– И Церер передал Кисселю три тысячи марок… За то, чтобы тот сказал, какие шаги намерен предпринять Гитлер после ухода Штрассера. Не помните?
– Конечно, нет.
Штирлиц достал еще листок и протянул его Мюллеру:
– Здесь расписка Кисселя, заверенная вашей подписью… И дата, самое главное, дата. Вы ведь перевербовали охранника фюрера накануне его поездки в Кельн для тайной встречи с бывшим канцлером Папеном…
– Не повторяйте коммунистическую пропаганду, Штирлиц. Это пройдет на публике, а со мною не надо.
Штирлиц покачал головой:
– В Лондоне только что опубликована стенограмма последних переговоров Гитлера с Папеном… Положение безвыходное, денег нет, партия разваливается, рабочие Рура – те, что не с коммунистами, – повернули к Штрассеру, что делать? И Гитлер вместе с Гессом, Гиммлером и экономическим советником партии Кепплером приехали в Бад-Годесберг, там Гитлер пересел в машину, которая доставила его в дом банкира Шредера… На пороге стоял Папен – «враг» НСДАП. А фюрер обменялся с ним рукопожатием. И в это время выстрелил блиц фоторепортера, – вы же знали от Кисселя все; назавтра сенсационный снимок о тайной встрече Папена с Гитлером стал достоянием общественности… Тогда, правда, не стали достоянием общественности документы, подписанные в тот день Гитлером и Папеном: оживление экономической конъюнктуры, то есть – если расшифровать – военные заказы промышленности и аннулирование версальских соглашений… Через три часа Папен посетил финансистов Феглера и Шпрингорума, – те внесли деньги в казну национал-социалистов; отчислил средства Юнкерс; в середине января состоялась еще одна встреча Папена с Гитлером – в Берлине, в доме Риббентропа; об этой встрече вы уже не знали, группенфюрер, но вы знали, что канцлер Шлейхер намерен распустить парламент и ввести чрезвычайное положение, чтобы выслать Гитлера из страны, а на его место поставить Штрассера… И вы были готовы депортировать фюрера в Австрию, нет?
– Такого документа не было в природе, Штирлиц.
– Верно. Такого рода документы не составляются, слишком рискованно. Но показания о том, что вы обсуждали с полковником Отто, посланцем канцлера Шлейхера, – за три дня перед его падением, – что вы возьмете на себя эту миссию, сохранились.
– Покажите.
– Не-а, – Штирлиц усмехнулся. – Пошли погуляем, успокоимся, подышим воздухом, потом покажу.
Мюллер поднялся, походил по огромному холлу, остановился около Штирлица, потом навис над ним:
– Давайте проанализируем вашу информацию, дружище… Давайте проанализируем ее без гнева и пристрастия… То, что вы говорили мне вчера и сегодня, – сенсационно, спору нет… Да, опубликованием этих материалов вы поначалу действительно восстановите против меня значительную часть нашего братства… Но вы должны понимать: я добьюсь от вас показаний, что эти материалы сфабрикованы вашими руководителями на Лубянке… И тогда большинство, которое поначалу поверило вам, – всегда приятно валить собственные беды на головы врагов – вернется ко мне… Ну, а меньшинство, вы правы, возможно, начнет против меня борьбу…
– Радикальное меньшинство, – уточнил Штирлиц. – Фанатики. Люди, считающие, что фюрер был, есть и будет лучшим лидером нации. Это опасные люди, психически неуравновешенные, лишенные дара перспективы, уповающие на возвращение прошлого, а такие люди готовы на все, группенфюрер, их надо – судя по вашим словам, которые вы сказали одному из убийц Ратенау, придурку Саломону, – «давить, как вшей»…
Мюллер кивнул:
– Верно, я сказал ему именно так… Другое дело, как я поступал… Или как я намерен поступать впредь… Фанатики – прекрасный материал для нагнетания чувства ужаса в мире, ибо оно, это чувство ужаса, суть предтеча надежды на сильную руку. На тех, кто может положить конец безумию, крови, разгулу страстей! Вы несколько раз упомянули ваших североамериканских коллег… Я – цените мой такт – пока еще не задал вам вопроса, кто эти люди, кого они представляют, кем были ранее, на что уповают в будущем… Все то, о чем мы с вами говорили вчера и сегодня, компрометирует меня в глазах радикалов национал-социализма, вы правы… Но ведь это делает меня незаменимым для ряда лиц разведывательной группы Вашингтона, которые – с некоторым, правда, опозданием – признали наконец, что главной опасностью для мира следует считать коммунизм. И этим людям я – Генрих Мюллер, сражавшийся в меру своих сил с национал-социализмом, поддерживавший Веймарскую республику, последнего демократического канцлера Германии генерала Шлейхера, зверски убитого Гитлером в тридцать четвертом году, готовый по его приказу, несмотря на смертельный риск, вышвырнуть из страны Гитлера, – буду в высшей мере нужен. Никто, как я, не знает потаенных пружин нацизма, и никто, как я, не сделал так много для искоренения коммунизма в Баварии, а потом и во всей стране… Причем я боролся с красными не по принуждению, не потому, что был коричневым, – вы ведь знаете, я вступил в партию только в тридцать девятом, – а по велению совести. Из-за моих идейных позиций… Ваши документы помогут мне сговориться с паршивыми янки, Штирлиц… А в этом я сейчас заинтересован…
– Нет, группенфюрер. Вам не удастся сговориться с янки… Хотя вы правы, кое-кто из разведки и пошел бы на контакт с вами. Если там есть люди, которые назвали генерала Гелена «патриотом демократической Германии», то и вас можно было бы определить как «борца против коммунизма»… Но теперь альянс не получится… Вы же слышите американское радио – такого удара против наци, обосновавшихся в Аргентине, еще не было… И это не случайно, они хотят сражаться с коммунизмом «чистыми руками»… Так что у вас есть только один выход – договор со мной… А когда вернемся с прогулки, начнем разбирать американский узел… Неужели ничего не помните?
И Мюллер ответил с поразившей Штирлица искренностью:
– Клянусь вам, нет!
Криста, Элизабет, дети, Нильсен, Эр (сорок седьмой)
Элизабет позвонила Кристине с аэродрома; как и было заранее уговорено, произнесла лишь два слова:
– Я тут.
И положила трубку.
Маленький Пол тяжело перенес полет через океан; три раза вывернуло, очень плакал, в отчаянии ударял себя маленькими кулачками в живот, обиженно повторял: «Здесь болит, ну погладь же, пусть перестанет!»
Питер смеялся:
– Смотри на меня, плакса! Лечу, и все! Как не стыдно! А еще говорил: «Я – ковбой, я – ковбой!» Еще, чего доброго, наложишь в штанишки со страха!
Маленький завопил от бессильной обиды; продолжая бить себя в живот кулачком, он, захлебываясь слезами, пытался объяснить брату:
– У меня же болит, понимаешь?! Режет! Ну что же ты ничего не можешь сделать, ма?!
Я тоже всегда сердилась на маму, когда она не могла мне помочь, вспомнила Элизабет; наверное, оттого, что мы рассказываем детям сказки, они убеждены, что волшебство естественно и каждый взрослый обладает даром мага; если не делает, чего хочется, значит – плохой… Правда… Бедная мама не знала, как решать задачи, а я ее за это шепотом ругала; прости, мамочка… А вообще, наверное, нет ничего страшнее, когда не можешь помочь маленькому; если я сейчас не сдержусь и заплачу. Пол еще больше испугается.
Она легонько шлепнула Питера:
– Не смей его дразнить! Видишь, как ему плохо!
Теперь зашелся Питер, – он ведь так гордился, что с ним все в порядке, мама должна быть рада, лечу себе, и ладно, а она…
Пол сразу же перестал бить себя кулачками в живот, успокоился, опустил голову на руку матери и легко уснул.
– Прости меня, Питер, – шепнула Элизабет. – Мне очень стыдно. А ты настоящий мужчина, я тобой горжусь. Правда. Я просто сорвалась. Прости.
Господи, подумала она, даже братья радуются, если плохо всем вокруг. Откуда это в нас?! Наверное, я ужасно поступила, но иначе Пол извел бы всех, стыдно перед соседями… Ах, да при чем здесь соседи, сказала она себе этого шлепка Питер ни в жизнь не забудет. Несправедливость родителей не забывают. То, что прощают чужим, своим не спускают… А Пол больше похож на меня… Я тоже радовалась, когда мама зря наказывала Пат… Я переставала плакать, когда доставалось сестре, испытывая удовлетворение… Ужасно, такая крохотуля, а уже взял от меня самое плохое… Питер – вылитый Спарк, как ему будет трудно жить с его добротой и девичьей обидчивостью… Он хорошо дерется, за дело отлупил соседского Боба, но его нужно вывести из себя, иначе он никогда не поднимет руку… Господи, Спарк, только бы с тобой все обошлось, ведь если у Пола не получится, мы все погибли…
…Кристина приехала через полчаса, сразу же нашла их в аэропорту, прижала к себе Пола, обцеловала Питера и Элизабет; миленькие вы мои, как же вы устали, совсем белые!
– Не очень-то обнимай Пола, – вздохнула Элизабет, – его несколько раз вырвало.
Кристина прижалась губами к потной шейке мальчика; зажмурилась от нежности:
– Ох, какой сладкий запах, боже! Кисленькое со сладким! Сейчас мы его с тобой положим в ванну, да, Питер?!
– Мы вместе ложимся в ванну, – ответил старший, – ты что, забыла?
– Да, – ответила Криста, – забыла… Из-за больших расстояний все значительно скорее забывается.
К себе домой их, однако, не повезла; отправились к докторанту Паулю, там малышей вымыли и уложили спать; Элизабет устроилась с ними на одной тахте, словно тигрица, охраняющая детенышей; как можно уместиться на самом краешке? Десять сантиметров, спит на весу!
Пауль постелил себе на полу, перебрался в прихожую; Кристина уехала в город, в кабачке нашла Нильсена, как всегда работал; тот, увидав женщину, молча кивнул, дождался, пока она вышла, отправился на набережную, где стояла яхта «Анна-Мария»; света зажигать не стал, спустился к мотору, проверил запас бензина, пресной воды и масла, потом поднялся на палубу, сел, скрючившись, замер, сунув в рот свою душегрейку.
Кристина заехала домой, выключила во всех комнатах свет, зашторила окна и выскользнула на темную улицу через двор, бросив свой велосипед у парадного. В три часа утра добралась до центрального почтамта, заказала разговор с Мюнхеном; Джек Эр, конечно же, спал сном младенца, к телефону подошел после седьмого звонка.
– Я еду с родственниками, – сказала Криста, – в деревню.
И, не дождавшись ответа, положила трубку.
В четыре утра она вернулась к Паулю, попросила его взять на руки Питера; Пола прижала к себе; в пять были на набережной, в пять пятнадцать, когда только-только начало светать, Нильсен запустил движок и повел яхту в открытое море.
– Вы пока располагайтесь в каюте, – сказал он женщинам. – И готовьте завтрак. Я подключил плитку, в шкафу молоко и яйца, обожаю омлет, только свет не надо включать, ладно? А когда мы выйдем из бухты и я лягу на курс, мы устроим пир… Если, конечно, не будет встречных судов… А даже если и будут, сделаем стол на палубе, морской ветер пахнет яблоками, не смейтесь вы, я говорю правду…
Мальчики спали, прижавшись друг к другу на лавке, укрытые толстым пледом; внутри хранились надувные жилеты и плотик; Элизабет и Криста сидели друг против друга, оставшись, наконец, вдвоем, когда можно спокойно говорить; поэтому молчали.
Криста достала из кармана теплой куртки пачку «Лаки страйк»; Элизабет заметила, что сигареты были раскрошившиеся, как у Пола, и заплакала.
– Не надо, – шепнула Криста, положив свою руку на ее сцепленные пальцы. – Теперь все в порядке, сестричка…
Элизабет покачала головой:
– Я не верю, когда все идет нормально… Я стала бояться спокойствия, Крис… Я вся издергалась… Мне постоянно хочется куда-то идти, что-то делать, смотреть в окна – не прячется ли кто там… «Все в порядке», – повторила она, глотая слезы. – А Спарк остался заложником… Где Пол? Что с ними? Ты знаешь?
– С ними все в порядке, – сказала Криста. – Давай постучим по дереву… Видишь, сколько здесь дерева?
Она заставила себя улыбнуться, хотя дрожь, которая била Элизабет, передалась и ей; но у меня же нет маленьких, сказала она себе. Я должна быть сильнее; сейчас мне надо вести ее… Не ей, старшей, а именно мне, потому что мое сердце принадлежит Полу, а у нее разделение между Спарком и маленькими Полом и Питером… Сразу трое… Это же так тяжело, невыносимо тяжело… Без детей жить проще, сам себе хозяин… Зачем ты лжешь, спросила себя Криста, кто тебя принуждает врать самой себе? Гаузнеры, ответила она. Пока в мире есть гаузнеры, очень страшно давать жизнь новому человеку; обрекать на те муки, что прошла ты. Зачем? Бог дал тебе любовь, вот и люби… Ну да, возразила она себе, а когда придет старость? Ты хочешь, чтобы пришла старость? Неужели ты хочешь этого, спросила она себя. Старость – это тоже детство, но если ребенок мудр в своей первородности, то старики исполнены хитрости, недоверия, страха; не жизнь, а постоянное ожидание неизбежности конца…
Нет, подумала она, ты не права, вспомни Ханса… Спортсмен, был заядлым охотником, гордился своим аристократическим происхождением, здоров, как юноша; он часто ездил с папочкой на охоту. «Мне пятьдесят пять, но я чувствую себя двадцатилетним! Но не обольщаюсь! Шестьдесят лет – последний рубеж мужчины… Потом всех нас надо отстреливать… Да, да, именно так, санитарный отстрел… Ведь дают же лицензии на старых лосей в то время, когда охота запрещена, – надо освобождать вид от балласта!» Перед самым началом войны Хансу исполнилось шестьдесят четыре; он был по-прежнему крепок, завел подругу, которую таскал с собою на охоту, обожал горячую еду и проповедовал необходимость постоянной близости с женщиной: «Это – натуральный женьшень». Криста как-то услышала его разговор с отцом. «Знаешь, Кнут, я был у профессора Бларсена, – говорил папочке старик, – ну, этого, знаменитого, который занимается сексологией… Я спросил, сколько раз в неделю надо любить женщину… Знаешь, что он ответил? Не догадаешься! Он просто рассмеялся: чтобы любить, надо любить постоянно: „Если у вас сломана рука и вам наложили гипс, сколько времени потом придется ее разрабатывать?! А?!“ Вот я так и поступаю… Но вообще есть физиологическая граница: всех стариков, кто перевалил за семидесятилетний рубеж, надо отстреливать. Ведь дают же лицензии на старых оленей, когда охота в лесу запрещена?! Балласт, надо освобождать вид от балласта!»
– О чем ты думаешь? – спросила Элизабет, вытирая слезы.
– Вздор какой-то лезет в голову.
– Надо было бы зайти в церковь и помолиться за наших… У вас есть протестантские церкви?
– Не знаю… Я не верю в церковь… Я в бога верю…
– Все мы дуры… Какие-то неполноценные, – Элизабет утерла слезы на щеках ладонями и по-детски шмыгнула покрасневшим носом. – Больше всего я мучаюсь оттого, что Спарк улетел отдать себя в залог без смены чистого белья… И носки на нем были несвежие… Мне стыдно, что подумают о его жене те люди, которые стерегут… «Ну и баба у него, надо привести хорошенькую кубиночку, очень заботливые жены…»
Крис, наконец, закурила, затянулась по-мужски, очень глубоко:
– Думаешь, все это время мне не лез сор в голову?! У нас один биолог читает курс о взаимоотношениях полов… Рекомендует женщинам – мы же дисциплинированные, честолюбивые – ставить себе ежедневные оценки за поведение: «Это будет держать вас в кулаке, гарантия семейного баланса абсолютна»… Я спросила: «А может, лучше просто любить того, кого любишь? Не свою к нему любовь, а его? Не пропуская все происходящее через себя, через то, как на это посмотрят и что подумают другие? Просто любить и поэтому быть счастливой?»
– Дай сигарету…
– Ты же не куришь…
– О, я раньше была такая заядлая курильщица! – Элизабет, наконец, улыбнулась. – Я бросила, когда вот этот должен был родиться, – она положила руку на голову Питера, совершенно не страшась, что мальчик проснется. А я бы не решилась так, подумала Кристина, она про них все знает, хотя никто ее этому не учил… Всему учат: и математике, и хорошему тону, и сексологии… Вот только этому жесту научить не смогут, врожденное…
– Хочешь, погадаем? – спросила Кристина.
– Веришь?
– Да.
– А я боюсь.
– Я начну с себя… А потом погадаю на Пола… Если захочешь, потом погадаем на Спарка…
Элизабет снова улыбнулась, жалко и растерянно:
– Нет. На меня. Я боюсь гадать на него и на маленьких. Давай погадаем на нас…
Криста отошла в нос каюты, открыла дверки стенного шкафчика, где хранилась посуда, отодвинула тарелки и достала из-за полки маленькую книжку в зеленом сафьяновом переплете.
– Называй страницу, – сказала она. – На меня.
– Первую сотню открывать неинтересно, – сказала Элизабет. – Это все заставляли учить в колледже, в зубах навязло… Давай так… Страница двести седьмая, сверху восьмая строка…
Жаль, что она не назвала цифру «семь», машинально подумала Кристина; прочитала текст:
– «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками»…
– Дальше, – попросила Элизабет.
– По-моему, и так все понятно…
– Что, дальше плохо?
– Не знаю…
– Дальше, – повторила Элизабет, – я боюсь одной строки… Приходится много додумывать…
– Это ничего, если я закурю еще одну сигарету? – спросила Крис, кивнув на спящих мальчиков.
– Закурим вместе, – ответила Элизабет; она снова держала себя, стала прежней – спокойной и чуточку снисходительной.
– «Но снабди его от стад твоих, – продолжила Криста, – от гумна твоего и от точила… Дай ему, чем тебя благословил Господь… Помни, что и ты был рабом в стране Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я тебе это и заповедую… Если же он скажет: „Не пойду я от тебя, потому что люблю тебя и дом твой“, возьми шило и приколи его ухо к двери, и будет он твоим рабом на век. Так поступай и с рабою твоей»…
Элизабет, наконец, весело засмеялась, ничуть не опасаясь, что мальчики проснутся, а Криста даже створки стенного шкафчика открывала осторожно, страшась, что запоют петли; бедненькая, как же трудно ей; сердце разорвано на три части, а я до сих пор не верю, что Пол по-настоящему мой муж… Чему ты не веришь, спросила она себя. Тому, что он «твой»? Или «муж»? Это разные понятия. В этом пустячном различии корень людских бед… «Мой» – собственность, «муж» – это мужчина, который позволяет себя любить, нежно и покорно принимает мою ласку; мужчина – это сила вообще; муж – сила, защищающая тебя, вот в чем разница…
– У тебя было прекрасное гадание, – сказала Элизабет, затягиваясь. – Хочешь, я буду толкователем?
Криста села рядом с ней, прижалась, ощутила ее опавшую грудь, вспомнила маму, дрогнула спиной, испугалась, что не сдержится, разревется; нельзя, ни в коем случае нельзя, ей труднее, чем мне!
– Тебе холодно? – спросила Элизабет, почувствовав, как вздрогнула спина Кристы. – Не простудилась?
– Нет, мало спала…
– Ты совсем не спала, бедненькая, – сказала Элизабет и подняла с ее лба тяжелые, шелестящие волосы. – Какая же ты у нас красивая… Совершенно григовская девочка… Не сердись, я темная, но Григ был норвежцем или финном?
– Не сержусь, – Криста прижалась к ней еще теснее. – Норвежцем. На тебя будем гадать?
– Обязательно… Страница триста пять, двенадцатая строка снизу.
Не открывая книгу, Криста спросила:
– Ты называешь цифры с каким-то смыслом? Или просто так?
Элизабет удивилась:
– А какой смысл может быть в цифрах?
Криста убежденно ответила:
– Может… Я почему-то боюсь цифру двенадцать… Хочешь перегадать?
– Так нельзя… Давай уж, что делать… Тем более, все это чепуха…
Криста нашла страницу:
– «Теперь иди и порази Амалика…»
– Дальше, – попросила Элизабет.
– «И истреби все, что у него».
– Дальше…
– «И не дай пощады ему»…
– Дочитай до конца строфы, Крис…
– «Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла»… Чушь, да?
– Помолимся, а? – сказала Элизабет. – Какая же это чушь?
Они замерли; сигареты, оставленные в пепельнице, дымились; Кристина хотела потушить их; Элизабет махнула рукой, ерунда; мгновение побыли – каждая в себе самой – недвижными, потом Элизабет взяла свою сигарету и затянулась еще тяжелее:
– Знаешь, всегда все бывает наоборот… Чем хуже гадание, тем лучше в жизни…
– Верно… Я погадаю на Пола… Четыреста седьмая страница, тринадцатая строка сверху… Вот… – Она зажмурилась. – Читаю… «И сказал Господь Иную, что было праведно в очах Моих, выполнил ты над домом Ахавовым все, поэтому сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле…»
Вошел Нильсен, потер руки, подул на пальцы, словно они замерзли, хотя день обещал быть теплым:
– Дамы, а где же омлет и кофе? Мы вышли в море, впереди и по бортам ни одного судна на двадцать миль, у меня есть десять минут на отдых… Смотрите-ка, ни ветерка, ни тучки, полный штиль, можно даже патефон завести.
– Заведите, – обрадовалась Элизабет. – У вас хорошие пластинки?
Нильсен обернулся к Кристине:
– На вашей яхте хорошие пластинки, мадам?
– Что бы тебе хотелось послушать, сестричка?
Элизабет открыла наугад страницу, ткнула пальцем, загадала на Спарка, прочла первые строки: «Погибни, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: „Зачался человек!“, – захлопнула книгу в зеленом сафьяне, заставила себя улыбнуться и сказала:
– С радостью послушала бы «Пер Гюнта»…