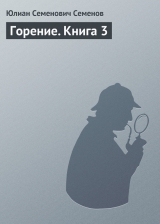
Текст книги "Горение. Книга 4"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Щеколдин протолкался к тому столу, где ставки были самые высокие, минимальная – двадцать франков; три игры наблюдал – лицо каменное, бесстрастное; один только раз глянул на Богрова, когда дама с серебряными кудряшками сняла крупный выигрыш, что-то около двух тысяч.
Когда до начала шестой по счету игры осталось несколько мгновений и большинство ставок уже было сделано, Щеколдин сказал Богрову:
– Поставьте все свои деньги на цифру четыре, вы выиграете.
Сам же поставил на семь и на тридцать два, пополам с тридцатью тремя.
Фишка остановилась на тридцати трех; крупье подвинул своей палочкой щеколдинский выигрыш, более трехсот франков; сдержанно поблагодарил, когда Щеколдин бросил ему через стол чаевые за хорошую игру – жетон в пять франков.
– У вас было предчувствие, что проиграете? – спросил он Богрова.
– Я доверился вам.
– Держите, – сказал Щеколдин, – здесь двести франков. Попробуйте теперь сами.
Богров пожал плечами:
– Я не могу принять ваши деньги, Николай Яковлевич.
– Это наши деньги, – ответил Щеколдин. – Я имею в виду не наш совместный выигрыш, а нечто совершенно другое, думаю, вы понимаете меня?
– Вы хотите сказать, что эти деньги принадлежат не нам?
– Именно это я и хотел сказать.
– И те, кому они принадлежат, хотят, чтобы я проиграл их?
– Те, кому они принадлежат, хотят видеть, как вы играете.
– Игра должна кончиться выигрышем, Николай Яковлевич, это – закон, здесь я не выиграю, каждый живет своей методой.
– Так я не держу вас, идите к любому столу…
Богров отошел туда, где игра начиналась с пяти франков, а не с двадцати, и сделал сразу десять ставок: Щеколдин понял, что тот играет здесь давно, лгал, будто ни разу не был в казино; выиграл семьдесят франков, сел на освободившийся стул, достал из кармана блокнотик и карандаш, начал записывать те номера, на которые падали выигрыши, – так только профессионалы себя ведут, дилетанты быстро проигрываются и отваливают восвояси, лишь мастак норовит выстроить схему; коли, к примеру, давно не выпадало на первую десятку из тридцати шести заветных цифр, надо ставить именно на первые, глядишь, десяток тысяч в кармане, шальные, счастливые, сладкие деньги!
Щеколдин видел замершее, отстраненное лицо Богрова и стремительные глаза, алчно следившие за стремительным бегом шарика, пущенного рукою крупье на мягко вертевшуюся рулетку.
«Костистый мальчик, – подумал Щеколдин, – ухватистый. Врет красиво, уверенно; внутри у него сомнения нет, живет собою, челюсти крепкие, но запугать его можно, слишком высоко о себе думает, а на донышке в нем страх».
Богров выиграл еще два раза, снова по мелочи, потом собрался еще более, спружинился весь, начал кусать заусенцы, сделал крупную ставку, ошибся на одну цифру, проиграл и лишь после этого начал искать глазами Щеколдина; подошел к нему:
– Дайте в долг, до завтра, Николай Яковлевич.
Щеколдин вытащил из кармана толстую, несчитанную пачку денег, протянул Богрову молча.
Тот пошел в кассу, вернулся к столу, снова начал ставить по мелочи, пару раз выиграл, потом жахнул тысячу франков на цифру одиннадцать, она еще ни разу не игралась за вечер; шарик остановился на двенадцати. Богров поставил еще одну тысячу на одиннадцать, и шарик вновь лег рядом на десять.
Богров съежился, плечи его расслабились, лицо сделалось серым, и он не сразу даже понял, отчего оказался за столом один: почти все игроки столпились там, где весь вечер стоял Щеколдин. Невысокий, неряшливо одетый итальянец, с толстенной сигарой в углу толстого, безобразного рта, выиграл, поставив на цифру «четыре» сто франков. Крупье подбросил ему тридцать шесть жетонов по сто каждый. Итальянец, не выпуская обслюненной сигары изо рта, сказал крупье:
– Поставьте снова на четыре – все деньги.
За столом сделалось так тихо, что было слышно, как потрескивает табак, когда итальянец глубоко затягивался, так глубоко, что сигара его делалась на мгновенье словно бы разрезанной красным ободком шипящего жара.
И снова шарик, стремительно вращавшийся по громадной ребристой рулетке, остановился на цифре четыре.
Прибежал директор казино, следом за ним появились служители в форме, принесли аккуратный ящичек, там – в упаковке – деньги, сто двадцать девять тысяч шестьсот.
– Поставьте все это на цифру четыре, – повторил итальянец и, только сказав это, начал багроветь, будто после апоплексического удара.
Директор вызвал другого крупье, чтоб не было никаких подозрений в сговоре, тот воссел на трон, крутанул шарик, и снова выпала четверка.
Итальянец поднялся и, сгибаясь пополам от истерического смеха, пошел по казино, словно бы подстреленный, никак упасть не может, еще бы, четыре с половиной миллиона, состояние!
– Вот так надо играть, Дмитрий Григорьевич, – вздохнул Щеколдин, наблюдая, как служители накрывали столы черным сукном, – работа казино была прервана, все деньги из кассы взяты под лопату. – А вы – суетились…
– Я должен вам четыре тысячи, – сказал Богров. – Куда принести их вам завтра к вечеру, Николай Яковлевич?
– Не к спеху. Отдадите позже.
– Это долг чести, я не могу…
– Можете, – убежденно сказал Щеколдин. – Пить станем?
– Я бы выпил.
Они зашли в кафе, Щеколдин заказал водки «Попофф», официант, конечно же, не понял, принес две рюмашечки по тридцать граммов, Щеколдин несколько раздраженно дважды повторил:
– Бутылку, я прошу бутылку, понятно, бутылку!
По-прежнему раздраженно проводив взглядом официанта, Щеколдин сказал:
– Мне этих паршивых денег не жаль, Дмитрий Григорьевич, мне жаль другого – вы мелко играли, вы нервничали, вон даже на мизинце до крови кожу обгрызли… А ведь казино – шуточный риск в сравнении с нашим делом… Вы нравитесь мне, в вас есть задор и ум, но, прошу вас, подумайте еще, время пока есть, в какой мере вы готовы к делу? После того как вы скажете «да» и узнаете объект, против которого надо будет работать, отказ выполнить приказ, уклонение от дела означает для вас смерть. Только поэтому я и повторяю вам: думайте, у вас еще есть время. Не скажу, чтоб много, но – есть.
«А ведь я так и пропасть могу, – подумал вдруг Богров. – Не заиграться бы… А что вообще-то значит заиграться? Этот итальянец, который сегодня снял банк казино, играл ведь, но не заигрался? Почему? Фатум? Или был в сговоре с первым крупье, которого потом заменили? Какой смысл тогда было оставлять деньги на четверке в третий раз? Просто он знал, что будет выигрыш, он был над игрою, над нами, мелочевками, он делал главное дело жизни, его ж теперь все узнают».
– Теперь, – усмехнулся Щеколдин, – этого синьора Энрике Грасиани вся Европа узнает, завтра же в газетах раструбят.
Богров вздрогнул даже, – так Щеколдин угадал его мысль.
– Да, память многого стоит.
– Она стоит всего, – подтвердил Щеколдин, – ибо одна лишь дает истинное бессмертие.
– Я думал об том же, – невольно для себя признался Богров.
– Я почувствовал. Вы правы, человек, который сможет казнить Столыпина, станет главным человеком мира в двадцатом веке, это уж точно.
– Как мне найти вас завтра, Николай Яковлевич?
– Никогда не задавайте такого вопроса впредь, – жестко отрезал Щеколдин. – Никогда и никому.
Официант поставил на стол бутылку водки, недоуменно поглядев на странного человека, заказавшего столь огромное количество русского напитка, пожелал хорошего вечера и поинтересовался, что будут заказывать себе гости на ужин.
– Спагетти, – ответил Щеколдин; Кулябко проинструктировал его: максимум скромности в тратах на себя, щедрость по отношению к Богрову.
– Мне – спагетти, а моему другу дайте самое вкусное из того, что у вас есть.
– Мы можем предложить великолепную мерлусу с лимоном, это наше фирменное.
– Хотите мерлусу с лимоном, Дима? – спросил Щеколдин, точно определив время, когда можно было переходить на дружество, отбрасывая отчество.
– О, спасибо, но это здесь ужасно дорого, я с удовольствием съем, как и вы, спагетти.
Тем не менее Щеколдин попросил принести мерлусу, разлил водку, чокнулся с Богровым и сказал:
– Дима, пока еще о вашем предложении знаю один лишь я, но не знают ни Виктор, ни Абрам… Лучше откажитесь, вы еще слишком молоды, мне, говоря честно, жаль вас…
Виктором был Чернов, вождь партии социалистов-революционеров, Абрамом был Гоц, брат погибшего Михаила, подвижник террора.
Кулябко инструктировал: «Главный козырь, – имена вождей – выбрасывайте в конце, когда Богров устанет, это будет для вас лучшая проверка; по тому, как он среагирует, вы поймете все про его затаенные мысли».
И снова Кулябко оказался прав, потому что Богров спросил:
– Я увижу их перед началом дела?
– Вы увидите их потом, Дима, когда сможете убежать сюда… После акта… Я спрашивал вас, готовы ли вы на смерть во имя нашего дела… Человек, который совершит работу, обязан остаться живым, и вы это прекрасно понимаете… Каждому движению нужно живое знамя… Скажите, Дима, вам хочется славы? Погодите, не торопитесь отвечать мне, я очень боюсь услыхать ложь, я боюсь ощутить неискренность… Скажите мне, обдумавши вопрос, ответьте честно, испепеляюще честно, как и надлежит говорить революционеру-террористу…
Богров кашлянул, чувствуя в себе остро вспыхнувший страх. «Меня затягивает, – понял он, – этот человек может погрузить в такую пучину, откуда уж выхода не будет; такой убьет, узнай про меня правду, у него порою глаза останавливаются, как у маньяка».
Но помимо его воли, словно бы кто-то другой, очень маленький и слабый, неуверенный в себе, быстрый, как зверек, алчущий ласки человека, у которого большая и сильная рука, ответил:
– Я не стану лгать, Николай Яковлевич, я испытываю ужас перед разверзшимся молчанием могилы, перед вечной недвижностью, перед крышкой гроба и гвоздями, которые проржавеют, покроются черной теплой плесенью… Да, я боюсь этого, а потому уповаю на память, которая вечна… На память поколений по тем, кто отдает себя на алтарь революции… На ее кровавый, ужасный алтарь… Но я не могу и не хочу быть слепою пешкой в руках неведомых мне мастеров борьбы, против этого восстает мое существо; я готов на все, но в союзе равных.
– Сколько времени вы еще думаете пробыть в Ницце?
– Я изнываю здесь от тоски и одиночества.
– Научитесь отвечать на вопрос однозначно, Дима. Итак, сколько времени вы можете прожить здесь?
– Сколько потребно делу.
– Хорошо, этот ответ меня устраивает.
Щеколдин снова разлил по рюмкам, выпил не чокаясь; потер лицо, улыбнулся своей внезапной, располагающей улыбкой:
– Мне пора. Пейте, Дима. Пейте. Вы весь издерганный, выпить как следует – единственный способ прийти в себя…
… Наутро Богров отправил телеграмму в Петербург, Коттену, попросил срочно выслать сто пятьдесят рублей золотом, о проигрыше в казино не писал, но объяснил срочную потребность в средствах делом.
В тот же день фон Коттен поручил деньги ему отправить.
Он, однако, их не востребовал, через два месяца они вернулись в петербургскую охранку.
«Только по Бисмарку: „Долго запрягать, но зато ехать быстро!“
На рауте у британского посла Курлов, как всегда, шумно и весело выпил, облобызался с греческим генеральным консулом (не иначе как беглый армян, слишком уж горазд по-русски), легко и достойно прокомплиментировал жене бельгийского посланника (действительно душка, и глазенки умные), обсудил с болгарским чрезвычайным министром ситуацию в Черногории и Босне, а затем, когда гости постепенно разбились на группы по интересам, присоединился к Триполитову и Дмитрию Георгиевичу Беляеву, тузам питерской и московской биржи; Триполитов, однако, торопился на день ангела к дочери, пригласил Курлова на свой островок в заливе, посулив рыбалку, посетовал на то, что министерство внутренних дел до сих пор тянет с ответом на поправки к проекту по страховому вопросу, а рабочие из предпринимателей жилы тянут; с тем и откланялся.
Беляев и Курлов отошли от стола, уставленного довольно скромными яствами (британцы всегда скупердяйничали, особенно коли было загодя известно, что не пожалует никто из членов августейшей фамилии; правда, было вдосталь прекрасного эля и джина), устроились возле широкого окна и, обсмотрев друга друга наново, одновременно рассмеялись.
– Кто начнет? – спросил Курлов. – Готов отвечать за моих волынщиков, я в курсе страхового вопроса.
– Ах, да при чем здесь страховой вопрос? – сказал Беляев. – Я что-то не возьму в толк, куда вообще дело идет, Павел Григорьевич?
– То есть как это так «куда»? – удивился Курлов. – По обычному нашему пути, милый Дмитрий Георгиевич, в никуда, коли не к полнейшему бардаку!
– За такие слова ваши молодчики в околоток заберу1'
– Они у меня знают, кого брать, а кому благодарность принесть за скорбь и боль по государеву делу-Давайте – от души, выкладывайте…
– Ах, милый Павел Григорьевич, когда шеф российских жандармов предлагает высказываться от души, сразу начинаешь вспоминать знакомых по Восточной Сибири, кто – в случае чего – на службу пристроит в тамошнем акцизе… – Беляев поманил лакея, кивнул на рюмку, тот сразу же подлетел с джином, наполнил высокий стакан, принес льда, лимона с содовой, намешал пойла, отпорхнул столь же бесшумно, как и приблизился. – Биржа пока стоит, – попробовав лесной влаги из высокого тонкого стакана, продолжил он, – и вроде бы ничего трагического нет, но коли вбуровиться в толщу проблемы, страшно делается… Я виню не столько вас, центральную власть, я виню то, что происходит на местах, Павел Григорьевич… Никакой хозяйственной жизнедеятельности, кругом одни «не пущу» и «не велено»! Нельзя же так, нельзя! Чтобы поставить строительный завод в Новороссийске, компаньонам пришлось обойти следующие ведомства: губернаторство, дворянское собрание, пожарную комиссию, санитарный контроль, водный регистр, линейное управление железных дорог юга империи, уездное отделение вашего ведомства, – правда, не впрямую, а через знакомцев; статистическое бюро при земском управлении, ведомство по надзору за здравоохранительными учреждениями, городскую управу, дирекцию порта и землеустроительное бюро. Что-то я наверняка упустил…
– Ничего, и перечисленного хватит, чтобы потерять год жизни, – вздохнул Курлов. – Что вы хотите, аграрная страна, гигантские просторы, некое отталкивание всего, что связано с чрезмерно скоростной, машинной техникой… Поставили хоть дело или тянут?
– Третий месяц ждут ответа из санитарного контроля… Тот требует заключение портовиков, а наши мореходы не дают, настаивая на просвященном мнении эскулапов. Иван кивает на Петра…
– При том, что в стране острейшая нехватка строительного материалу.
– Именно.
– И вы полагаете, – медленно спросил Курлов, – что в этом виновата местная власть? Побойтесь бога, Дмитрий Георгиевич! Или – хитрите, не желаете называть вещи своими именами? Мы во всем повинны, мы! Санкт-Петербург! Кабинет министров! Мы боимся поломать привычное, жалимся обидеть губернаторов, потерять опору на местах, мы, Дмитрий Георгиевич, норовим удержать все как было, но ведь невозможно сие, никак невозможно!
– Это вы говорите, Павел Григорьевич, вы, а не я! -. улыбнулся Беляев. – Я лишь так думаю, а вот революционеры на этом строят свою пропаганду! Неужели и дальше так пойдет, неужели мы и впредь будем жить по-азиатски лениво и внутренне зло друг к другу?!
– Именно так и будем жить! Именно так!
– Тогда ждите краха! Биржа такой инструмент который не обманешь, цена – она и есть цена, приказом ее не поправишь! Объясните мне отчего все так?! Отчего?
– Будто сами не понимаете…
– Понимал бы – не спрашивал, Павел Григорьевич!
– До тех пор, – упершись взглядом в зрачки собеседника, скрипуче сказал Курлов, – пока кабинет возглавляет человек, сделавший ставку жизни на представителей одного лишь аграрного класса, до тех пор, покудова вопросы промышленности и банка видятся ему в обличий бунтаря на баррикаде или Шейлока возле банковского сейфа, не ждите никаких изменений, он выше своей головы не прыгнет… А вы – молчите, по углам шепчетесь, а мне секретная информация о вашем недовольстве приходит, и оседает эта информация в пыльных шкафах, наверх не идет, кто ж на самого себя решится бочку катить?!
Беляев невольно оглянулся; Курлов захохотал в голос:
– Соглядатаев боитесь? Пока я в лавке – не бойтесь, всем известен мой патронаж промышленному делу, пока могу – оберегаю вас, но ведь не вечен я, Дмитрий Георгиевич, не вечен, а паче того, бесправен, коли называть вещи своими именами.
– А мы? Марионетки. Задавлены министерствами, беззаконием, инерцией страха, дремучими традициями… Что мы можем, Павел Григорьевич? Что?
Курлов молчал, по-прежнему глядя в зрачки собеседника, словно бы гипнотизировал его, подсказывая: «А ты спроси совета, спроси, я – отвечу».
И тот спросил:
– Как надо поступать нам – пока еще можем, – дабы помочь делу в империи?
– Газеты в ваших руках, мощные газеты, Дмитрий Георгиевич, а сие – сила. Неужели нет у вас толковых людей, которые так же, как мы с вами, радеют о судьбе державы? Пусть бабахнут от души! Пусть по мне бабахнут, по министерству промышленности пусть ударят, по…
Беляев понял сразу, отчего Курлов оборвал себя:
– Вот-вот… Цензура не пустит. Главу трогать ни-ни!
– А ум зачем даден? У нас все между строк читать горазды, мы не Англия, где премьера допустимо в статье ослом назвать, ничего, кроме смеха читателей, от этого не станется, а посмеявшись вдостоль, осла повалят! Так ударьте ж! Иначе – вас вскорости стукнут, да так, что костей не соберете!
– Если нас начнуть бить, на ком империя стоять будет?
– А кого сие волнует, мой дорогой друг? Кого? Нас в мир пускают ненадолго, свое б отжить, а там – хоть потоп! Не вздумайте на меня ссылаться, но, сдается мне, этой осенью правительство намерено такие налоги с вас взвинтить, что не очухаетесь!
– Так ведь будем вынуждены понизить оклады рабочим, выйдет бунт!
– Во-первых, не позволят вам понижать оклады, с чернью намерены заигрывать, пугать вас ею, а потом, сейчас армия оклемалась, харчат неплохо, станет стрелять, не девятьсот пятый год, слава богу! Во-вторых, коли шелохнетесь хоть в малости, сами ж и окажетесь во всем виновными, вы знаете, как у нас умеют находить козлов отпущенья. Вы – в углу. Загнаны и заперты. Но – молчите. А впрочем, что ж это я, право?! Пока при деле, оклад содержания платят, есть ли резон вас агитировать, Дмитрий Георгиевич?
– Есть, оттого что вперед думаете, – ответил Беляев. – Только вот беда: поговорили случаем, да и разнесло разными ветрами…
– Понадобится нужда во встрече, звоните доктору Бадмаеву, я у него лечусь, поспособствует… И не ведите вы, бога ради, разговоров при секретарях, они ж на содержании у нас! Мало вам клубов, где можно обо всем перемолвиться?
– Там тоже трудно, – вздохнул Беляев. – Мне Гучков сказал, что в Английском клубе все лакеи – от вас, освещают октябристов, меня в том числе.
– Ну уж и «все»! – улыбнулся Курлов. – Вы нашу мощь не преувеличивайте, себя особенно не пугайте, мы тоже по смете живем, а она далеко не бездонна… Но вообще-то верно, освещают всех октябристов, поди, нарушь указание премьера! Составьте-ка вы, покуда еще не поздно, записку о положении в промышленности на высочайшее имя. И называйте вещи своими именами: да, именно правительство совершенно не радеет об индустриальном деле, да, именно исполнительная власть никак не думает о стратегии промышленного развития империи – до сих пор своих рельсов не хватает, станки волочем из-за моря, швейную машинку и ту не умеем произвесть; Путилов чуть не плакал, рассказывая, как сметное управление министерства режет ему оклады содержания для наиболее головастых инженеров, требует от него, чтоб он за место платил и за время, отсиженное на оном, а не за идею. А дымная англичанка платит за мысль, пусть господин инженер хоть и вовсе на фабрике не появляется! Вот вы по чем шандарахните, милый мой человек… И найдите ход в Царское Село, не вздумайте пускать через кабинет, я это ваше обращение первым же и похерю, мои службы зубасты, не я – над ними, а они надо мною, коли правде смотреть в глаза.
… Через два дня Бадмаев сообщил: зашевелились; Беляев, будучи человеком высокоторговым, никому и словом не обмолвился, от кого пришла к нему идея; начал катить бочку на кабинет министров; пошел шорох: «Столыпин засиделся, помещик, не понимает нужд промышленности, а урок японской катастрофы доказал – без чугуна, стали и железных дорог самая сытая армия обречена на разгром; пора менять; называют фамилию преемника – Александр Иванович Гучков; после столыпинского ультиматума ушел в отставку с поста председателя Государственной думы, затаил обиду на бывшего друга, а человек большой силы и мужества, этот может повести за собою кабинет… »
… Получив такого рода информацию, Курлов задействовал своего партнера по биржевым операциям, нефтяника Георгия Александровича Манташева. Вместе с Бадмаевым они думали о дальневосточном стомиллионном проекте, такой слова лишнего не скажет, ибо тот лишь болтает, у кого за душой одни эмоции и никакого реального интереса; тот, кто знает свою выгоду – близкую или дальнюю, – будет молчать, хоть пытай…
«Главное – запутать», как советовал Рачковский»
Брат Спиридона Асланова был моложе его на три года; звали его Богдан; работал в компании Манташева; поскольку прекрасно знал персидский и французский языки, часто выезжал за границу с деликатными поручениями; оплату получал штучную.
Он то и окликнул Богрова на улице, когда тот выходил из пансионата мадам Лефевр, у которой семья киевского адвоката обычно останавливалась с января по апрель.
Богров отчего-то испугался, увидав продолговатое, асимметричное, иссиня-бледное лицо с громадными, вываливающимися глазами.
– У меня письмо вам, – сказал Асланов, – от Николая Николаевича.
– От какого Николая Николаевича? – удивился Богров деланно. – Это имя мне не знакомо.
– Хорошо, хорошо, – поморщился Асланов. – Все понимаю, но вы прочтите хотя бы, как-никак полковник Кулябко…
Богров по-прежнему колебался.
– Я – брат Спиридона Асланова, это вас успокоит?
– Нет, вы явно меня с кем-то спутали. – Богров поворотился и быстро вернулся в пансионат; поднявшись в свою маленькую комнату, заперся, подкрался к окну, выглянул на улицу из-за занавески; пусто, Асланова не было.
«Видимо, Коттен не отдал Кулябко нашего пароля, – подумал Богров, успокаивая себя. – Не может быть, чтобы эсеры устроили такую страшную проверочную провокацию. Если Асланов от Кулябко, он найдет возможность прийти ко мне иначе, я поступил совершенно правильно».
Однако тревога не оставляла его, поэтому от котлет, приготовленных мамой, отказался, из дома не выходил, затаился, ногти грыз исступленно, то и дело ходил в ванную за перекисью водорода.
Асланов позвонил вечером, предложил любую форму встречи.
– В конечном счете, я могу отправить вам это письмо по почте.
– Повторяю, мне совершенно неизвестен никакой Николай Николаевич, перестаньте мистифицировать меня.
– Как вам будет угодно… Только Николай Николаевич просил передать на словах, что Женя Орешек исчез, и он очень за вас – в этой связи – волнуется.
Кличку «Женя Орешек», данную в охране младшему брату легендарного террориста Рысса, дал сам Богров, когда получил задание отыскать его накануне задуманной анархистами экспроприации филиала Московского купеческого банка; никто более, кроме него и Кулябко, этой клички не знал; «Крепок орешек, – смеялся тогда Богров, – да все равно разгрызем, не такие грызли».
– Хорошо, – сказал Богров, – сейчас выйду.
– Я буду около вас через десять минут, из отеля звоню.
– Здесь многие знают русский.
– Меня предупреждали.
… Рука действительно была Кулябко.
«Дорогой друг. Верьте человеку, которого я послал на встречу с вами. Он передаст вам средства большие, чем вы попросили телеграммой у дяди Миши. (Богров не сразу сообразил, что Кулябко таким образом назвал Коттена.) Ни в чем не отказывайте себе, когда речь идет о вашем благополучии, а паче – безопасности. Дядя Миша, думаю, не до конца понял, какую вы начали грандиозную работу против Вити и Абрама. Я получил сведения от моих братьев из Парижа, что ваше предложение принято Витей и Абрашей, этими выдающимися подвижниками святого дела. Давай-то господь! Один вам помощник в этом деле – я, дорогой друг, я, а никак не дядя Миша. Так что возвращайтесь не в Питер, а сюда, ко мне, к родному очагу, тут все и договорим. Теперь о неприятном: Орешек наш закатился куда-то, и никак я его сыскать не могу. Очень он был сердит на Диму („На какого Диму? – снова не понял Багров. – Это верно, я“), считая его виновным в неприятностях, связанных с временным прекращением работы в банке. Категорически – кто бы к вам ни пришел с этим разговором – отрицайте свою причастность к банковским аферам, у него нет никаких тому доказательств, лишь гнусные подозрения. Пожалуйста, кроме вашего нового друга, не встречайтесь ни с кем, сколько бы интересными ни были предложения, возможно всякое. („Господи, – пронеслось в мозгу, – это что ж, меня казнить намерен Рысс-младший, что ли?! Неужели провал, боже мой?! “) Письмо это сожгите в присутствии того, кто вам его передал. Потребуйте, чтобы этот человек, которому я верю безусловно, задрал рукав: вы должны увидеть татуировку, русалка, а один глаз у нее прищурен. После этого выслушайте то, что он вам скажет на словах. „Племянником“ буду называть того, кем интересуется ваш парижский друг, против кого замышлено дело, „Тетушкой“ – будет тот, кого вы ему не предложили для дела, а он вас спросил, отчего бы не начать именно с нее. Азефа я назову „Игорем“, „Друг Ник. Ника“ – это вы; „университет“ – моя контора. Ясно? Ваш Коля».
Письмо сжег в присутствии Богдана Асланова; русалка левой руке армянина щурилась сладострастно; пошли гулять по набережной; Асланов говорил заученное:
– Мне поручено передать вам дословно следующее: «Николай Николаевич сделает все, чтобы сохранить его друга от возможной мести Орешка, однако и сам друг должен предпринять определенные шаги, доказав приятелям Орешка свою нужность в ближайшем будущем, когда Племянник с Тетушкой поедут в начале сентября на каникулы в Киев. Причем, как это ни парадоксально, интересы приятелей Орешка и друга Николая Николаевича, да и ряда других близких вам по духу людей, смыкаются, ибо Племянник совершенно одержим лишь польским, финским и еврейским вопросом, ни о чем другом не думает и советы сколько-нибудь здравомыслящих людей отвергает. После того как Племянник предал не только Игоря, но и тех, кто работал вместе с ним, от него отвернулись все наши братья, он остался один, и его уход угоден. Боюсь сказать, но коли он не уйдет, ежели сможет одолеть Тетушку („Неужели Тетушка – это действительно царь? “), мне будет плохо, так плохо, что придется уйти из университета, и тогда вы останетесь один, без постоянной дружеской руки. На Дядю Мишу, как, наверное, могли убедиться, надежда плохая. Повторяю, я говорю вам все это, потому что отношения наши, смею считать, дружеские, а я несу за вас ответственность не перед кем-нибудь – перед своею совестью. Человек, который вам передаст все это на словах, брат моего друга, на которого обрушился несправедливый гнев Племянника; я верю ему абсолютно, ибо он к тому же находится в положении, близком вашему, за ним постоянно следят, и жизнь его под угрозой ежеминутно, но я помогаю, покуда могу. Словом, передайте другу, что если даже Витя и Абраша откажутся от встречи до, настаивайте на гарантиях после. В случае если вдруг Орешек обнаружит вас там, куда приехал мой посланец, потребуйте права на объяснение и во время этого объяснения признайтесь в вашем намерении решить спор с Племянником осенью. Встреч со мною не ищите, я стану находить вас, чтобы не подвергать вас опасности со стороны проходимцев, для которых жизнь человеческая – ничто».
Кончив читать заученное, Асланов достал из кармана большой голубой платок и отер лоб, покрывшийся испариною.
– Пять дней зубрил… Все поняли? Могу еще раз повторить.
– Сколько времени вы здесь пробудете?
– Завтра я должен уехать.
– Когда увидите Николая Николаевича?
– Вообще-то я его и в глаза не видел…
– То есть?! – изумился Богров и резко обернулся ему показалось, что именно сейчас и бросится на него кто-то с длинным шилом, отточенным до голубого, безнадежного холода.
– Меня отправлял брат… Понимаете? Видимо, он и встречается с Ник Ником.
– Как вы узнали меня? Почему окликнули именно меня, когда я выходил из пансионата?
– Потому, что мне показали ваш фотографический портрет.
– Какой именно? Я их делал несколько.
– В студенческой тужурке, очень молодой, смеетесь…
– Кто делал портрет?
(«Если старик Ниренштейн с Горки, – подумал Богров, – то все в порядке, именно этот портрет я передал Кулябко, других более нет нигде, значит, посланец действительно из Киева».)
Асланов между тем остановился, наморщил лоб, вспоминая; Богров успокоился, убедившись, что этот чернявый письма Кулябко не читал, иначе б не удержался, мог ответить: «Вам же написали, что мне надо во всем доверять».
– Ваш портрет… Одна минуточка… Кажется, Ниренштадт… Во всяком случае, фамилия хозяина дагерротипа начинается с «нирен»… Концовка может быть другая, но принадлежит немцу или еврейчику…
«Кулябко не сказал ему, что я не русский… Никто не подозревает во мне иноплеменца, просто-таки никто… – Богров думал сейчас устало, видимо, переволновался, слушая послание Кулябко. – Надо будет попросить его прочесть еще раз».
Асланов прочитал еще раз; на этом и расстались; Богров обещал позвонить в отель, где остановился связник, и пригласить его к телефонному аппарату: «Месье Горштайна просит месье Мендель».
Звонить этому странному месье «Горштайну» Богров не стал; еще раз с удивлением пересчитал деньги, присланные Кулябко, – пять тысяч франков; что значит друг, сердце как чувствовало – в беде!
Последовавшие за этой нежданной встречей дни Богров спал мало, очень похудел, из дому не выходил, страшась звонков и стука в дверь; сказал родным, чтобы к телефону не подзывали, разыгрались нервы, хочу полежать спокойно в кровати, почитать…
Читать, понятно, не мог.
Шок, который он ощутил, выслушав послание Кулябко, не проходил; наоборот, с каждым часом он чувствовал себя все более и более ужасно; лихорадило; слышались странные голоса, будто кто идет навстречу по темному подземному коридору, говорит о нем, Богрове, обсуждая форму приведения в исполнение приговора; с детства, когда нянька уронила его с купальни в теплую озерную воду, испытывал страх перед гибелью в водорослях; живот вздует, язык вывалится, синий, словно телячий, и черви из ушей ползут, белые опарыши; а голос все ближе и ближе: «бросить с лодки»; стремительная мысль: «Я уцеплюсь за борт, пусть чем угодно бьют, не станут же они пальцы кинжалом резать?!»








