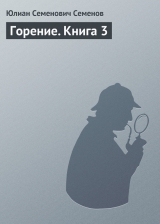
Текст книги "Горение. Книга 4"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Тем же вечером Курлов провел два легких, пробрасываемых разговора с друзьями своих коллег, знавших, где сейчас скрывалась Шорникова: как от полиции Петербурга (ибо была внесена в розыскной список, являясь членом военно-революционного комитета социал-демократов, «убежавшей» от ареста), так и от революционеров, начавших подозревать ее в провокации. Курлов легко и неназойливо порекомендовал передать в прессу, через пятые руки, компру на этого «коронного» столыпинского агента (всегда помнил ее псевдо, спрашивал: «Что от „Казанской“? »). Вот потешимся, вот удар, вот защита!
Однако самый свой дорогой документ, полученный прошлой ночью, Курлов даже Дедюлину не открыл.
Документ этого стоил – новые странички из тайного дневника графа Сергея Юльевича Витте:
«Дело о покушении на меня находится в моем архиве и в нескольких экземплярах в различных местах для того, чтобы на случай, если пропадет один экземпляр, остался другой, так как дело это характеризует то положение, в котором очутилась Россия во время управления Столыпина. Дело это, составленное из официальных документов, несомненно, устанавливает следующие факты: Казанцев – гвардейский солдат в отставке – был один из агентов охранного отделения, которых Столыпин именовал „идейными добровольцами“, то есть такими лицами, которые занимались делами секретной полиции, охраной или убийствами тех лиц, которых они считали левыми и вообще опасными для реакционного течения.
Казанцев принимал участие в убийстве Герценштейна в Финляндии, совершенном агентами охранного отделения и агентами «Союза русского народа», который в то время слился с охранным отделением так, что трудно было найти, провести черту, где кончаются агенты секретной полиции, охранного отделения и где начинаются деятели так называемого «Союза русского народа», действующего в Петербурге под главным начальством доктора Дуброва, а в Москве – Грингмута, затем, после его смерти, протоиерея Восторгова.
Убийство Герценштейна произведено под главным начальством доктора Дубровина агентами полиции и «союзниками». Затем у главы «Союза русского народа» явилась мысль убить и меня. Об этом вопросе было обсуждение между главными «союзниками»; об этом, вероятно, знал и градоначальник Лауниц. Пресловутый князь М. М. Андронников note 2Note2
видимо, М. Андронников дал эту телеграмму с санкции Столыпина, чтобы вообще воспрепятствовать возвращению Витте в Россию. – Ю. С.
[Закрыть], конечно, втерся в «Союз русского народа» и к Дубровину, и к Лауницу, и так как он у них узнал, что в случае если я возвращусь в Россию, то меня убьют, то и дал мне телеграмму в Париж, чтобы я не возвращался.
Секретарь доктора Дубровина Пруссаков, который затем рассорился с Дубровиным и дал показание судебному следователю, указал, что Дубровин говорил своим сотрудникам о необходимости меня убить и, главное, овладеть документами, которыми я обладал и которые находятся у меня в доме, что будто бы (чему я не верю) на необходимость уничтожить все находящиеся у меня документы имеется высочайшее повеление государя, ему переданное.
Таким образом, Дубровин очень интересовался и науськивал некоторых лиц на то, чтобы меня убить и овладеть моим домом или его разорить. Из следствия видно, что исполнение этой задачи взяли на себя не Дубровин и петербургские «союзники», а почли более удобным поручить это дело московским «союзникам», а Казанцева, который участвовал в убийстве Герценштейна, командировать для этого в Москву.
В Москве Казанцев поступил под главенство графа Буксгевдена, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, и сделался как бы управляющим его домом, хотя его домом, собственно, не занимался, а имел какую-то кузницу около Москвы, где, между прочим, и изготовлялись различные снаряды.
Таким образом, ясно, что петербургская боевая дружина, находящаяся в главном распоряжении Дубровина, Не решилась совершить на меня покушение, боясь, что сейчас же будет открыта, и для отвода глаз это поручение передала в Москву. В дальнейшем главную роль играли: граф Буксгевден, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, и агент охранного отделения и вместе с тем член «Союза русского народа» и монархических крайних московских партий Казанцев.
Казанцев приобрел некоего Федорова; Федоров был искренним революционером, анархистом, хотя рабочим; по умственным способностям полукретин; затем другого рабочего, тоже крайне левого направления, Степанова.
Из Москвы экспедиция, состоящая из этих трех лиц, приехала в Петербург, остановилась в меблированных комнатах, находящихся близ Невского проспекта, в самом центре города. Затем, очевидно, Казанцев имел сношения и с здешними крайне правыми группами, а именно с Дубровиным, а также и с группой «Михаила Архангела».
Эти лица, вероятно, адские машины получили от некоего Казаринова, поэтому Казаринов, интересуясь, какое разрушение произведут эти машины, и поселился против моего дома в меблированных комнатах.
29 января они через соседний дом Лидваля прошли, поднялись там на крышу сарая, с этой крыши пролезли на крышу моего дома, где помещаются кухни и людские, а оттуда влезли на крышу моего главного фасада и заложили адские машины; очевидно, они ожидали взрыва в 9 часов вечера, но взрыв не последовал. Так как взрыв не последовал, то из следствия видно, что на другой день тот же самый Федоров был отправлен к моему дому утром и должен был влезть опять тем же путем на крышу и бросить в эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адские машины и тем произвести взрыв, но когда он подходил к дому, то его предупредил Казаринов, что все раскрыто, машины из труб вынуты, и эти лица с огорчением возвратились в Москву, причем Федорову и Степанову было внушено, что я должен быть убит по решению главы революционно-анархической партии как крайний ретроград, который подавил революцию.
Приехавши в Москву, как показывает следствие, тот же самый Федоров под руководством Казанцева убил депутата I Государственной думы и одного из редакторов «Русских ведомостей» Иоллоса. Совершив это убийство, они изготовили бомбы и приехали в Петербург для того, чтобы бросить мне бомбу, когда я буду ехать на улице-Из того же следствия видно, что в Москве всем этим руководил чиновник при московском генерал-губернаторе граф Буксгевден и что он, Буксгевден, когда Казанцев должен был совершить через Федорова мое уничтожение, приезжал в это время в Петербург.
Я Буксгевдена лично не знаю, по рассказу же бывшего московского генерал-губернатора Дубасова и его супруги граф Буксгевден представляет собою на вид человека очень скромного, сам он состояния не имеет, но его жена имеет, и человек он более нежели ограниченный, весьма серый…
Когда вторично приехал сюда Казанцев вместе с Федоровым и Степановым, то тогда уже была II Государственная дума открыта, и Степанов сказал некоторым из членов Думы крайне левой партии о причинах, почему они приехали и затем как они убили Иоллоса.
Эта партия, крайне левая, всполошилась и объяснила Федорову и Степанову, что они являются игрушками в руках черносотенцев, что Иоллос убит по постановлению черносотенной партии их руками. Казанцев уверил Федорова, что Иоллоса нужно было убить, потому что Иоллос похитил значительные суммы денег, которые были собраны на революцию.
Вследствие такого разоблачения Федоров решил убить Казанцева, чтобы отомстить ему за его обман. Поскольку было решено бросить мне бомбу, когда я отправлюсь в Государственный совет, то 29 мая они поехали недалеко от Пороховых начинить взрывчатым веществом бомбу, которую привезли с собою из Москвы. В то время, когда Казанцев начинял эту бомбу, Федоров подошел к нему сзади и кинжалом его убил, прободав ему горло. Таким образом, бог спас меня и вторично.
Так как Казанцев был агентом охранного отделения, для меня несомненно, что все, что он делал, было известно и петербургскому охранному отделению, и «Союзу русского народа», и когда он был убит, то полиция сейчас же узнала, кто убит, тем не менее полиция сделала так, как будто убит неизвестный человек, и дала время, чтобы Федоров и Степанов могли скрыться, потому что, очевидно, если бы они были арестованы, то все дела были бы раскрыты и было бы раскрыто, откуда было направлено покушение на мою жизнь.
Федоров и Степанов скрылись. (Степанов скрылся где-то в России и до сих пор, вероятно, находится в России, но полиция во время Столыпина все время делала вид, как будто она его найти не может.) А Федоров перебрался через финляндскую границу в Париж и там сделал все разоблачения.
… Вследствие моих настояний судебный следователь потребовал от Франции возвращения Федорова; я настаивал на том перед министром юстиции. Наконец после долгих промедлений, Федоров был потребован, но французское правительство Федорова не выдало, и когда я был в Париже и спрашивал правительство о причинах, то мне было сказано, что Федоров обвиняется в политическом убийстве, а по существующим условиям международного права виновные в политических убийствах не выдаются; но при этом прибавили: конечно мы бы Федорова выдали ввиду того уважения, которое во Франции мы к вам питаем, тем более что Федоров в конце концов является все-таки простым убийцей, но мы этого не сделаем, потому что, с одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а с другой стороны, словесно нам передает, что было бы приятно, если бы наше требование не исполнили.
Я знал, что правительство будет отказываться, что Казанцев есть агент охранного отделения, и поэтому старался иметь в руках к этому доказательства. Сколько раз я ни обращался к судебному следователю, но он по этому предмету не делал никаких решительных шагов, он все требовал от охранного отделения и от директора департамента полиции, чтобы ему дали ту записку, которую я получил после того, как у меня были заложены адские машины, в которой меня уведомляли, что от меня требуют 5 тыс. руб. и что в противном случае на меня будет сделано второе покушение, именно ту записку, которую я имел неосторожность передать директору департамента полиции. На все его требования этой записки он не получал под тем или другим предлогом.
Наконец я вмешался в это дело, писал директору департамента полиции, просил вернуть записку; директор департамента полиции долго не отвечал и потом ответил, что он эту записку передал в охранное отделение, а там ее найти не могут.
Перед самым окончанием следствия судебный следователь Александров получил явное доказательство, что Казанцев есть агент охранного отделения, и так как он, видимо, был вынужден вести все следствие таким образом, чтобы свести на нет, то, вероятно, из угрызения совести, в последний раз, когда он у меня был, он мне показал фотографический снимок записки и спросил, та ли это записка, которую я послал директору департамента полиции и в которой требовалось от меня 5 тысяч рублей. Я посмотрел и говорю: «Та самая, где это вы эту записку постали? » Он мне сказал буквально следующее: «У меня есть другое дело, дело не политическое, и мне нужен был почерк одного агента сыскного отделения петербургского градоначальства; поэтому я пошел в это отделение, чтобы попросить образец почерка этого агента сыскного отделения. На это заведующий архивом отделения сказал: „У нас здесь есть почерки всех агентов, как сыскного, так и охранного отделения, так как при Лаунице охранное и сыскное отделения были слиты, и вот если хотите, то можете поискать в этих шкафах“.
Я взял, достал почерк этого агента сыскного отделения, а потом мне пришло в голову: «А посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева». Посмотрел на букву К., Казанцев. Затем взял образец почерка, и вот этот образец есть то, что я вам показываю. Я обратился к заведующему архивом и спросил его: «Чей же это почерк? » Он говорит: «Это известного агента охранного отделения Казанцева, который был убит Федоровым».
Я попросил судебного следователя, не может ли он мне оставить на несколько часов этот образец. Он оставил, и я, со своей стороны, снял фотографический снимок с этой записки. Таким образом, я получил более или менее материальное удостоверение того, что Казанцев есть агент охранного отделения.
Из всего мною изложенного очевидно, что покушение, готовившееся на меня и на всех живущих в моем доме, делалось, с одной стороны, агентами крайне правых партий, а с другой стороны, агентами правительства, и если я остался цел, то исключительно благодаря судьбе.
Когда судебный следователь сделал постановление о прекращении следствия, то я написал письмо к главе правительства Столыпину 3 мая 1910 года, в котором ему изложил, в чем дело, выставил все безобразие поведения правительственных властей, как судебных, так и административных, указал на то, что при таких условиях естественно, что высшее правительство стремилось к тому, чтобы все это дело привести к нулю, и в заключение выразил надежду, что он примет меры к прекращению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству и политическим партиям, руководимых лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами, и этим избавит и других государственных деятелей от того тяжелого положения, в которое я был поставлен. Письмо это было составлено известным присяжным поверенным Рейнботом, и мне принадлежит только общая идея этого письма и в некоторых местах его стиль. Ранее, нежели послать это письмо, я его передал, одновременно и все трехтомное дело о покушении на меня, таким юристам, как члены Государственного совета – Кони, Таганцев, Манухин, граф Пален. Все они признали что письмо, с точки зрения фактической и с точки зрения наших законов, совершенно правильно и что, может быть, только стиль несколько ядовитый, но что это дело уже лично мое.
Столыпин, получив это письмо, был совершенно озадачен; он, встретясь со мною в Государственном совете, подошел ко мне со следующими словами: «Я, граф, получил от вас письмо, которое меня крайне встревожило». Я ему сказал: «Я вам советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются все документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано, что я ранее, нежели посылать это письмо, давал его на обсуждение первоклассным юристам и, между прочим, такому компетентному лицу, престарелому государственному деятелю, как граф Пален».
На это Столыпин ответил: «Да, но ведь граф Пален выживший из ума». Этот ответ показывает степень морального мышления главы правительства. И затем он раздраженным тоном сказал мне: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно, то есть идиот ли я или же я участвовал тоже в покушении на вашу жизнь? » На это я Столыпину ответил: «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос».
Затем я уехал за границу и несколько времени никакого ответа от Столыпина не получал, и уж когда я вернулся в Петербург, то через семь месяцев получил от него ответ, весьма наглый, на мое письмо. В этом ответе – это было письмо от 12 декабря 1910 года – он самым бесцеремонным образом отвергает некоторые факты и входит в довольно наглые инсинуации.
Я не преминул дать ему подобающий ответ, ответ весьма жестокий, но вполне им заслуженный, но в котором в заключение я высказал, что так как, очевидно, между главою правительства, министром юстиции и мною по этому предмету существуют разногласия, то я прошу, чтобы все это дело было поручено рассмотреть кому-нибудь из членов Государственного совета – сенаторов, юристов, близко знакомых со всем следственным делом, для того чтобы они высказали – кто из нас прав: я ли, утверждая, что все следствие было сделано с пристрастным участием агентов правительства и что следствие было ведено для того, чтобы прикрыть все это, или же он, Столыпин, и его министр юстиции Щегловитов, который утверждает противное, а именно, что правительство здесь ни при чем. Я перечислил тех членов Государственного совета, которым я просил бы передать это дело для дачи заключения его величеству. Перечислил я лиц всех партий, и крайне правых, и крайне левых, так как для меня безразлично, кто будет производить это рассмотрение, ибо каждый из них не мог бы прийти к иному заключению, чем к какому я пришел, потому что каждый из этих лиц – член Государственного совета и при каких бы то ни было политических разногласиях и личных чувствах в отношении ко мне никто бы не уронил себя до такой степени, чтобы не признать того, что я утверждаю, так как это вытекает математически из всего обширного дела, у меня имеющегося.
Должен сказать, что как первое письмо, так и ответ Столыпина и второе письмо обсуждались в Совете министров. Через некоторое время после моего второго письма я получил краткий ответ от главы правительства, в котором он меня уведомлял, что, мол, он докладывал мою просьбу о поручении расследовать дело кому-нибудь из сенаторов, что его величеству благоугодно было самому этим делом заняться и что, рассмотрев все дело, его величество положил резолюцию, что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной.
Само собой разумеется, что его величество, ни по своей компетенции в судебных делах, ни по времени, которое он имеет в своем распоряжении, не мог рассмотреть и вникнуть в дело, и эта резолюция его величества, которая, очевидно, написана по желанию Столыпина, показывает, как Столыпин мало оберегает государя и в какое удивительное, если не сказать более, положение он его, государя, ставит».
… Это – в поддых: ни Петру Аркадьевичу – коли даже выскользнет – не оправиться, ни тем, кто наверняка станет курить ему фимиам, ежели рука провидения все-таки покарает его…
Курлов документы спрятал в сейф, подумав при этом – отчего-то с тихой грустью: «Народ – беспамятен; главное, если мы Петра свалим, продержать спокойствие недели две-три, потом людишкам все надоест, да и другой скандал можно подбросить для куражу… Дело Бейлиса в кармане. Победителей помнят, про-игравшие подвержены безусловному забвению… »
«В работе главное – „поспешать с промедлением“
От Ниццы до Сан-Поль-де-Ванса дорога была ужасна, размыта весенним дождем; экипаж заносило то вправо, то влево, возница ругался по-испански и до того витиевато, что казалось, он не знает никаких других слов, кроме отборной брани.
– Когда подсохнет? – спросил Богров. – Когда начнется тепло?
– Сучий климат, – ответил возница, – дерьмовое захолустье, здесь никогда не бывает солнца, настоящее солнце бывает только в Мадриде, мать его так и разэдак… Навыдумывали себе, Лазурный берег, ах, Лазурный берег, дерьмовый берег, говенный климат, не страна, а балаган!
– Чего ж вы тогда здесь живете!
– Разве я живу, проклятье! Я работаю! Я работаю волом! Живут только в Испании, нигде больше не живут…
– Ну и езжайте себе в Испанию!
– А там нельзя получить лицензию на экипаж! Замучают по муниципалитетам, проклятые мадрильеньяс! Чиновники – все как один – твари! Продажные, мерзкие твари! Не люди, а червяки! Скорей бы скопить денег и вернуться…
– Так ругаете страну, а все равно хотите возвратиться в Мадрид?
– Так я же испанец! Каждый по отдельности испанец – великий человек, истый кабальеро, а все вместе – один большой бордель… Это так бывает с некоторыми народами… Вон, французы, каждый – скот и прощелыга, а все вместе – великая страна! Так бывает, ничего не попишешь… У меня подруга француженка… Ни одного испанского слова учить не хочет, ночью ласкается, говорит свои томности на французском, а я по-испански хочу! Как через стекло целуешься!
… На маленькой средневековой площади, возле арки, Богров сказал вознице остановиться, обещал вернуться через час, посулил хорошо заплатить за простой.
– Я не знаю, что такое «хорошо оплачу»! Сколько? В этой паршивой стране надо требовать точности! Сколько уплатите?
– Назовите сумму, я оставлю задаток.
– Испанцы не берут задатков! Испанец верит слову кабальеро! Идите, я стану ждать…
… Богров легко нашел ресторанчик, про который ему сказали по телефону, сел к окну; по стеклу наперегонки, будто слезы по щекам бабушки, катились быстрые струйки дождя; положил перед собою, как его и просили, книгу Жорж Санд, заказал кофе и только после этого обвел глазами посетителей: возле стойки беседовали два местных крестьянина, пили вино из бутылки темного стекла; вино было розовым, солнечным, цвет его казался противоестественным, потому что лил дождь и небо было низким, серым, ватным, пронизанным сыростью.
«Очень хочется лета, – подумал Богров. – Мечтаю о жаре, когда пот струится по спине, вдоль позвоночника; впрочем, люди ругают существующее, не понимая, что это – самое прекрасное, что может быть».
Богров достал из кармана часы, посмотрел на стрелки – время встречи.
Щеколдин пришел с опозданием в две минуты, устроился за столиком, у входа, где стояла вешалка, заказал себе спагетти по-неаполитански, полбутылки «Розе» и крестьянского сыру. Лишь после этого оглянулся, задержал взгляд на книге Жорж Санд, улыбнулся Богрову и спросил:
– Не откажите в любезности глянуть на ваш томик, я этого издания не видел.
– Любопытное парижское издание, – ответил Богров словами пароля, – с прелестными иллюстрациями художника, мне неведомого.
Поднявшись, он взял свой кофе, книгу и пересел за столик к Щеколдину.
– Ну, теперь давайте знакомиться по-настоящему, – хмуро улыбнувшись своей скорбной, располагающей улыбой, сказал Щеколдин, – я замещаю в боевой организации Николая Яковлевича, в его отсутствие обращайтесь ко мне именно так: «Николай Яковлевич»…
– Хорошо.
– Как отдыхаете?
– Я не отдыхаю, Николай Яковлевич, – ответил Богров. – Сейчас не время для отдыха, сейчас время для раздумья, для того, чтобы принять решение, окончательное – для каждого честного человека – решение.
– Будто в Петербурге нельзя думать, – снова усмехнулся Щеколдин. – Или в вашем родном Киеве… Ваш отец, кстати, сколько зарабатывает в год?
– Много.
– Это не ответ, товарищ Богров.
– Более пятидесяти тысяч, мне кажется.
Щеколдин знал от Кулябко, что Григорий Григорьевич Богров зарабатывает чуть менее двухсот тысяч, и Богрову-сыну это известно, он несколько раз выполнял посреднические функции по оформлению сделок на продажу помп – юридическую сторону контракта гарантировала адвокатская фирма отца.
– Как он относится к вашей революционной деятельности?
– Резко отрицательно.
– А ваш патрон Кальманович?
– Он не знает толком о том, что я думаю.
– Но ведь он помогает нашим товарищам, разве нет?
– Это вполне легальная помощь, он ведет политические процессы, вам это известно лучше, чем мне.
– Он вам доводится свояком?
– Десятая вода на киселе, Николай Яковлевич.
Щеколдин отметил и эту ложь Богрова: ему было прекрасно известно от Кулябко, что Кальманович не только вел политические процессы, не только помогал партии финансово, но и давал в своем доме убежище социалистам-революционерам.
– А разве Фриду Розенталь он у себя не прятал? – ударил Щеколдин.
– Помните, из летучего боевого отряда?
– Первый раз слышу.
Фриду Розенталь выдал охранке он, Богров; девушка повесилась в Акатуе после того, как была изнасилована тюремщиками и заболела сифилисом.
– Что ж, значит, товарищ Кальманович настоящий конспиратор, – заметил Щеколдин. – Он не посвящает вас во все свои дела. Отчего? Только ли потому, что свято блюдет партийную дисциплину? Или у него есть основание не до конца доверять вам?
Богров ответил не сразу – он просчитывал, как лучше оступить: обидеться, сыграть недоумение или пустить в ход свое обаяние и юмор. Стремительная логика провокатора подсказала ему, что обижаться сейчас нельзя: вдруг Николай Яковлевич поднимется и уйдет? Тогда комбинация, коронная его комбинация с вхождением в боевую группу террора, провалится. Недоумение не прозвучит, боевики – люди однозначные, они штучек не принимают, это с Кулябко можно играть, охранка – сентиментальна, агента бережет, где их сейчас найдешь, особенно из мира интеллигенции?!
– Куда уж доверять мне, – усмехнулся Богров, остановившись на «версии юмора». – Барич, жид крещеный – что конь леченый, горя не хлебал, побегов с каторги не имеет…
– Вы плохо ответили мне, – сказал Щеколдин. – Не рекомендуй вас достойные товарищи, я бы мог заподозрить в вас двойное дно.
Богров дрогнул, не сдержался:
– Что вы подразумеваете под «двойным дном»?
– То самое, – еще круче нажал Щеколдин.
– Вы не имеете права оскорблять меня такого рода подозрением.
– Ответьте мне, – словно бы пропустив слова Богрова, гнул свое Щеколдин, – при каких обстоятельствах была арестована киевская группа анархистов-интернационалистов-коммунистов во главе с товарищами Рощиным и Нечитайло?
– Я думаю, их выдал провокатор.
Выдал их он, Богров. Именно поэтому вариант ответа был у него готов, выверен интонационно, мотивирован.
– Вы были членом этой группы?
– Да.
– Значит, вы знаете всех, кто входил в организацию?
– Почти. За полгода перед провалом мы разбились на пятерки.
– У вас есть подозрения на кого-либо?
– Нет.
– Кто избежал ареста?
– Я, в частности.
– Чем вы это объясните?
– Благородством моих товарищей по борьбе с самодержавием. Никто из них не назвал меня.
– Кого еще не взяли?
– Не знаю… Точно – во всяком случае – не знаю… Кажется два человека из пятерки Нечитайло ушли благополучно за границу…
– Их имена вам известны?
– Нет.
– У вас в организации было обговорено заранее, чем карается предательство?
– Нет… Это, по-моему, само собою разумеется.
Щеколдин покачал головой:
– Отнюдь. Товарищи социал-демократы ограничиваются тем, что оповещают в своей прессе о провокаторстве открытого ими агента охранки и предупреждают остальных от общения с выродком… Мы же, как вам, должно быть, известно, караем измену смертью… Вы знаете об этом?
– Я слыхал… Но кое-кто ушел от возмездия, Николай Яковлевич.
– Татаров не ушел. Лысков не ушел. Потапчук не ушел. Гринберг не ушел… Никто никуда не денется, вопрос времени… Вы, кстати, готовы к тому, чтобы – в случае, если мы примем ваше предложение о терроре, – подписать добровольное обязательство казнить провокатора, коли в этом возникнет нужда?
– Конечно.
– Как, по-вашему, товарищ Богров, кто сейчас в России является самым главным врагом революции?
– Министр юстиции… Щегловитов…
– А отчего не царь? – медленно приблизившись к Богрову, прошептал Щеколдин. – Вы боитесь поднять руку на царя, Дмитрий Григорьевич?
– Я… Я не боюсь поднять на него руку… Но это…
Щеколдин откинулся на спинку стула, усмехнулся:
– Вы готовы на смерть, товарищ Богров? Или думаете, что вам удастся избежать ареста сатрапов после центрального акта?
– Конечно, я мечтал бы избежать ареста, Николай Яковлевич, я не смею лгать… Но, полагаю, коли чаша смерти уготована мне, я найду в себе силы испить ее достойно.
– Почему вы назвали Щегловитова, а не Столыпина?
– Потому что Столыпин… Его так охраняют после всех покушений… Столыпин есть Столыпин.
– А вы готовы к тому, чтобы убить его?
– Да, если партия социалистов-революционеров, истинно народная партия, возьмет этот акт на себя, научит меня действию, организует слежение за премьером, выделит мне помощников и руководителя, продумает вопрос возможного спасения…
– Партия не приемлет такого положения, при котором ей ставят условия, товарищ Богров: однозначное «да» или «нет», «готов» или «не могу».
– Я ведь сам искал вас, Николай Яковлевич, я сам просил Егора Егоровича устроить мне встречу с вами…
– Молодость, порыв, желание революционного аффекта, всяко бывает… В казино часто играете?
– Ни разу не играл…
– Зря. Сегодня в девять встретимся у входа… Успеете добраться до Монте-Карло?
– Ежели дождь кончится…
– Хорошо… В девять… Меня не ищите, я сам вас найду.
– До встречи, Николай Яковлевич, – ответил Богров.
Он успел приехать к девяти, постоял возле входа, освещенного ярким светом газовых фонарей; Николая Яковлевича не было; по-прежнему моросил дождь, словно бы процеженный сквозь сито; воробьи, однако, гомонили совсем по-летнему, как в мае на Крещатике; пошел через мокрый парк в кафе, заказал перно, выпил, не разбавляя водою, ощутил во рту вкус и запах мятных капель – как только французы хлещут эту гадость с утра и до вечера? «Откуда он узнал про выдачу Рощина? – в который уже раз спрашивал себя Богров, наново анализируя разговор с Николаем Яковлевичем. – Они ничего не могут знать обо мне, ведь я говорил только с Кулябко, рапорта в тот раз не писал, дело было срочное, вечером я рассказал, где будет сходка, а ночью всех взяли. Если бы родилось подозрение, оно бы родилось тогда, три года назад, а я потом встречался с Рощиным, после его побега, он no-прежнему верил мне, нет, нет, у них не может быть подозрений, Кулябко говорил, что если он узнает об опасности, грозящей мне от „товарищей“, то сразу предупредит, чтобы я мог скрыться… Если я доведу операцию с проникновением в террор до конца, тогда я стану первым… Кулябко прав. Хотя нет, это будет мое дело вместе с фон Коттеном, а не с Кулябко. Жаль, Кулябко более искренний человек, в нем нет барства, а Коттен все-таки сноб, хозяин… »
Богров вздрогнул, даже голову втянул от ужаса, когда ощутил у себя на плече тяжелую руку; стремительно обернулся: над ним стоял Щеколдин в мокром реглане; лицо доброе, глаза светятся улыбкой:
– Пошли, Дмитрий Григорьевич, простите, что припозднился, глядел, не топают ли за вами, тут ведь охранка тоже довольно игриво работает… Вы, к счастью, чистый, а для нашего дела, особенно будущего, какое вы предлагаете, сие – самое главное.
До казино добрались быстро; Щеколдин не произнес ни слова (ротмистр Асланов особенно отмечал в своем агенте прекрасную особенность: давить жертву не столько словом, сколько молчанием, средоточием, паузой).
Купив жетонов для игры в рулетку, Щеколдин спросил:
– У вас сколько денег с собою?
– Пятьдесят франков.
– Отец не субсидирует?
– Мне неприятно брать его деньги…
– Отчего?
– Покуда русский народ живет в нищете, стыдно барствовать.
– Барствуют иначе, Дмитрий Григорьевич… Покупайте жетоны, я хочу поглядеть вас в деле…
Они прошли в зал; было здесь сумрачно, низкие зеленые абажуры высвечивали одно лишь изумрудное сукно рулеток; было их здесь восемь, вокруг каждого стола тесно толпились люди; все вроде бы и молчали, однако в огромном зале слышался постоянный тревожный гул голосов, будто на бирже, за момент перед тем как начаться буму. Крупье восседал возле каждого стола как на троне, расставлял по номерам жетоны, словно дирижер, лихо манипулируя своей палочкой.








