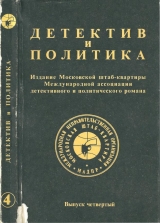
Текст книги "Синдром Гучкова"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Когда началась русско-турецкая война, сразу понял настроение народа – надобно помочь младшеньким братишкам-болгарам. Купил карту Бессарабии и Румынии, скопировал те места, где Скобелев перешел Прут, и напечатал за одну ночь. Карта разошлась в день. С этого дня Сытин сделался Сытиным – хозяином… А потом к нему, на Никольский уже рынок, пришел Чертков – от Толстого: "А отчего бы вам не перейти на серьезную литературу? Граф Толстой отдаст свои книги в подарок, без оплаты, только чтоб были дешевыми, для народа… А с его, толстовских, прибылей издадите Лескова, Короленку, Гарина…"
…К Гучкову в Петроград Сытин приехал сразу после пятидесятилетнего юбилея – не его личного, а Дела. Приехал одухотворенный, счастливый – создал «Общество для содействия улучшению и развитию книжного дела в России», купил землю в центре для первого в стране «Дома Книги», рассказал о своих планах: «Буду издавать, это, собрание сочинений Толстого, Лескова, Успенского, Гарина, Помяловского… У нас же к кому, это, прицепятся, ах, мол, гений, так и будут петь, что на клиросе… А тех, кто, может, и не первой величины, но большущего смыслу, тех, это, и не читают, моды нет… И Михаил Евграфыча издам: Салтыков провидец, у него дар Божий, и нет в нем, это, никакого ехидства, одна боль в нем, только он слезу прячет, мол, вроде бы смех в нем колышется… А чтоб коммерцию поддержать, издам бросовое, что на слуху… Плевако издам, Карабчевско-го… И вот думаю, это, Керенского защитные речи издать. Вы что по этому поводу думаете?»
Гучков слушал, как Сытин сыпал словами, храня говор стремительного мальчишки-офени, хотя уж и семьдесят, но за наигранной простотой (публично выступал блестяще, любому краснобаю фору даст) всегда скрывался вопрошающий интерес.
Сразу поняв, куда клонит патриарх русской книги, Гучков ответил, что задумка великолепна, он готов передать определенную сумму на бесплатные книги для увечных воинов и в лазареты, да и в окопе не грех получить настоящее русское слово, а не заумное кривлянье желтоблузников.
Про Маяковского я б, это, погодил, Александр Иванович, он не кривляется, он в истерике бьется от горя за страдания людские, ищет, как боль свою высказать… Пусть… Когда ж искать, как не в молодые годы? В старости поздно.
А "Хаджи-Мурат”? Или "Воскресение"? Их же граф стариком писал…
Сытин покачал головой:
– Он в старика игрался, Александр Иванович… С жизнью игрался, с людишками, царями… Он только Бога чтил, оттого как смерти больно страшился, считая ее несправедливою… Уж кого-кого, а писателя, это, издатель понимает, как словно мать – дитя…
– Часто с ним видались?
Сытин удивился:,
– Да мне и видеть его не надо… Я, это, его читал с очками на носу, каждую строчку по пять раз – где буква вылете ла, где наборщик лишнюю запятую сунул. Лев Николаич точность формы свято чтил… Он отчего пастернаковские рисунки так нахваливал? Оттого, что Ленечка в форме – абсолют. Ничего лишнего, и все – изнутра… Чтоб там чего прикрасить, по нерву стукнуть – ни-ни… Спокойно вроде б все, а под им, это, колышет, как в кратере, буль-буль-буль… Не вода – лава… Сына его стихи смотрел, Боречка Пастернак, славный такой, застенчивый, но, это, не про наш день пишет, он всебейный… Издам, глядишь…
Гучков ждал, как Сытин вернется к книге Керенского; тот, в свою очередь, попивал чаек и продолжал говорить о Деле.
Только поздним вечером, когда часы пробили одиннадцать, хлопнул себя по лбу:
– Ах, господи, запамятовал совсем… Как было бы здорово, коли б вы, это, именно вы, написали вступление к книжонке Керенского: "хоть, мол, и по разные стороны, но в одной Думе заседаем…"
Гучков ответил не сразу; вопрос был не простым, старик умел щупать, да и ко мнению его прислушивается вся литературная общественность, надо ухо держать востро…
– Я бы написал, Иван Дмитриевич, да со временем туго… Как понимаете, страха во мне нет, опальный, мосты сожжены, однако послезавтра уезжаю по фронтам, а когда вернусь – один бог ведает… Да и нужно ли ему мое введение?
И Сытин ответил грустно:
– Ему – нет. Вам – очень.
С этим и откланялся…
Гучков и сам понимал, как ему было нужно такое предисловие: мудрый старик хотел единения всех тех, кто страдал сердцем по России. Но ведь Гучков знал, что, когда Керенского спросили, что было его первым потрясением в жизни, он ответил: «Казнь студента Александра Ульянова; его брата, Володю – он теперь Ленин, учился в папиной гимназии, – видал часто…» А второй раз Керенский плакал от бессильного гнева, когда услышал от отца слова императора Александра Третьего: «Мужики, а туда же лезут – учиться в гимназии».
Гучков знал, что имя себе Александр Федорович сделал на защите армянских эсеров, членов партии "Дашнакцутюн"; потом высверкнул при защите Бейлиса, вместе с самыми лучшими русскими адвокатами и Короленко; был приговорен за это к тюрьме; когда случился Ленский расстрел, самолично отправился в Сибирь, написал книгу об этой трагедии; в свет она не вышла, государь приказал конфисковать ее…
Защищал большевиков, членов четвертой Думы… Снова прогремел на всю Россию…
Одна из недавних речей его потрясла Гучкова. Невзирая на постоянный колокольчик в руке председателя Родзянко, неистовый правозаступник прямо-таки кричал в залу Таврического дворца:
– Нам говорят, что "виновато правительство". Нет! Наше правительство – это тени, которых сюда приводят! А кто их сюда приводит?!
(Гучков при этих словах Керенского зааплодировал.)
– Где реальная власть, которая ведет страну к гибели?! – продолжал между тем Керенский. – Не в мелких людишках, наших министрах, дело! Надо сыскать их хозяина! Того, который приводит их сюда, на наши заседания, в отведенные им ряды! Сколько погибло этих несчастных людишек-министров, расплачиваясь за чужие грехи?!
В зале стало так тихо, что сделалось немного страшно, как перед шквалом.
– По своим политическим убеждениям я разделяю мнение партии, которая ставила на своем знамени возможность террора! Я принадлежу к партии эсеров, которая открыто признавала возможность цареубийства!
Дума молчала, потрясенная; снова зазвонил Родзянко:
– Депутат Керенский, не занимайте нас изложением программы своей партии, ибо это дает возможность обвинить Думу в том, о чем вы говорите!
Керенский немедленно парировал:
– Я говорю то, что говорил в сенате гражданин Брут во времена, когда республике угрожала имперская тирания! И вместе с тем я категорически отрицаю террористические методы борьбы против несчастных, мало в чем повинных министров, исполняющих чужую волю! Нельзя прикрывать свое бездействие исполнением закона, когда наши общие враги каждый день издеваются над законом! А с нарушителями закона есть только одно средство борьбы – их физическое устранение!
Господи, как же он прав, подумал тогда Гучков; он может позволить себе говорить открыто, а я – нет. Но он – говорит, я – действую.
(Через несколько месяцев, уволенный уже из Временного правительства, Гучков встретился в Москве, во время августовского демократического совещания, с генералом Корниловым, своим первым главкомом столичного гарнизона. Ясно, что Керенский, взяв власть, сразу же убрал его из Петрограда на фронт; в Москве, на совещании Лавр Георгиевич требовал только одного – "железной дисциплины”; ему аплодировали; через четыре дня он поднял войска против Керенского, перемолвившись предварительно несколькими фразами с Гучковым перед отъездом из Первопрестольной. Большевики тогда вышли из подполья, сомкнулись с Керенским для разгрома Корнилова. "Мы не умеем считать, – сказал тогда себе Гучков, – не только копейки, но время, в котором лишь и выявляется судьбоносная целесообразность".
…Гучков снова оглядел собравшихся, заметил, сколь бледны лица этих разных, во многом непонятных ему людей, отметил (кроме бобрика) сверкание глаз и нездорово-чахоточный румянец на скулах Керенского, подивился выдержке и самообладанию Милюкова словно бы чайку зашел выпить – и поэтому обратился именно к нему: – Павел Николаевич, ваше мнение…
Тот, пожав острыми плечиками, нахохлился:
– Надобно срочно выработать общую платформу… Посему попробую примирить все точки зрения. Итак, правительственная власть изжила себя. Единственная реальная сила, которая может заменить парализованное правительство, – Государственная дума, то есть мы. В ней, слава Богу, представлены все направления общественной мысли России: от крайне левых социалистов-революционеров до правого крыла партии октябристов… Националисты, выродившиеся в погромных черносотенцев, не в счет, с ними народ перестал считаться; как психически больные, они поносят всех и вся, однако не предлагают ничего реального. Они лишены интеллигентного ядра, поэтому их плаксивые причитания по поводу "народа-страдальца" никого более не трогают. Всех волнует – "что делать"? Мне сдается, что Дума стала средостением всех классов и слоев нашего многострадального общества. Дума, и только Дума, должна сформулировать те лозунги, которые выдвинет мирная демонстрация, что соберется у Таврического дворца. В этом свете вычленять из общедемократического процесса позицию одного лишь рабочего класса я считал бы нереальным. Это разъединение, а власть всегда била своих врагов поодиночке.
Керенский взорвался:
– Господин Милюков, министр Протопопов бросил рабочих людей в каземат! Арестованы труженики, которые выражают волю класса, несущего главное бремя войны! А вы предлагаете нам молчать, ничего не предпринимая без согласия Думы?! Каждая минута в каземате равна годам на воле! Мне странно и горько слушать вас, Павел Николаевич! Я никогда не был поклонником большевиков, но я считал своим долгом защищать в суде именно депутатов-большевиков, потому что они говорили в Думе то, что почитали своим долгом говорить: выборочной демократии, угодной мне или вам, не существует! Демократия многомерна и принимает все точки зрения, кроме черносотенных!
– Не далее как неделю назад я читал листовку эсеров, – ухмыльнулся Милюков, – арестованного рабочего Гвоздева там клеймили наравне с изменником Гучковым…
– Господа, – сказал Набоков, – сейчас не время для пререканий, хотя политическая борьба и предполагает эмоциональные срывы… Нам не надо бы пикироваться, ситуация слишком трудна, право…
Гучков кивнул, согласившись с Набоковым, приглашая взглядом высказываться каждого.
Чхеидзе поддержал Керенского:
– Павел Николаевич, вы рискуете оказаться в хвосте событий. Мы не вправе позволять царю и Протопопову творить произвол, бросая в тюрьму представителей рабочего класса, какую бы линию они ни вели. Ваша тактика – если это стратегия, то мы ее не примем – намеренно отделяет рабочий класс от общенародного демократического движения. Что ж, рабочий класс достаточно силен и организован, чтобы выступить под своими лозунгами, как предлагают товарищи большевики: не демонстрация в поддержку Думы к Таврическому дворцу, а к Зимнему, с чисто рабочим лозунгом против террора самодержавия…
Абросимова словно подбросило со стула:
– Я, как член "рабочей комиссии", говорю гражданину Милюкову прямо и открыто, по-нашему, трудовому, в глаза: демагогия это! Вы боитесь бросить вызов самодержавию! Что ж, мы это сделаем сами, без вас!
Набоков закурил.
– Павел Николаевич, при всем моем к вам почтении – вы и Гучков патриархи демократического движения России – я должен с вами не согласиться. Более того, я бы поддержал господина Абросимова… Да, да, поддержал бы… Не опасайся я лишь одного: демонстрация рабочих к Зимнему будет расстреляна…
– Войска стрелять не станут, – заметил Гучков. – Я держу руку на пульсе армейских дел… Но разделять движение – в этом я согласен с господином Чхеидзе – нецелесообразно… Только общее может возобладать над коррумпированной, некомпетентной властью…
Сошлись на том, чтобы провести консультации, прежде чем выработать единую программу.
Абросимов, плюнув под ноги, махнул рукой на собравшихся и демонстративно покинул собрание…
(В это же время государыня писала Его Величеству в Ставку о том, что в северной столице заметны признаки "чисто хулиганского движения; мальчишки и девчонки бегают по улице и кричат, что нет хлеба'^…
Она плохо знала историю: накануне Французской революции мадам Помпадур соизволила поинтересоваться, отчего по улицам бегает чернь; ей ответили, что чернь требует хлеба, коего нет; могучая фаворитка соизволила на это заметить: "Если нет хлеба, пусть едят пирожные".
Именно эта фраза стоила ей головы – революция, рожденная тупоумием власти, мстит гильотиной.)
…Путилов аж смеялся от злости:
– Завтра вызывают в министерство юстиции, Александр Иванович. Если, говорят, не сойдемся, – будете ответствовать в суде по всей строгости закона военного времени.
Гучков потер затылок – ломило до звона в ушах; давление поднялось, спать удается не более пяти часов в сутки; увы, не Наполеон, веки тяжелели к полудню, становясь свинцовыми; держался настойкою женьшеня, чуть бодрило.
– В чем дело? – спросил устало: перед Путиловым не надо играть бодрость и хорохористость, свой до самой последней капельки, так же думает, так же чувствует – братство.
– Я поставил новую линию, металла идет меньше, экономия, снаряды даю быстрее, качеством надежнее, так вот, оказывается, я преступно не провел "обязательное в таком случае утверждение "тфэо" – технико-финансовоэкономического обеспечения. А я знал, что это самое "тфэо" займет полгода: согласовать надобно в министерстве промышленности – там три департамента; в банке; военном министерстве – два департамента; министерстве финансов – три департамента; министерстве путей сообщения – три… Ведомство пожарных, канализации, инспекция водного надзора… Пять столоначальников в каждом; это чертово "тфэо" каждый столоначальник обязан завизировать, внеся свои коррективы, отправить коллегам в другие министерства, все увязать с ними, а уж потом я должен перед ними защищать свой проект! А на фронте снарядов нет! А я их даю! И за это должен идти под суд!
Гучков потер затылок, вздохнул.
– Вас это удивляет? Должны б привыкнуть к российской действительности. "Мировую" предлагают? Наверняка предложат. Ну и соглашайтесь, черт с ними…
– Мировая – это значит остановка линии, Александр Иванович. Соглашаться?
Гучков чуть не простонал:
– Если б я не был православным, право б, застрелился… Но страшно: на кладбище не похоронят…
– А во мне вызрело столько ненависти, что я не стреляться хочу, но стрелять… Великий князь Гавриил, когда я ему сказал об этом, попросив устроить встречу с государем, ответил: "Вы не удостоитесь высочайшей аудиенции, к сожалению. Он сейчас никого не принимает"… Не я один готов стрелять, Александр Иванович. Вы бы, думаю, тоже не отказались убрать дурака, а уж потом пустить себе пулю в лоб.
– В сердце, – твердо ответил Гучков. – Я слишком явственно представляю, как мои рыже-кровавые мозги разнесет по стене, столу и ковру… Стрелять готов лишь в сердце… Даже боли не будет… И эстетично… Кстати, какого числа великий князь говорил с вами?
– Пятого, когда обедали у Павла Николаевича.
– А седьмого я уж слыхал об этом обеде. Значит, Протопопов донес государю шестого утром. Язык, язык, язык – вот она, болезнь наша…
– Не будь цензуры, языкам бы места не было: все печатаем в прессе, читайте, домыслы сами по себе умрут…
Гучков зло хохотнул:
– Любопытно, в какой из демократических стран возможно напечатать в прессе разговор родственника главы государства с другими заговорщиками о том, как и когда главу этого самого государства пристрелить? Смешно, а? Ладно, что будем делать, дабы отстоять вашу линию?
Сказал так потому, что, любя Путилова, тем не менее даже ему не считал возможным открывать все то, что держал в голове. Никаких записей имен, телефонов, адресов; да здравствует память, высшее таинство заговора, который лишь и может подвигнуть уснувшее общество к такому изменению ситуации, когда не будут страшны ужасы "техникофинансово-экономических обеспечений". Господи, но отчего Запад смог так легко воспринять рацио?!
Почему он выявил его в себе?! Утвердил во всех гражданах и подданных?! А мы бежим от рацио, как от огня! И сколько веков уже?! Что должен сделать промышленник в Англии, Америке или той же крошечной Бельгии, дабы поставить новый завод или создать фирму? Одно лишь: получить банковскую гарантию и согласие муниципалитета! И все! Никаких "технических обеспечений"! Отчего же мы столь несчастны и спасения не видно?! Почему полчища чиновников должны разрешать смелость мысли и разумность поступка? Почему?! Видимо, главная страсть истинных хотев России, пришедших с матушкой Екатериной из германских земель, – страсть к порядку – выродилась в самопожирающую рутину, раздавленная громадностью полученной ими территории, – пойди, загони ее в отчетность! И не надо бы! По-американски бы каждому штату и городу свобода управления самими собою. Что?! Да разве российский абсолютизм ("исчо" вместо "еще", очень по-русски!) мог позволить такое?! Сам держу – вот смысл нашей монархии;,но ведь будь у нашего орла не две головы, а тысяча, все равно за всем нё уследить!
– Есть два выхода, – ответил Путилов, закурив длинную папиросу дорогого египетского табаку, – и оба скандальны: или обращаюсь со встречным иском против германских шпионов, свивших себе гнездо в наших министерствах, или иду на процесс… Станочную линию останавливать не буду.
Гучков кивнул:
– Я с вами. Если Думу не разгонят – что, кстати, весьма вероятно, ибо Протопопов мечтает о диктатуре, – учиню скандал. А коли посадят под домашний арест или вышлют на Кавказ, найдутся люди, которые примут мое знамя. Но интервью готовьте, послезавтра будем давать в номер – сразу, как закончите "мировые" переговоры.
Путилов достал из кармана диковинную французскую шоколадку:
– Это от меня вашей нежной доченьке, Веруше…
..Гучков сказал шоферу везти себя в "рабочий комитет” – его детище, сам подбирал кандидатов, чтобы оторвать цвет мастеровых от радикальных партий, включить в работу; так нет же, арестовали; понятно, на место арестованных членов тут же делегировались новые.
Самым резким из собравшихся был все тот же Абросимов – успел, видимо, подготовить народ после выступления Милюкова на недавней встрече.
– Мы не подачек ждем от правительства, а уважения к нашим требованиям! Контролеры из ревизионных комиссий не скрывают, что премии нам урежут в три раза, запретят платить сверхурочные, обрекут на форменный голод! И не надо нас уговаривать, господин Гучков! Хватит одного Милюкова! Товарищи рабочие, у нас теперь один путь – на баррикады!
Ну и что это даст? – Гучков сдерживал себя, старался не сорваться на отчаянный, полный трагического бессилия окрик. – Кровь? Немецкую оккупацию? Обещаю, что завтра все ведущие газеты выйдут со статьями против душите-лей-контролеров. Да, вы правы, нынешнее правительство изжило себя, мы имеем дело с растерявшимися истуканами, которые не имеют ничего реального, что можно было бы предложить не только рабочему люду, но и крестьянству, солдатам, путейцам! Вы же знаете, что мы самым активным образом боремся за создание ответственного перед Думою министерства – с ясной программой, которая немедленно поведет к тому, что лавки будут полны товарами!
– Хватит нас завтраками кормить! – …Абросимов был не укротим, рвал ворот косоворотки. – Наелись господских завтраков, силы от них нет! Кто за мою резолюцию – "вперед, на баррикады", – прошу голосовать!
– Тогда идите первым, сказал Гучков. – Примите жандармскую пулю на глазах у ваших товарищей! Что-то, как я погляжу, те, которые особенно громко кричат, на поверку прячутся за спины друзей! Призыв идти на баррикады, когда наступает немец, – измена!
– А на голодный паек нас сажать – не измена?! А кто сажает?! Немец?! Нет, свой, русский барин! Он и есть главный изменник!
– Я, по вашему мнению, барин, – ответил Гучков, – но почему же тогда стою на стороне рабочих?
– Товарищи, – яростно выкрикнул Абросимов, – довольно с нас демагогии! Наслушались! – обернулся к Гучкову. – Вы, небось, в очереди за хлебом не стоите?! А вот постойте-ка на морозе, постойте!
(Абросимов был агентом охранки с трехлетним стажем; привлекли на том, что дали отсрочку от службы в армии. Неделю назад поставили задачу: будоражить рабочих и звать на баррикады. Протопопову нужна легальная возможность арестовать всех активистов, обезглавить движение. Без «зачинщиков», тех, кто возглавляет, народ (полагали в департаменте полиции) сам по себе не выступит: инертен, все снесет.)
…Раздавленный, без сил, чувствуя удушье, Гучков отправился к бывшему министру земледелия Кривошеину – некая пуповина, связывавшая его с незабвенной памяти Петром Аркадьевичем Столыпиным.
Да, откладывать более нельзя, думал Гучков. Если Кривошеин согласится возглавить правительство народного доверия, я отправлюсь к гвардейцам, вызову юзом генерала Крымова и будем убирать царя; отречение; императрица тут же постригается в монахини, убираем в монастырь, объявляем регентство великого князя Николая Николаевича, провозглашаем автономию Польши, уравниваем в правах евреев, получаем под это заем в Америке, немедленно закупаем продукты, обращаемся к крестьянам с декретом о введении золотого рубля за хлеб и мясо, даем субсидии солдаткам, особенно многодетным, и объявляем всеобщую амнистию.
Времени отпущено самая малость. От силы неделя. Потом случится катастрофа.
…Александр Васильевич Кривошеин являл собою исключение из общего министерского правила последних лет империи: практически единственный, он продержался на своем посту дольше всех, с времен Столыпина еще; миновала его – до последней поры – и "министерская чехарда" (выражение пустил Владимир Митрофанович Пуришкевич, большой острослов; в чехарде, ясное дело, винил жидов, кого ж еще?! Не государя же, право?! Кстати, он был одним из главных ходатаев по делам погромщиков; добился, чтобы на всех прошениях было типографски напечатано: "Погромы вызваны укоренившейся в народе враждой к евреям", коих он считал главными виновниками укоренившейся в России смуты. Поди осуди после такого титула, одобренного министром юстиции Щегловитовым!).
Гучков понимал, что насильственное отречение Николая и пострижение в монахини Алике окажется событием революционного звучания, поэтому следующий шаг – провозглашение премьером Кривошеина и возвращение в военное министерство генерала Поливанова – олицетворял бы собою угодный народу привычный и неторопливо-бессменный консерватизм.
Кривошеин был воплощением того прогрессивного начала, которое при этом базировалось на древних традициях России.
Дело в том, что кандидат в премьеры был женат на родственнице Саввы Морозова, а фамилия эта поразительна по своей истории.
Глава рода, старик Савва Морозов, родился в расцвет царствования Екатерины, был крепостным, истовым старовером – именно старообрядцы и подмогли ему займами под крошечные проценты. Поставил мануфактуру, сукна свои продавал сам, отмахивая сорок верст на московское торжище с мешком за спиной. Через двадцать лет смог выкупить и себя и четырех сыновей у помещика Рюмина; младшенького супостат не продал, чувствовал, что Морозов берет силу, богатеет, за сына что хошь отдаст, только подождать надо, чтоб время созрело.
Взял со старика чуть не сорок тысяч ассигнациями за сына – целое состояние!
Не ученый грамоте, Морозов был сметлив и одарен природным чутьем на размах. После московского пожара он понял: суконное дело без европейских машин не поставишь. Посему пригласил к себе немецкого умельца, закончившего курс наук не где-нибудь, а в суконной столице мира Манчестере.
Старший сын от дела отошел, основал свою веру – "Елисееву", ибо сам был Елисеем, – проповедовал, что близок приход Антихриста; отец платил большие деньги столичной жандармерии, чтоб сына не трогали, скиты его не жгли деньга что угодно в Первопрестольной купит, даже веротерпимость.
А вот средний сын, Тимофей Саввич, оставаясь страстным поклонником Хомякова и Аксакова с их высококультурным, изящным славянофильством, продолжал свято чтить традиции, но каждую неделю велел делать ему переводы из английских газет. Поэтому чутко уловил момент, когда пришла пора к крутому делу, и рванул в захваченную Среднюю Азию; поставил и там свои мануфактуры; приспособил узбекский хлопок к своим фабрикам – вместо американского, золотого, ибо приходилось везти из-за океана.
Своих партнеров из Англии и Франции принимал в поддевке и сапогах, бороду (как старообрядец стричь ее не имел права, отросла до колен) прятал под косоворотку, но беседы переводили его дети Савва и Сергей, получившие образование в Европе; меценаты, особенно Савва поддерживал Художественный театр; платил деньги большевикам – через подругу Горького, актрису Марию Федоровну Андрееву, любимицу Станиславского.
Страсть к меценатству Савва унаследовал от матушки: та передала несколько сотен тысяч золотом на расширение Высшего технического училища в Москве; чуть не миллион – на богадельню для престарелых рабочих своих мануфактур; даже на восстановление сожженной синагоги в Белоруссии отправила триста тысяч! Вот и вышло, что яблочко от яблоньки недалеко падает!
…Кривошеин встретил Гучкова с объятием, трижды облобызались, и в этом не было игры – относились друг к другу с уважением.
Выслушав Гучкова, помолчав чуть дольше, чем это было принято в их кругу, спросил:
– А сами не готовы возглавить кабинет, Александр Иванович?
– Готов.
– Ну и?..
– Меня сделали революционером в глазах того аппарата, который должен будет продолжать управление текущими делами государства.
– Бюрократия сразу прознает, что вы вырвали у государя отречение, а фрау упекли в монастырь… Если после этого акта гражданского мужества вы не возьмете исполнительную власть, вас могут предать суду – по прошествии времени, понятно, когда начнется неизбежная у нас реставрация… Дело, которое вы затеваете, должно кончиться вашим премьерством, Александр Иванович, лишь тогда забоятся поднять голос супротив вас… Но отдайте себе трезвенный отчет: после того, что вы намерены предпринять, появится новая Россия, но той, которую мы с вами так любим, никогда более не будет…
– Считаете, нужно покориться судьбе? Пусть река несет, куда-нибудь да вынесет?
Кривошеин чуть поморщился, поинтересовался без нажима, вскользь:
– Кого видите министром иностранных дел?
– Милюкова.
– Какой он министр, Александр Иванович?! Он профессор… Да к тому же обидчивый… И словес удержать не может… Самая сложная конструкция – это кабинет… Вы не представляете, как трудно подобрать вокруг себя тех, кто думает, как вы, и – главное – действует так же… Знаете, что сказал – в странном порыве откровения – человек, которого мы считали зловещим серым кардиналом, Победоносцев? "Россия – это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек"… А потом, словно бы испугавшись своих слов, понес свое, опостылевшее: "православие, кротость, народность"… Кому верить, Александр Иванович? Кому?! Безлюдье окрест… Талантливых оттерли: только в нашей стране могла родиться пиеса с таким страшным названием – "Горе от ума"… Вы вдумайтесь в эти слова, вдумайтесь внимательно… Мы раздавлены таинственным комплексом нерешительности и ненависти к тому, кто умнее…
Гучков потер лицо ладонями.
– Вот вы и вселили в меня уверенность… Я начинаю действо… Иначе пополню собою ряды благонамеренно-выжидающих государственных изменников: на кону судьба Руси…
С этим и уехал – ловко оторвавшись от филеров – на встречу с офицерами лейб-гвардии, готовыми уже к дворцовому перевороту…
(Он опоздал; женщины Путиловского завода терпеливо выстояли первый день в очереди за хлебом до вечера – машинист «кукушки», которому объявили, что премиальные ему урезают втрое, запил, вовремя не подвез муку к пекарням; второй день ждали хлеба с ропотом уже, но, оказывается, рабочие, которым объявили о переводе в солдаты – «а станете в шинелях грозиться бунтом – отправим в трибунал!» – не расчистили подъездные пути; а уж на третий день женщины пошли по улицам с истошными криками «Хлеба!».
А кого люди первыми бьют, когда изголодались и изверились? Тех, кто в форме, ибо это – власть. Вот и началось на рабочей окраине.)
От лейб-гвардейцев, по-прежнему конспирируясь, Гучков поехал на извозчике, перепрыгнув в него из автомобиля: филеры, не заметив в ночи его трюка, продолжали мчать за шофером Иван Иванычем, а Гучков гнал на квартиру Зилотти, покойного генерала по адмиралтейству, помощника начальника главного морского штаба, брата любимой жены Машеньки; там сегодня собрались офицеры флота, разделявшие платформу Александра Ивановича; повод для собрания очевиден: вспомнить сослуживца, столь безвременно ушедшего.
Константин Георгиевич Житков, многолетний редактор "Морского вестника", отвел Гучкова в сторону:
– Адмирал растерян, но сказал, что ищет верные экипажи…
"Адмиралом" называли Адриана Ивановича Непенина, командующего Балтийским флотом.
Гучков подружился с ним, когда проводил бюджет морского министерства в Думе; принял бой как слева, так и справа, но все же победил; с тех пор флот, как и армия, в защиту интересов которых он выступал постоянно, начиная с журнальных еще публикаций девятьсот четвертого года, питали к нему чувство самого искреннего уважения, несмотря даже на то, что порою он нападал на воинство с критикой, как всегда неуемной, но, увы, доказательной.
Адриан Иванович, вновь обойденный очередным званием (до сих пор ходил в вице-адмиралах, а ведь держал морские ворота Питера, важнейшая должность), относился к тому типу российских моряков, которых отличала интеллигентность, глубокая начитанность, такт и несколько тяжеловатая, прощупывающая надежность, похожая чем-то на глыбистую и немногословную убежденность хорошего егеря: десять раз обсмотрит, прежде чем поведет на свой заветный глухариный ток, оберегаемый для самых почетных гостей. Всех других заставит дрыгаться по болотным кочкам, выставив пару петухов всего, а в его заказнике штук тридцать поет, все сосны окрест болотины трещат любовными руладами черно-красных красавцев.
В пятнадцатом году государь – после первых успехов "военно-промышленных комитетов" Гучкова – в присутствии трех придворных сказал: "Я слыхал, что Гучков бог знает что несет в частях, прямо подстрекательские речи… Стоит ли разрешать ему посещение действующей армии?"
Эта фраза августейшего венценосца немедленно стала известна Петрограду.
Адриан Иванович был первым, кто бесстрашно позвонил Гучкову:
– А как вы отнесетесь к тому, чтобы съездить ко мне на дачку? Егерь славный, из мичманов, обещает хороший пролет, утка нестреляная…
– Кто говорит? – спросил Гучков не столько из озорства – назовется ли адмирал, государь не жалует тех, кто поддерживает отношения с ним, его недругом, – сколько потому, что не очень-то мог себе представить такого рода эпатаж по отношению ко Двору со стороны командующего флотом.








