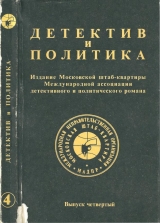
Текст книги "Синдром Гучкова"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
3
Самим фактом своего появления на свет новорожденный, не обмытый еще, не увиденный матерью своею Марией Федоровной, накануне первого писка, слепой, беспомощный, с кровоточащей пуповиной, Николай Александрович Романов сразу же стал очередным Помазанником Божьим, Господином всея Белыя и Желтыя, Хозяином Земли Русской.
Воспитанный в семье, где слово сурового, редко улыбавшегося отца было непререкаемо, гнев– взрывным (отходил долго, в лицо не глядел, губы чуть подергивались неуправляемым тиком), лишь мамочка была добрым ангелом-утешителем. Однако ее отодвинули от наследника, отданного мужчинам – государь довольно быстро заметил в сыне чрезмерную мягкость, податливость и кротость.
Будучи человеком военного склада, он считал качества Николая, столь рано ему открывшиеся, опасными для будущего монарха: "Моим народом нужно править справедливо, но круто. Он покорен лишь непререкаемой команде. За проявление малейшей слабости (про доброту мужик не понимает, у него забава кулачный бой, а справный тот, кто круче дерет) мстит: дворцовым ли переворотом, безумно-масонской Сенатской площадью или самодельной бомбой стеклянноглазых террористов. Мальчика надо провести сквозь игры сверстников – а они жестоки; через науку логики – она требует однозначна; историю – пусть научится помнить и не прощать того, через что прошла династия на своем тернистом пути служения Державе".
Наследник, однако, игр сторонился именно потому, что их норовили сделать жестокими, логика была ему отвратительна своей обреченной холодностью, а история страшила безнадежной обреченностью: казалось, все люди, жившие за оградой дворца, только тем и озабочены, чтобы бунтовать, бросать в темницы и казнить монархов и королев, виноватых тем лишь, что были рождены в императорских замках.
Поэтому, как только августейший родитель выезжал из дворца, Николай сразу же отправлялся на половину маменьки, блаженно растворяясь там в атмосфере тихой и мягкой доброты. Это была та райская заводь, где каждый верил каждому, разговоры были просты и доброжелательны, никаких подвохов требовательных наставников, лица – привычные, знакомые с самого раннего детства.
Калейдоскоп сановников, послов, генералов, посещавших во дворце папеньку, страшил наследника; он трудно привыкал к новым людям, сторонился их, съеживался, страшась обращенных к нему вопросов, более всего опасаясь показаться несмышленышем.
В детстве, еще на половине у маменьки, он был как бы распахнут окружающим, доверчиво щебетал, словно воробышек, все восхищались им – и красотою его, и доброй улыбкой, и девичьим румянцем, и незатейливой речью; на всю жизнь ему запомнился тот переломный день, когда отец вызвал его к себе накануне приема какого-то августейшего родственника из Лондона и в обычной рубяще-командной манере заметил: "Слово – серебро, молчание – золото. Прежде чем отвечать британскому кузену– проведи десять раз кончиком языка по нёбу". С тех пор наследник вообще перестал говорить на приемах у отца; когда к нему обращались с почтительным вопросом, он кивал, отделывался однозначными "да" и "нет", мягко улыбался или же сосредоточенно хмурился; отец поглядывал на него одобрительно. Однажды, правда, за вечерним чаем, при всех сделал выговор: "Тебя спрашивали, как ты относишься к понятию "духовность", мог бы объяснить, а не улыбаться с загадкою в ланитах!" Это привело к тому, что мальчик еще больше закрылся; не отвечать же, право, что духовность – это когда нет дворцовой суеты и можно спокойно думать о самом приятном и тихом, мечтать, говоря попросту.
Из окружавших отца он опасливо чтил Победоносцева; однажды не удержал слез, когда Константин Петрович зачитывал папеньке отрывок из страшного письма: "Если наше дело удастся, то такая революция разразится в России, какой никогда в целом свете не было, а главная цель – убить всю царскую семью и Победоносцева”.
Таких записок Победоносцев зачитывал папеньке множество, сохраняя при этом юмор, только бледнел и глаза делались огромными.
Особенно запомнилась наследнику страничка из письма: "Спасение России, дорогой Константин Петрович, в том, чтобы удалить от себя Ад как можно дальше. Ад насылает на нас своих врагов. Их множество входит в Россию, имя им "западное”! А высший смысл России в том, чтобы сосредоточиться в себе самой, отринув все чужое. Счастье наше в том, что Ад пока еще далеко от наших границ, хоть и работают на них космополиты – страшное орудие против нашего духа и смысла… Никогда не забуду сценку, дорогой Константин Петрович, как протестант отвечал обступившим его, как он может жить при "деспотизме", уехав из Европы и сделавшись русскоподданным…
"Извините меня, – ответил протестант, – но я пользуюсь абсолютной свободой в России, ибо исполняю долг, предписанный Богом, и закон народа, меж которого ныне живу. Кто бы мне захотел сделать зло – обращусь к государю, он меня защитит. Я предпочитаю иметь одну Главу, управляющую государством, чем сто. Да еще вопрос, кто они. Я слишком горд, чтоб перед ними унижаться, предпочитаю иметь над собою Того, кто достоин моей покорности…"
Когда наследник подрос, от Победоносцева же получил заповедь – на всю жизнь.
Лицо у Наставника тогда замерло, сделалось гипсовым, чеканил тонким голосом:
– У нас свой, особый путь и своя судьбоносная миссия. Традиционным врагом нашим является Запад, особенно Англия, да и вообще безумная, алчная и суетная Европа, прокаженная социализмом. Из-за нее появились новые враги – мерзкие доморощенные нигилисты, начитавшиеся французских и английских книжонок. Вечными нашими врагами навсегда останутся вездесущие жиды, масоны, которые очень хотят навязать всему миру идею конституции, в которой сокрыта гордыня всеобщего равенства. А оно невозможно для человека Веры, ибо никто не может быть равным Богу и Помазанникам Его.
…Когда наследник сделался красивым юношей, начал метаться, уединяясь надолго в своих покоях, его познакомили (при высочайшем, но бессловесном согласии) с балериной Кшесинской, пусть пройдет школу.
А он – вместо того, чтобы облегчать плоть – …влюбился; первая трагедия – невозможность личного счастья, ибо не себе принадлежишь, но Державе.
После этого замкнулся еще больше, успокоение находил лишь в покоях маменьки, она, ангел, понимала его, как никто, даже плакали вместе: "Это судьба, Николенька, а от судьбы не уйдешь”.
Дядя, великий князь Николай Николаевич, познакомил с юродивым Митенкой: тот высверкивал глазами, рвал волос, жег его, заклиная, умел снимать душевную боль, говорил что-то рваное, но успокаивающее; наследник растворялся в его словах, ощущал какую-то особую, неведомую ранее легкость; силился понять затаенный смысл сказанного, запоминал какие-то слова, сложение которых во фразы давало надежду и успокоение; нежную любовь к маменьке (и страсть – к балерине Кшесинской) перенес на Алике, гессенскую принцессу, нареченную; душенька, она старалась не говорить с ним на своем родном, немецком языке; сначала объяснялись по-английски: из родного Ганновера ее – девочкой еще – отправили учиться в Британию, к тамошним августейшим родственникам; англичане, при том что вольнодумцы, хранят традиции, причем настоящие, не придуманные; к тому же островитяне знают, как способствовать наработке характера и воли в умении достигать желаемого.
После нескольких месяцев, проведенных вместе с Алике, ставшей "Александрой Федоровной", вспомнил выкрики Митечки, его сумбурные слова сложились во фразу: "Она твое зеркало".
Действительно, поначалу Алике совершенно растворялась в муже, старалась стать такой же мечтательной и неторопливой, не любила новых лиц, предпочитала, как и Николай, общаться в самом узком кругу тех, кому поверила; шутила: "Самая любимая колода карт – игранная. Лица дам и валетов знакомы и привычны, ничего неожиданного от них не ждешь, надежность".
С такой колодой они прошли сквозь ужас пятого го да: каждый, кто смел говорить непривычное слуху, трудное для понимания, шедшее вразрез с тем, что исповедовали, немедленно отодвигался – мягко, с наградою и повышением по должности, но – чтоб с глаз долой. Первым оказался премьер Витте. Нашли Столыпина, однако тот вскоре начал набирать силу, замахнулся на общину, позволил мужику стать Личностью и, как говорили фрейлины, посмел считать себя истинным управителем империи.
Тогда-то и появился Григорий Ефимович Распутин. Как у больного наследника Алексея (в отместку нелюбимому отцу государь дал ему имя, которое не продолжало преемственность) пойдет кровь из носу, так святой старец у постельки: протянет руки, покроется потом, глаза вывалит – так кровь мигом и остановится, Божий посланец, чей же еще?!
Расписанная по минутам, изнуряюще-скучная жизнь Двора, подчиненная не сердцу, но протоколу, подарила, впрочем, ему, Николаю, радость: искренне подружился, полюбил даже неистового редактора "Гражданина" князя Владимира Петровича Мещерского, "Вово". Тот достался ему в "наследство" от августейшего родителя; первый человек (не принадлежащий к династии) был удостоен милостивого "ты" – ни до, ни после государь ни к кому так не обращался.
Маменька была против того, чтобы Вово появлялся в личных покоях молодого государя, считала Мещерского прохвостом и сплетником (к тому же ходили слухи, что он падок до противоестественной любви; Мария Федоровна знала, что именно под нажимом князя ее покойный супруг, даривший проклятого Вово постоянной дружбой, спас от каторги музыканта, растлившего мальчика из Пажеского корпуса, начертав на следственном деле резолюцию: "'Пажеских жоп у меня три сотни, а голова музыканта – одна. Дело прекратить”), всячески остерегала "Николеньку” от распутного Вово "Мерзецкого”, поэтому первая встреча царя и князя состоялась полуконспиративно.
Привязанность молодого государя к Мещерскому была объяснима, поскольку чтением книг Николай себя не утруждал, театры посещал редко, газеты и вовсе не просматривал (что в них читать? дурного не пропустит цензура; "изю-мистое” – под запретом Синода; политика – запрещена для исследования: послы шлют депеши министру иностранных дел, тот докладывает наиболее важное, выделяя в первую очередь общу^ линию, но не упуская и пикантности, все цари это любят), поэтому от жизни своей страны был огражден совершенно. А поскольку наиболее интересные новости циркулировали лишь в салонах, Вово приносил царю все сплетни, слухи, интриги, мнения, как бы просвещая его, знакомя с "реальной жизнью”. За "иными” салонами смотрел департамент полиции (Вово и здесь бывал), а в "дозволенных” перемывались кости знакомых, назывались возможные кандидатуры в министерские кресла, словом, там именно бурлила "общественная” жизнь – не в тех же редакциях, право, где окопались купчишки, акционеры, либералы и прочая жидовня?!
Государь мог слушать Вово часами; тот обтекающе журчал, по-женски легко перескакивал с темы на тему, обостренно чувствуя, где надобно посмешить августейшего собеседника, а когда приспело время назвать фамилию того человека, за которого хлопотал или, наоборот, хотел лишить фавора в глазах Николая.
Порою князь Мещерский прямо-таки ужасался тому, с какой легкостью государь следовал его советам: "А что, если он так мягок не со мною одним? Его августейший отец никогда не отвечал сразу, долго думал, перепроверял, взвешивал, а этому что ни скажи, то и примет, как словно малое дитя… Не Гессенским княжеством ведь правит! Одна шестая часть суши принадлежит его воле! Господи, господи, спаси его Всевышний от дурных влияний!”
(Тем не менее продолжал хлопотать за своих кандидатов, получая с них деньги; валил чужих – за это ему платили, кто просил угробить.)
…В девятьсот пятом году государь к Вово переменился: тот приехал испуганный разлетом анархического бунтарства, молил дать подачку простолюдинам: "Хотят Думу – пусть себе думают, все равно последнее слово – ваше! Надо пойти на уступку, отдать хоть малость, чернь и этим будет довольствоваться, слишком много пара, бурлит, пора открыть клапан”.
После этого Вово к государю не допускали; слал молящие письма – августейший корреспондент не отвечал; князю было невдомек, что государыне был голос: "Уступишь в малости – вырзут все".
Когда, тем не менее, чернь вызвала Манифест, даровавший Думу, свободу слова и вероисповедания, Вово начал печатать в своем "Гражданине" панегирики о мудрости, воле и силе Самодержавной Власти, государь подобрел: на одном из приемов соизволил выслушать князя, уделив ему четыре минуты (было немедленно отмечено Двором; по Петербургу понесся слух: на этих четырех минутах Вово заработал сорок тысяч золотом, протолкнув несколько проектов по бухарским землям, железнодорожным веткам и строительству двух заводов; министры, воочию убедившись в монаршем к Мещерскому благорасположении, не смели отказать старому мерзавцу и извращенцу; "его сиятельство" теперь к ним дверь открывал ногою, минуя сорок две инстанции, кои отделяли члена кабинета от того чиновника, который ставил входящий номер на прошении заинтересованного промышленника, акционера или какого изобретателя. Сплошь психи, вроде путейца Матросова с его тормозами, воздухоплавателя Сикорского или, того хуже, инженера Попова, замыслившего передавать голос на расстоянии, – вот оно, гнилостное влияние Запада, распустили народ, развратили либерализмом, ну ничего, голубчики, мы вас так умучаем, что не возрадуетесь той минуте, когда в больных головушках ваших появились бредовые "европейские штучки").
За эти четыре минуты, уделенные государем Вово (а сановники – Бенкендорф-внук, Саблер, фон Лауниц, Плеве-младший – цвет истинно русской аристократии, никогда не изменявшие своим непримиримо правым, глубоко националистическим великодержавным позициям, – были удостоены августейшим вниманием не более как на две минуты), Николай соизволил отметить:
– Читая тебя в "Гражданине", я как бы гляжу на себя чужими глазами и дивлюсь тому, сколь точен я в своих актах. Не льстишь ли?
– Ваше Величество, тот, кто скрывает от государя правду о состоянии отечества, – злейший враг его. Я вам всю правду-матку в глаза режу! Боялся, что вы меня обвините в излишней резкости.
– В докладах Столыпина я не чувствую такой успокоенной веры в будущее, как в твоих дневниковых статейках.
– Министр – он и есть министр, ваше императорское величество! А я – гражданин…
– Знаешь ли, я черпаю в твоих дневниках уверенность в правильности той линии, которую ныне избрал: да, Манифест, но при этом твердость, пресечение конституционного духа в зародыше и резкая отповедь – вплоть до самых крутых кар – всем проявлениям республиканства.
– Государь, если что и может поколебать империю, так только потворство западному духу. То, как вы держите в руках бразды власти, – залог умиротворенного счастья подданных.
– Так мне завещал августейший родитель, такова история наша: дай палец – руку отгрызут, позволь возобладать искушению приблизить к себе кого – сразу начинают полагать себя равным, теряют такт, смеют настаивать на своем в выражениях слишком вольных, порою даже дерзких… А каково мне? Оборвать – совестно, все же тварь божья, слушать – невмоготу, терпеть не могу, когда давят…
Обернувшись, Вово нашел взгляд министра финансов (этот сейчас нужнее других), чуть кивнул, улыбнувшись, – это позволит завтра, во время беседы, получить то, что хотел.
Николай между тем продолжал задумчиво:
– Раньше я сомневался в своей силе, но теперь, читая тебя, зная, что ты не из породы льстецов, начал постепенно понимать, сколь прав был я, принимая крутые, а потому нелегкие решения… Проще всего отложить очередной министерский доклад, никто не гонит, а ныне я постоянно ощущаю свою высокую правоту – кто знает народ, как не я?!
Князь зыркнул глазом на товарища министра внутренних дел (все в зале смотрели сейчас на них, хотя притворялись углубленными в себя); тот взгляд Вово поймал понимающе. И этот схвачен. Завтра же попрошу субсидию на "Гражданина", подписка падает, нечем платить оклад содержания щелкоперам, тысяч десять выбью; просить поначалу надо двадцать, у нас точную сумму называть нельзя, срежут наполовину, посему всегда надо требовать "с запасом".
– Потому народ так и боготворит вас, государь, что видит в вас воплощение своих надежд и чаяний. В какой еще державе проезд августейшей семьи по городу сопровождается таким ликованием, как ваш и государыни с августейшими чадами?
– Да, – согласился Николай задумчиво, – пожалуй, нигде… Ведь подданные знают, что я не для себя живу – для них… Что мне надо? Роскошь претит, любимое блюдо – картошечка, жаренная с луком, да севрюжий бок; форель эту самую – ах, ах, царская рыба! – в рот не беру, лебедей запретил стрелять к званым обедам…
Увела его чертова немка Александра Федоровна, глаза – льдышки, улыбка на лице постоянна, а потому – мертва; не любит она робкого государя; в моих, вишь ли ты, статьях себе поддержку ищет, а ей мужик нужен, жеребец, чтоб в кровати умучивал, а утром шел отдыхать в постелю к любимой фрейлине, а этот – у юбки, на других баб глаз поднять не смеет, что может быть ужасней, когда царь – подкаблучник?!
От природы сметливый и острый на глаз, Мещерский был первым, кто посмел признаться себе, что государыня Николая не любит.
И прав он был.
Вначале, первые месяцы, Александра Федоровна действительно глядела на мужа влюбленно: красив, тактичен, мягок, добр, о чем еще мечтать?!
Женщина, однако, явление столь противоречивое и странное, что понять ее не дано никому; даже Толстой, выписывая Веру, княгиню Марью, да и главную любимицу свою, Анну Каренину, наделял их такими свойствами, которые видел в своей маменьке, тетушках – в тех, словом, кто открывался ему родительской, совершенно особой стороною, когда женская сокровенность переплавляется, словно в тигле, в трепетную любовь к маленькому. (Великий китаец Конфуций, дожив до семидесяти лет, часто навещал своих девяностолетних родителей: у них он раздевался догола, садился на циновку и принимался играть с куклами и тряпичными тиграми, давая этим родителям сладостное возвращение в пору их молодости, когда они любовались своим маленьким, радуясь каждому новому его слову и жесту.)
В женщине – видимо, генетически – заложен единый стереотип представлений об избраннике: опора, надежда и ум; решения его беспрекословны, никаких колебаний или многочасовых размусоливаний – "что” да "как"; сказал, будто обрезал (подчинение такому любимому – не обидно, наоборот, сладостно).
Александра Федоровна, когда прошли первые месяцы супружества (вышла она за Николая по решению Гессенского двора, свадьбу диктовали не чувства, но политические амбиции крошечного немецкого княжества), поняла, что судьба нежданно-негаданно вручила ей не мужа, но Россию, ибо Николаша совершенно не подготовлен к царствованию, государственные дела не волнуют его в отличие от нее (это же так интересно, политика; от этого зависит благополучие детей; смертные копят для потомков деньги, а им, Романовым, надо удержать и вручить наследнику одну шестую часть мира, по возможности увеличив ее в площади и народонаселении до размеров еще больших). Европа считается лишь с силой; уж кто-кто, а она это не просто знала, в ней это было закодировано: почтение к форме и массе, организованным в беспрекословный порядок.
В свое время вдовствующая императрица сделала непростительную ошибку: расположившись к невестке после трех месяцев пристального за нею наблюдения, она открылась:
– Душенька моя, вы, видимо, поняли – я сужу по вашим глазам, – что государь унаследовал мою кровь… Он датчанин по духу – добр, мягок, молчалив, но при этом в чем-то по-русски нерешителен… Он страшится обидеть человека резким отказом, а бесчувственные жестокосердные люди трактуют это как проявление слабости. Государь по призванию своему художник, он мечтателен и рассеян по отношению к мирским делам… Я убеждена, что вы будете ему надежной помощницей, ангелом-хранителем во всех его начинаниях… Вы же видите: все министры, вместо того чтобы приходить со своими волевыми, взвешенными решениями, просят его приказа, словно он финансист какой или генерал… Он же скромен, он запретил добрейшему Фредериксу поднимать вопрос о присвоении ему генеральского звания – "с меня полковника достаточно"! А военный министр хочет спать на софе и чтоб государь отдавал за него приказы… Мне совестно за министров, но они – неизбежное зло, с ними нельзя не считаться, однако ведь и требовать надо, властно требовать…
Алике растворила в себе слова августейшей матушки, но сердце сжалось, когда услыхала – "нерешительный". Она запомнила навсегда это откровение любящей матери, для которой сын – самый лучший; оно, это откровение, жило в ней затаенно и выжидающе. Поначалу государыня отводила от себя это страшное слово, чуждое ее девичьим представлениям о муже. Она держалась до тех пор, пока не родилась первая дочь; после рождения третьей – наследника все не было – позволила себе подумать: "Был бы Николай – Нибелунг, у меня б рождались мальчики… Он слаб и нерешителен, Мария Федоровна права. Он не тот, о ком я грезила"…
Постепенно ее отношение к мужу переменилось: она стала смотреть на него, как на слабенького братца, на тихое дитя, оказавшееся – непредсказуемой волей судеб – на вершине гигантской государственной пирамиды.
Она всегда помнила и другие слова Марии Федоровны: "Он не умеет отказать просьбе"…
Государыня долго обсматривала эту фразу, взвешивала ее, исследовала неторопливо и холодно, а потом, решившись, сказала – накануне доклада министра промышленности и транспорта:
– Николаша, любовь моя, пожалуйста, найди в себе силу превозмочь твою неземную доброту и будь с ним строг. Потребуй неуклонного выполнения твоей монаршей воли…
– Да, шери, – ответил государь убежденно. – Ты совершенно права. Так дальше продолжаться не может. Все они пользуются моей деликатностию…
Во время доклада государыня притаилась в соседней комнате, приникла к двери, слушала разговор: Николай уступил по всем позициям, говорил вяло, потухшим голосом; когда попробовал возразить, министр начал сыпать цифрами; этого самодержец не выносил; молча подписал то, что требовал сановник.
И тогда-то, тихо удалившись из комнат, Алике впервые призналась себе: "А ведь я не столько люблю его, сколько жалею. Вот божья кара за брак по расчету!"
Она ничего не сказала мужу в тот вечер; тот пытался оправдаться, словно бы чувствовал, что жена все знает уже; Алике ответила холодной любезностью, ушла к себе, сославшись на недомогание; была холодна все те дни, что предшествовали новому докладу – на этот раз министра финансов. Накануне просила мужа о том же – твердости и воле; и снова Николай пообещал ей быть "словно скала", и снова сдался напору финансового дьявола.
Алике разрыдалась, говорила, что так нельзя, что он самодержец всея Руси, а его загоняют в угол паршивые чиновники, думающие только о своем, страшащиеся принять самое простое решение без высочайшего одобрения.
– Но ведь они не вправе сами, – ответил государь. – Так уж заведено, что только я могу одобрить или отвергнуть…
– Ну, так и делай это! – раздраженно ответила государыня. – А ты говоришь с ними, как гимназист! Или упрямишься – тоже как гимназист! Бери у них доклады! Пусть оставляют! Будем работать вместе!
Работали вместе, но все равно Николай не мог жестко приказать или резко, решительно отвергнуть, отделывался своими любимыми: "на то воля божья", "надобно еще подумать", "посоветуйтесь со Щегловитовым, потом доложите"…
От Двора ничего не утаишь: в Зимнем пошли потаенные разговоры, что "немка берет верх над русским государем" (хотя русской крови в его жилах почти не было – датчане, немцы, англичане, греки; прародительницей-то была чистая пруссачка, Екатерина Великая, по-русски тоже поначалу не говорила). Новость эта, понятно, пришла к министрам; те злорадствовали; слухи об их издевательском злорадстве бумерангом возвращались в Царское Село или Зимний, вызывая ярость Александры Федоровны. С тех пор она все чаще приглашала к себе тех придворных, чей родной язык был немецкий. Это растворение в родной речи лишь и давало сил смирить гнев, найти сил быть на людях улыбчивой и мягкой. Ей нужен был кто-то, кто был бы сильнее ее, в ком она могла раствориться и найти успокоение, столь нужное в ее безалаберной державе.
…Сама судьба, таким образом, освободила место подле нее: не Распутин бы пришел, так кто иной, но то, что такой человек должен был прийти, было предопределено фактом рождения Николая и его женитьбой, то есть исторической необходимостью в династии тех, кто самодержавно владел Россией.
И все чаще и чаще вспоминала Александра Федоровна слова вдовствующей императрицы – красивая и мудрая женщина видела, что в семье сына, при всем видимом благополучии, сокрыто нечто роковое:
– Ах, душенька, я все больше убеждаюсь в том, что государю так трудно потому, что он европеец. Государь лишен той жесткости, которая отличает его подданных – при всей их доверчивости, сноровке и такте… Европа – при всем том, чем пугал государя наставник Победоносцев, – состоялась на корректной обязательности и умении верить партнеру…
Поэтому государыня расширила кружок тех, с кем могла говорить на родном языке, – Бенкендорфы-внуки, Саблер, родственники фон дер Лауница, Александр Федорович Ре-дигер, фон дер Ропп, Николай Вячеславович фон Плеве; затем появился душенька Саша фон Пистелькорс, камер-юнкер и лейб-гвардии кавалергард, он продвинул к государыне Аннушу Вырубову, сестру своей жены, урожденную Танееву; семью Танеевых государыня ценила: те доказали свою верность усопшему императору еще, ныне отец Вырубовой стал главноуправляющим собственной его величества канцелярии; этот – надежен, хоть и с амбициями.
Однажды кто-то из приближенных в который уж раз повторил, что главная задача – не допустить влияния на Петербург отвратительного Парижа и спесивых англичан – жидам потакают; государыня, однако, такого рода разговор прервала, немедленно перейдя на русский: знала, что Николай – под давлением либералов (что она может с ним поделать?!) – повернулся именно к Лондону. Согласна ты с ним или не согласна – не важно: пока существует линия, ей, русской императрице, необходимо поддерживать то, чему следует августейший супруг, – несчастная жертва правительственных интриг и взаимопожирающих салонов.
Успокоилась она лишь в тот день, когда до конца уверовала в Распутина: тот, властно подняв руки, остановил кровотечение Алешеньки, а врачи-то были в полнейшем бессилии.
Сделалось нехорошо, когда увидела, как старец обвалился в обморок от нервного напряжения: Господь дал человеку магическую силу, которую Григорий Ефимович безвозмездно отдает ее сыну; как не преклоняться перед таким даром?!
…И первое слово неодобрения позиции Александра Гучкова произнесла именно она, государыня, прочитав в газетах речь лидера октябристов в далеком еще девятьсот шестом юду, после разгона первой Думы и ареста ряда ее кадетских и социалистических депутатов.
Казалось бы, речь Гучкова должна была государыне понравиться, – Петр Столыпин, например, тогда еще не глава кабинета, но министр, прислал поздравительное письмо: "Смело и честно!"
Казалось бы, один из* популярнейших лидеров центра сказал все, что хотели услышать в Зимнем: ударил кадетов и тех, кто стоял левее их, отмежевался от их программы, которую, по его словам, можно было решить лишь "путем революционной борьбы", но дальше он загнул такое коленце, которое Александра Федоровна отчеркнула карандашиком и дала прочесть августейшему супругу: "Если раньше мы были единственной партией, защищавшей принципы монархизма, го ныне правее нас организовался целый блок, объединенный защитой начал Устоев Державы. Однако организации эти, ставшие партиями, есть явление достаточно сложное. Программы их – смесь прогрессивных тенденций с положениями прямо-таки реакционного характера. Самый состав их, опирающийся на широкие народные массы, обеспечивает демократическое направление в решении многих вопросов в области социальных и экономических отношений. Го живое национальное чувство, пламенный патриотизм, который их одушевляет и который доведен у них до степени экзальтации мучениями и унижением нашей родины, сближает их с нами. Но эти партии относятся к Манифесту о свободе иначе, чем мы, ибо единственной формой государственности они признают абсолютизм, не ограниченную ничем монархию. В этой области между нами не может быть соглашения. Но если в Думе снова поднимется штурм против прерогатив верховной власти, они найдут в нас союзников в отстаивании монархического начала.
Однако существует роковая опасность для этих партий, ибо в их состав вошли те, которых раньше мы всегда привыкли видеть на службе реакции. Они были и остались нашими противниками, ибо они мертвили общественную самодеятельность, топтали свободную мысль, держали народ в темном невежестве и нищете, не раз становились поперек реформ. И теперь, когда я вижу этих господ среди монархических партий, пытающихся занять там руководящую роль, я начинаю опасаться и за судьбу этих партий, и за судьбу того дела, которое они хотят защищать".
…Государь поднял на супругу свои голубые глаза: к изумлению своему, Алике заметила в них смех.
– Ангел мой, – мягко сказал он, – Гучков просто завидует… Наверное, узнал, что министерство внутренних дел дает моим славным националистам большие ссуды, а ему – ни копейки…
– Но ведь это высший секрет государства, – Александра Федоровна даже руками всплеснула. – Как это могло дойти до него?!
– Очень просто… Окончил историко-филологический факультет, наверняка там учились те, кто сейчас сидит в министерствах… Поехал в Малую Азию, чтобы лично расследовать причины армянской резни, а ею занимались именно чиновники департамента полиции… Был в Македонии во время восстания, вернулся героем, все салоны открылись ему… В нашей Державе личные связи в салонах играют первейшую роль, шери…
– Читай дальше, Николенька, – попросила государыня. – Если такие люди имеют личные связи, то это страшно – он волк в овечьей шкуре… Читай, родной…
Алике заметила, что следит за тем, как медленно двигаются зрачки государя. "Даже я быстрее его читаю этот язык, – раздраженно подумала она, – как можно быть таким бесстрастным?!"
"Самодержавный строй, – продолжал между тем Гучков, обращаясь к громадной аудитории, – создавший наше государство, еще недавно имел перед собою великое будущее. Если бы самодержавие осознало свою миссию, если бы оно сделалось демократичным, оно заслужило бы право на славное существование. Но его толкнули на иной путь, связали с узкосословными, кастовыми интересами, сделали ответственным за все зло, которое своекорыстно творили его именем, и привели его к гибели.








