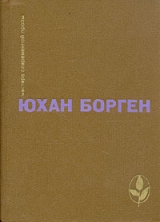
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юхан Борген
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 54 страниц)
– Господи, братец, – сказала она все с той же улыбкой, которая вызвала у него прилив раздражения, – ты стоишь здесь как олицетворение всех современных бед… Располагайся, прошу тебя, садись.
Она позвонила. Вошла пожилая горничная. Она уже несла поднос. Быстрым взглядом он невольно подметил невероятную, доисторическую прочность хрусталя – этот хрусталь он хорошо помнил.
Когда же его усадили в кресло и он отпил первый глоток, с наслаждением чувствуя, как виски освежает сухую гортань, он поднял глаза на сестру и чуть ли не с упреком спросил:
– Но это же виски, настоящее виски, не понимаю, откуда?..
– Стоит ли так уж огорчаться из-за этого? – шутливо проговорила она. – Конечно, хорошо, что Лондон сейчас нас с тобой не видит… – И, заметив его удивленный взгляд, продолжала: – Я только что слушала одну из этих наводящих ужас передач: оказывается, мы терпим жестокую нужду!
Он приподнялся в кресле, на этот раз и впрямь рассердившись:
– Милейшая Сусанна! Мы и в самом деле терпим нужду. В описании ужасов нет ни малейшего преувеличения. Не понимаю только, как ты…
Но укор его как-то поблек оттого, что совсем против воли он снова нырнул в старомодный огромный, как ванна, стакан для виски и после со вздохом наслаждения вынырнул из него.
– Кроме того, – не дал он ей вставить легкомысленное возражение, которое – он знал – уже готово слететь с ее уст, – сколько раз тебе надо говорить, чтобы ты сдала свой радиоприемник? Эти аппараты нужны людям, которые используют их для общего блага… А ты сидишь здесь, ничем не рискуя, и слушаешь Лондон и весь мир как ни в чем не бывало.
Она ответила, и притом серьезно, хотя все тем же поддразнивающим тоном, который всегда служил ей защитой от неугомонного братца, вечно чем-то встревоженного…
– Я сдала радиоприемник. Откуда им знать, что у меня есть второй? К тому же я ничем не рискую, как ты совершенно справедливо заметил. У кого поднимется рука на пожилую вдову? А уж тебе, во всяком случае, не к лицу сетовать, что твоя легкомысленная сестрица будет иметь хоть какое-то представление о событиях. В прежние времена ты не раз меня корил за то, что я далека от жизни.
Он рассеянно перелистывал английский журнал, который она читала перед его приходом. Он взглянул на дату: октябрь 1939 года. Значит, так вот она купалась в прошлом, в беззаботном прошлом, и в одиночестве забавлялась новостями английского высшего света, слушая в то же время сообщения об ужасах, творившихся в мире.
«Все матери, которым предстоит впервые вывести дочь в свет, сталкиваются со сложной проблемой. Однако не нужно впадать в панику. Надо лишь последовательно и заблаговременно продумать план действий. Первым делом надо определить дату дебюта. А это, уж во всяком случае, следует сделать заблаговременно. Ведь в сезоне не так уж много свободных вечеров. Если ваш бал намечается на нынешний год, вам следует определить дату немедленно. Миссис Кенуорд из журнала „Тэтлер“ окажет вам в этом содействие. Она в курсе всех светских событий. Самое лучшее – устроить бал на дому. Ничто не сравнится с домашней обстановкой. Но сначала посоветуйтесь с архитектором. Старые лестницы могут подвести вас, не выдержав напора сотни ног. Следующий по важности вопрос – это украшение дома…»
Отложив в сторону журнал, Мартин Меллер вздохнул. Горничная принесла содовую и вышла, но он этого не заметил. Он заметил лишь, что его обворожительная сестрица снова наполнила его стакан все тем же возмутительным напитком.
– И вот такие вещи ты сейчас читаешь…
Но и на этот раз укор прозвучал не слишком-то убедительно, потому что консул снова нырнул в огромный стакан с приятной живительной влагой.
Она спросила:
– Ты о Вилфреде хочешь со мной говорить? – Он вздрогнул, пораженный ее неожиданной проницательностью. Она продолжала: – Заметил ли ты, дорогой братец, что все в жизни повторяется? Я думаю, может, это просто возрастное явление? Может, мы и в самом деле уже испытали все, что уготовано нам судьбой?..
На этот раз ему не удалось скрыть своего удивления. Такая уж эта Сусси: казалось бы, вовсе ничего не смыслит ни в чем, совсем не от мира сего, и тут же выясняется: ничего подобного – ее быстрый ум цепко схватывал все, что происходило кругом.
– Возьми, к примеру, твой сегодняшний визит, – продолжала она, – все это уже было тридцать лет назад. Ты пришел ко мне тогда на правах крестного отца и опекуна мальчика, Вилфреду было четырнадцать лет. Ты считал своим долгом разъяснить мне кое-какие вещи. Всерьез озабоченный, ты укорял меня. В ту пору речь шла о его успехах в школе, и помнишь ли ты, чем все это кончилось? Я показала тебе письмо его учительницы… господи, я теперь уже стала забывать имена и все такое, но письмо говорило, что он прекрасный ученик…
– Да, только письмо это, судя по всему, написал он сам…
Он сразу же пожалел о своих словах. Но сестрица снова проявила себя с неожиданной стороны:
– Этого я не знаю. Но зато я знаю, что он окончил школу с прекрасными отметками. А когда старый добрый Рене, над которым ты всегда втайне потешался – да, да, не отмахивайся, – когда Рене сказал, что у него необычайный талант живописца, то и эта оценка впоследствии оправдалась. И неужели ты станешь отрицать, что книги, которые он написал…
Он остановил ее движением руки.
– Я ничего этого не отрицаю, все достоинства Вилфреда мне известны. Ты вообще заблуждаешься, полагая, будто я недооцениваю дарования нашего мальчика. Все дело лишь в том, что наш талантливый мальчик с тех пор уже вырос и достиг сорокачетырехлетнего возраста, он мужчина. А от мужчины требуется известная доля ответственности, честности в отношениях с людьми…
Все обернулось не так, как он задумал. Как и не раз в прошлом, он пришел к сестре с самыми благими намерениями, не сомневаясь, что ход беседы будет определять он. Но все обернулось иначе. Вот он сидит перед ней и вынужден оправдываться. И главное – у него уже вырвалось обвинение, которое он думал придержать на самый конец.
– Я знаю, что ты имеешь в виду, – серьезно произнесла фру Саген. – Я знаю, что болтают о нем.
Она поднялась и встала у окна – темный силуэт в слабом свете заката. Когда она обернулась к брату, во взгляде ее и в облике была властность, которой он прежде не знавал за ней…
– Мартин, – начала она, подавляя волнение, – я хочу сказать тебе одну вещь, пусть неприятную… Когда ты и все прочие добрые патриоты разгуливаете по улицам словно бы с дипломом, удостоверяющим ваше патриотическое поведение, тебе, очевидно, невдомек, что тем самым вы становитесь совершенно непригодны для той скромной деятельности, которой, говорят, вы занимаетесь? Можно ли сомневаться, что наши хитрые враги следят за каждым сколько-нибудь известным деятелем нашей крохотной столицы со всем ее патриотическим великолепием? Как ты не понимаешь: в неравной борьбе, которая, возможно, даже и не борьба, а лишь своего рода демонстрация – впрочем, не знаю, – пользу могут принести лишь те люди, которых вы называете сомнительными, кто одной ногой стоит в одном лагере, а другой – в противоположном, по крайней мере так это может показаться? Как ты не понимаешь, что именно они… Возможно, наши враги доверяют им…
Она села, быстро и неловко, по-прежнему вся дрожа от распиравшего ее негодования, вперив взгляд в тяжелое небо над Оскарсхаллом. Этот идиллический пейзаж показался ей полным внутренней противоречивости: роскошный замок времен веселых королей – какой анахронизм в этом гнетущем мире рабских умов и темных поступков…
Он сказал, подавляя удивление:
– Не знаю, дорогая Сусанна, кто вбил тебе в голову подобные рассуждения, и даже не хочу этого знать. Но ты должна понять, что это смертельно опасные рассуждения.
– Для кого – смертельно опасные?
Он не привык к столь быстрой реакции с ее стороны. Консул мельком взглянул на английский журнал. Ему показалось, будто, помимо их двоих, в гостиной еще находится кто-то третий – в этой восхитительной гостиной, где некогда царили легкость мысли и крепкое вино и где до сих пор витал аромат того и другого.
– Я не знаю, видишься ты с ним или нет, – уклончиво ответил он. – Но в случае, если все же его увидишь, скажи ему, что… понимаешь ли, мы же не знаем… люди ничего не знают наверняка. Однако нынче эти люди, случается, действуют чересчур поспешно, подчас без достаточных оснований.
Она метнула на него испуганный взгляд. Он не хотел этого говорить, совсем не хотел. Он жалел, что разговор принял такой оборот. Он снова сердито нырнул в стакан.
– Неужели ты хочешь сказать…
– Я ничего определенного не утверждаю. Я хочу лишь сказать, что нынче нас всюду подстерегает опасность. И человек, уже взятый на заметку, пусть даже причиной тому непостижимая двусмысленность поведения, такой человек рискует вдвойне.
Он отставил стакан.
– Словом, игра эта может оказаться весьма опасной.
– Ты хочешь сказать, что Вилфреда считают изменником родины, или как это у вас называется?
Так впервые было произнесено это слово. Он удивленно взглянул на нее. Откуда только брался пыл у его обворожительной и столь далекой от жизни сестрицы? То ли мальчик заморочил ей голову, то ли вопреки всему он и впрямь?.. Мартин Мёллер отогнал эту мысль. Какие-то вещи решались раз и навсегда, однажды названные своими именами, иначе теперь нельзя. Мыслимое ли дело, положившись на слово легковерной матери, просто вот так взять и перетасовать всю колоду друзей и врагов. Он стал ощупью искать сигару, будто палку, чтобы опереться, но сестра уже пододвинула ему нераспечатанный ящичек отменного качества сигар, каких теперь не увидишь.
– Где только ты раздобываешь эти вещи? – спросил он, на этот раз с откровенной досадой. – Может, это?..
– А если и так? Ну, знаешь ли… – Она отодвинула изящный ящичек в сторону. – Нельзя навязывать патриоту товар, добытый с черного хода.
В ее тоне вдруг проступила враждебность. Он пожал плечами. Казалось, сегодня все несуразности долгой жизни сплавились воедино. Его сестрица Сусанна всегда была глуха к доводам, касающимся общности людей. Казалось, ей от природы недоступны некоторые азбучные истины.
Он начал:
– Это ты произнесла слова «изменник родины». Я не берусь судить других. Но нельзя безнаказанно нарушать общепринятые нормы поведения.
Фру Саген встала у окна в эркере. Теперь она уже не скрывала негодования. Шагнув к брату, она снова заговорила, и он подумал, что эту непривычную властность сестра, должно быть, переняла у кого-то и сейчас копировала поведение других людей в сходных обстоятельствах.
– Ты сказал – «люди». Ты намекаешь, как это теперь делают многие, что не лишен связей с так называемыми внутренними силами. Я не знаю, чем ты занимаешься, и, бог свидетель, не хочу этого знать. Но почему ты так легко готов осудить того или иного из твоих ближних? Не потому ли, что их уже осудила кучка безответственных людей, точнее, говоря без обиняков, кучка «патриотических» кумушек?
Это не был вопрос – она высказала свое убеждение. Но ей ли принадлежали эти слова? Это был голос прослойки, которая не принималась в расчет, – прослойки скептиков. А может, это попросту голос разъяренной тигрицы-матери? Консул тоже встал. Неприятно было сейчас смотреть на нее снизу вверх. Он тоже поднялся по ступенькам к окошку в эркере. На душе стало как-то легче.
– Ты могла бы по крайней мере проявить понимание, – проговорил он.
Но она мгновенно парировала:
– В чем – понимание? Может, согласиться шпионить за ним?
– Называй это, как хочешь. Я бы назвал это – спасти его.
– От чего спасти?
Он снова пожал плечами. Слишком уж прямолинейно она ставит вопрос. Чужой дух витает в этой гостиной.
– Люди могут прибегнуть к крайним мерам, – сказал он.
Теперь он снова увидел на ее лице испуг. Она спросила:
– А если он скроется?
– Его найдут, куда бы он ни бежал.
– Ну и что же? Когда-нибудь ведь все разъяснится…
Он стоял, глядя на залив, расстилавшийся внизу, на мутную темную воду, где отражалось небо, вдруг показавшееся ему совершенно безрадостным.
Он пробормотал:
– Ты думаешь, ему удастся оправдаться?
Досада захлестнула его. В одной из листовок нынешние времена выспренне именовались временем великого очищения. А не обстояло ли дело как раз наоборот? Может, это время очернения, время смутного недоверия и скоропалительных приговоров?
– Почему Вилфред не может быть прост, как другие? – мягко проговорил консул Мёллер. Старый усталый человек, он устал от скверной пищи, от бездеятельности, от несвойственного ему альтруизма.
Сестра тронула его за плечо:
– Мне не нравится твой вид, Мартин. По-моему, ты сильно сдал. Почему бы тебе не уехать? Говорят, в высокогорных отелях и теперь можно отлично отдохнуть.
Она снова отошла к большому окну, выходившему на залив. За окнами быстро темнело. Вдоль насыпи у железной дороги лежал грязный снег. Она резко обернулась.
– А знаешь ли ты, что у Вилфреда в Париже сын?
У него перехватило дыхание. Он представил себе младенца с темными кудрями.
– Ему восемнадцать лет. Он работал в театре, кажется, писал декорации. Немцы бросили его в тюрьму, но он бежал. Думают, что он в маки.
Мартин Мёллер почувствовал себя в западне. Здесь его потчевали убедительными сомнениями и неожиданными вестями. Его обвинениями не интересовались. Угощали странными фактами. Он спросил:
– А фамилия у него чья?
– Он носит фамилию матери. Она француженка. Кстати, зовут его Рене.
Будто по волшебству, из шкатулки появилась фотография. Мартин увидел высокого подростка лет пятнадцати-шестнадцати. Он был в чем-то вроде комбинезона и стоял, прислонившись к мачте яхты, он обладал тем небрежным изяществом, которое – все хорошо это помнили – было свойственно Вилфреду в бытность его подростком. Черты его лица, безупречно правильные, поражали неправдоподобной красотой, но взгляд был какой-то бескрылый.
Мартин Мёллер застыл с фотографией в руках – будто хотел вырвать у нее все тревожные тайны Вилфреда. Наконец он сказал:
– Он похож на…
– Да, я и сама это вижу. Он похож на отца Вилфреда. Сам Вилфред не так уж сильно похож на отца. Сходство проявилось лишь в его ребенке.
Сусанна протянула руку, словно желая погладить фотографию, которую держал ее брат, но все же не коснулась ее. Он вернул ей снимок. Она взяла фотографию в руки, будто распятие…
Мартин Мёллер стоял перед ней пристыженный, и доводы его тоже словно бы увяли.
Защитная реакция вдруг пробудила в нем раздражение, как всегда, когда он чего-то не понимал.
– Какого черта, почему наш Вилфред всегда и во всем ведет себя двусмысленно! Если и впрямь дело обстоит так, как ты намекаешь, если он вправду…
Он провел рукой по лбу.
Она спросила:
– А знаешь ли ты, как он заполучил эту руку, точнее, потерял свою?
Он порылся в памяти. Так много всего приключилось в ту пору. Взять, к примеру, торговые его дела. Да и вообще все это было так давно.
– Кажется, на карусели?
– Да, на карусели. Там была карусель. И ребенок.
– Вот этот мальчик? Рене?
– Он тогда даже еще не родился. Был другой ребенок, чужой. И Вилфред его спас.
Опять шквал неожиданностей, опять скрытый укор обвинителю.
– Кто сказал, что Рене в маки́?
– Люди сказали… там, видно, то же, что и здесь.
Она неопределенно улыбнулась.
«Люди», «они», как теперь принято выражаться, казалось, обступают тебя со всех сторон. Кто они, все эти люди, создающие определенное мнение?.. Что ж, если все, что говорят о Вилфреде, основано на заблуждении…
– Так как насчет сигары?.. – спросил он.
Она пододвинула ему ящичек. Наверно, давно уже держала его наготове. Она не улыбалась. Ему просто необходимо ухватиться за что-нибудь, ей это было ясно.
– Не знаю, – проговорил он, словно беседуя с самим собой. Его стакан вдруг снова оказался полон до краев отличным виски. На Бюгдё рано спустился вечер: все словно сговорилось прогнать нынешний день, чтобы память спокойно вернулась к былым временам.
– Когда Вилфред возвратился из Парижа… – снова начал он, – я имею в виду его первое возвращение… – дядя Мартин сладострастно выпускал изо рта кольца дыма, – мы все думали, что он сошел с ума.
– Ты так думал.
– Все так думали. А что еще прикажешь думать? У него было несколько выставок… – что ж, я в этой живописи ничего не смыслил ни тогда, ни теперь, но раз знатоки провозгласили его художником…
Теперь он опять был прежний «дядя Мартин»; когда он произносил эти слова, казалось, будто он берет живопись кончиками пальцев и поднимает вверх, выставляя ее на всеобщее обозрение и осмеяние. Выпрямившись в кресле, он заговорил с пылом:
– Я хочу сказать, это было нечто реальное, осязаемое – общественное положение или называй, как хочешь. Вилфред получил признание, и даже больше того. Право, я гордился им, читая в газетах отзывы критиков. Ведь я был его опекуном, не так ли? Я…
Под наплывом внезапной досады он вновь рухнул в кресло.
– И вдруг он посылает домой… и, боже милостивый, заполняет весь Стеклянный зал безумными этими холстами… Все эти штуки какой-то тамошний проходимец вбил в голову молодежи… как бишь, его звали?
– Андре Бретон. Да только ты неправ.
– М-да… – Мартин Меллер вскинул брови. Удивительно, до чего же непогрешима эта дама, когда-то бывшая его младшей сестренкой, удивительно, сколь прочно она удерживает в памяти чепуху, которую другие, естественно, тут же забывают и выбрасывают из головы.
– Что ж, изволь, назовем их всех экспрессионистами, сюрреалистами… да, да, как я уже говорил, в живописи я ничего не смыслю. Но ведь и сам Вилфред отверг все это потом, у него появились иные кумиры.
– Кандинский. Клее.
Мартин Мёллер сдался – он продолжал курить. Будто два пушечных залпа, прогремели сухие, короткие пояснения его сестрицы: запас ее знаний об этих комедиантах в мире искусства, о которых в ту пору подробно писала отечественная печать, казался воистину неисчерпаемым.
– И тут, черт возьми, наш мальчик одним ударом, одним бессовестным ударом, разрушил положение, которое сам создал себе первыми своими картинами, вернее, – ты уж прости меня – первой своей мазней, можно подумать, что она не была достаточно новомодна…
Он подался вперед в кресле.
– Сусси, милейшая моя Сусанна, будь столь любезна и не пытайся уверить меня, будто ты что-то в этом поняла, даже в его первых работах, хотя, возможно, в них было своего рода искусство, а уж эта новая мазня в стиле мсье, как бишь его там…
Она не курила. И не пила. От этого положение гостя, наслаждавшегося сигарой и виски, становилось еще более неловким. Безмерная горечь захлестнула его.
– Какой смысл, черт побери, всю свою долгую жизнь вести честную торговлю? Какой смысл трудиться в поте лица? Появится такой лодырь и шалопай, ты уж прости меня, Сусанна, но будем называть вещи своими именами, и с помощью блефа добивается известного признания, а затем – тут же – чистейшего скандала, который вдобавок затрагивает его близких, сама ведь знаешь… Но зато их помнят, странно, почему-то их помнят, шарлатанов этих. Будто они совершили какой-то подвиг!
Он отвлекся от главного. Она не стала его этим корить. Он всегда восхищался умением сестры тактично не замечать чужих оплошностей.
– Ты хочешь сказать, – тихо произнесла она, – что ты тогда не понимал его и теперь не понимаешь.
Он помешкал немного, нежась в кресле. Вообще-то здесь очень уютно.
Все реже и реже наведывался он теперь сюда. Но всегда ему приходилось – неизменный проклятый его удел – вносить в этот дом тревогу.
Что ж, кто-то ведь должен это сделать, кто-то должен взять на себя труд спасти этого вечного вундеркинда, если и впрямь он неповинен во всех тех ужасных грехах, которые ему приписывают.
Милосердное виски помогло ему успокоиться, и Мартин добавил:
– Ты же сама была в отчаянии, когда он устроил выставку своих безумных картин?
– Какие слова ты употребляешь, – спокойно возразила она. – Да, слово «безумные» в ту пору меня потрясло. Кто-то из критиков так написал. Я тогда ужасно перепугалась. Печатное слово всегда пугало меня. Я, вообще-то говоря, плохо разбираюсь в живописи, ты прав, Мартин. Но слова пугают меня. Столько новых слов вошло в моду в те годы, когда Вилфред был за границей, все рассуждали о подсознании, точно всю жизнь только это и делали. Даже страшно стало. Но слова эти не проникли мне в душу.
Он вскинул голову, просиял:
– Да, не правда ли? Слова! Слова! Зачем, черт возьми, говорить вслух про всякие непристойности? Мы привыкли набрасывать покров на многое, и слава богу, если хочешь знать мое мнение…
– Но когда я увидела эти картины, да, милый Мартин, я говорю о тех самых последних несуразных холстах, о тех несуразно больших холстах, на которых было изображено нечто недоступное мне…
Будто что-то оборвалось у нее внутри. Будто порвалась последняя, натянутая до предела струнка… Он поднял голову. Ощущение уюта рассеялось. Он поймал настороженный взгляд сестры. Она взглянула на тикающие часы. Потом посмотрела на залив под окнами. Мимо шел поезд. Кажется, уже спустилась ночь.
– Ты утверждаешь, будто что-то поняла?
– Вилфред объяснил мне эти картины. Он сказал, что действительность…
– И ты попалась на эту удочку? – Мартин Мёллер искренне негодовал. Теперь он снова был прежний дядя Мартин, мужчина, глава семьи.
– Господь наградил нас пятью органами чувств, дорогая Сусанна, и я полагаю, этого предостаточно!
Поезд исчез, умчался к центру города. Оба повысили голос, стараясь заглушить отдаляющийся шум. Он подумал: в былые дни поезда ходили здесь гораздо реже. И когда поезд появлялся, было даже приятно: всякий раз это вносило какое-то разнообразие. Нескончаемая круговерть мыслей… как она раздражала его! Мартин Мёллер презирал всяческие сантименты.
– Он сказал, что действительность не так проста, как кажется, – закончила она.
Снова откинувшись в кресле, дядюшка Мартин заговорил с обидой и с торжеством:
– И всю эту чушь ты приняла всерьез двадцать лет назад! А сегодня ограждаешься ею, как щитом…
Ему снова было все совершенно ясно: слава богу, он еще многих может научить уму-разуму!
– Ты приняла на веру всю эту модную болтовню тех лет! Помнится, тогда толковали про какое-то раздвоение… к чертям весь этот вздор! Ты же хочешь с его помощью оправдать по меньшей мере странное поведение нашего мальчика в нынешние времена, когда нужна лишь однозначность. Здоровый инстинкт, Сусанна, таится в сердце каждого норвежца!
Она взглянула на графин, Мартин смутился. Он сказал примирительно:
– Ты же сама понимаешь: сегодня всем нам лучше вести себя так, чтобы избежать кривотолков!
Она снова заговорила:
– Еще одно. Когда он вернулся домой без руки – а ты ведь знаешь, что он много лет не притрагивался к клавишам, – представь себе, он снова стал играть! Одной левой рукой. Он навестил Пауля Витгенштейна – знаешь, того австрийского пианиста, что потерял правую руку в годы прошлой войны, – он снова завоевал успех у публики пьесами для левой руки. И Вилфред разучил их, помню, как он играл концерт Равеля и несколько вещей Рихарда Штрауса…
– Но что ты, собственно, хочешь всем этим доказать?
– Доказать…
У сестры был усталый вид. Мартин досадовал теперь на свою резкость. Какого черта он всегда вмешивается в чужие дела? Этот порочный мальчишка был когда-то его подопечным, но с тех пор прошло много лет. Мальчик стал взрослым. А сам Мартин стал стариком. И снова его охватило гнетущее чувство, будто жизнь замерла на месте или, того хуже, клочками возвращалась вспять. Да, было время, когда Вилфред завоевал успех – пробился, как теперь говорят… А сейчас? Если только это правда, что мальчик втайне совершает какие-то добрые дела… Что ж, пусть сам смотрит! Ему жить!
Но с другой стороны: все бытие ведь перевернуто вверх дном! Распущенность, разврат перестали быть личным делом каждого, теперь они становятся опасными для жизни. Нежелательные знакомства, дурные наклонности могли толкнуть человека на измену родине, а это влечет за собой презрение, месть, высшую кару. Опасность подстерегает на каждом шагу – все это столь непривычно… столь противоестественно в маленькой стране, некогда дышавшей миром, почти не знавшей бурь…
Он прислушался. В доме родной сестры он стоял и прислушивался. Она тоже прислушалась. Он заметил у нее на лице испуг.
– Неужели он здесь?
– Не знаю. У него есть ключ. Я никогда не знаю, где он. Он мне не говорит.
Все прежнее негодование разом вспыхнуло в нем:
– Так он приходит сюда?
– Я же сказала: я ничего не знаю. Он почти никогда здесь не бывает. А тебе сейчас лучше уйти.
Ему следовало бы обидеться. Он чувствовал, что имеет на это право. И в то же время у него есть долг: он обязан помочь сестре.
Но лицо ее выражало такую отрешенность, что и обида, и чувство долга тут же угасли.
– Сейчас тебе лучше уйти. И спасибо за все.
8
С моря бастион был невидим: столь естественно он сливался с берегом. С суши сюда не было доступа, но тот, кто вздумал бы подняться на невысокую соседнюю гору, увидел бы внизу череду бункеров в паутине колючей проволоки…
Берег был голый и необжитый. Но в долине фьорда стоял старый хутор с перестроенным на современный лад жилым домом, где расположилось командование укрепленной зоны. Идеальное место для воинской части – незавершенные, но уже устаревшие укрепления, более пригодные для устрашения, нежели для боевых действий. В низких строениях между скалами рядовой состав части сменялся каждый месяц, и с каждой сменой присылали все меньше людей.
Мориц фон Вакениц стоял у окна жилого дома и разочарованно глядел в туманную даль зимнего дня: затеплившийся свет вскоре поглотила серая мгла. Ни один день не оправдывал надежд, которые сулило утро. Час за часом фьорд монотонно вспенивался зеленой с белым гребнем волной, бился о мрачные скалы, хлюпал в темных ложбинах, пока власть моря не изгоняла его оттуда, и вновь отступал, обессиленный, оскудевший от прорыва своего в недра гор. Снег мутными пятнами еще лежал на скалистых склонах. Крутые ущелья, узкие лощины повсюду прорезали берег, отчего он казался неприветливым и безрадостным. И небо будто вечно текло на землю, мглистое и сырое, временами обрушивая на нее холодные валы мокрого снега.
Такова, значит, эта страна – хмурая и неприступная, совсем иная, чем он себе представлял, совсем не та, что жила в буйных воспоминаниях о веселой поездке сюда когда-то в детстве, в дни школьных каникул. Для Морица то лето навсегда воплотилось в яркие картинки с преобладанием синего цвета, будто вобравшие в себя всю прелесть природы, которая околдовала его, – самое прекрасное лето в альбоме его детства. Во время той поездки он немного выучился здешнему языку и впоследствии тоже продолжал его изучать: он взял себе за правило развивать все свои знания, ничего не забывать из того, что довелось ему когда-либо прочитать или услышать.
Его всегдашняя грусть была всего лишь пряной приправой к будням там, в Померании, на залитых солнцем равнинах, с таким многоцветьем красок, будто в каком-нибудь Арле. Здесь же мрачное состояние духа стало фоном, который с каждым днем все больше подтачивал его силы. Служебные обязанности его на этом случайном клочке береговых укреплений были немногочисленны и однообразны, большую часть работы можно было без ущерба для дела переложить на плечи двух его подчиненных, живших в бывшей людской. Оттого у Морица всегда была под рукой рюмка, которую он то и дело наполнял мозельским вином. Он пил его без жадности, не спеша, но за долгий пасмурный день выпивал две-три бутылки. Однако вино было ему необходимо: оно спасало его от страха.
Он ждал уже долго. Он начал сегодня ждать с самой зари. За Вилфредом послали машину к станции: по пути он должен был прихватить с собой Марти. Мориц решил, спокойствия ради, поселить ее в другом месте, подальше от побережья. Вечно во всех поступках своих он балансировал на грани запретного. Но при этом он ведь солдат, да, с виду он настоящий солдат.
Он поправил на себе мундир и почувствовал себя солдатом. Он был не из тех, кто расстегивает воротник удобства ради, дает себе поблажку. Совсем напротив, отправляясь проверять укрепления, он всякий раз натягивал темно-зеленые перчатки, а для любого смотра – светлые; безупречным блеском сверкали его ботинки, которые не менее пяти раз кряду он возвращал денщику для повторной чистки, когда ему присылали на эту должность нового парня. Не потому, что ботинки могли засиять еще ярче, а потому, что так велел обычай.
На кухне все уже было готово к завтраку – сегодня ожидалось изысканное угощение. Люди в этой стране придают большое значение еде, они привыкли к добротной пище и любят вкусно поесть. Мориц задумался о своем друге Вилфреде: он был словно кусок его самого, словно брат, – тепличный цветок, давший втайне неожиданные ростки, орнамент, сложный узор которого ускользал от взгляда…
У Морица было мало друзей – так сложились обстоятельства. Он встречал лишь коллег, погрязших в казарменном быте, – общество их тяготило его.
Внутренне оставаясь холодным, он был по-своему благодарен этой Марти, которая связалась с ним, не задумываясь над тем, что творит, но сохраняя какое-то изящество в своем падении – дар, на его взгляд, присущий всем европейцам. И это тоже он не рассчитывал встретить в стране, которую им рисовали как своего рода природный заповедник, населенный примитивными, но добродушными особями.
Он услышал, как кто-то бежит по гравию между домами. В прихожей он столкнулся со своим денщиком Хайнцем, тот уже держал в руках форменную фуражку, светлые перчатки и стек – все, что Мориц сделал частью своего обмундирования. Машина развернулась у дома и стала. Из нее выпрыгнул шофер и застыл у дверцы по стойке «смирно». Мориц, подтянутый, щеголеватый, вышел на обитое железом крыльцо. Чуть располневшая в последнее время от сытной еды, с легким загаром, никогда не сходившим с ее лица, Марти выглядела великолепно. Вилфред – он вылез из машины следом за ней – рядом с Марти казался особенно бледным, но улыбался своей всегдашней невозмутимой и насмешливой улыбкой.
Застолье разворачивалось с точностью военной операции. Хозяин дома восседал спиной к огромному окну, чтобы на него не давила свинцово-серая природа, словно бы вплывавшая в комнату; к тому же отсюда он лучше видел своих гостей. Чтобы в комнате стало повеселей, зажгли высокие свечи на столе, где в зеленом блюде алели раки. На всей картине была печать сознательного смешения свежести, источаемой дарами природы, с уютным теплом домашнего очага, особенно приятным в пасмурную погоду. Хайнц в белых перчатках разливал вино и подавал гостям обед, как истый метрдотель, каким он вот-вот должен был стать, когда началась война. Он поставил перед каждым чашку дымящегося бульона – единственная дань погоде, – все же прочее угощение составляли холодные блюда, малыми порциями, но подобранные со вкусом и знанием дела. Морица забавляло выражение лица Марти. При виде всех этих вкусных блюд – ни дать ни взять картинка из довоенного журнала, – на нем проступило детское вожделение.








