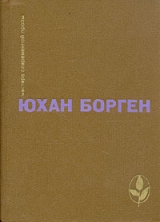
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юхан Борген
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 54 страниц)
Звонок в дверь. На этот раз – уже не условный сигнал. Роберт вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Снова звонок. Он не двинулся с места. Позвонили в третий раз, раздался легкий стук. Неужели они? Неужели конец? Он быстро оглянулся. Снова постучали, но все так же тихо. Нет, они так не стучат. Они барабанят. Он быстро вышел в прихожую и распахнул дверь. На пороге стояла Селина, его жена, – впрочем, в последние годы они были не слишком-то прочно женаты.
– Почему ты не открываешь? – Зеленые глаза сверкнули оловянным блеском.
– Я не знал, что ты знаешь…
– Впусти же меня в дом. Господи… да ведь все знают, где вы живете, хоть вы и переезжаете с места на место.
Быстрым взглядом она выхватила стол и стаканы на нем.
– У тебя гости?
– Да, у меня гость. Что тебе нужно?
– Какой гость?
– Не твое дело, – любезно ответил он.
Она шагнула к портьере, но он загородил ей путь. Она рассмеялась:
– Кто она: блондинка, шатенка, брюнетка? Красивая?
– Там нет никакой женщины.
Селина опять рассмеялась:
– Черт побери! С каких пор ты стал интересоваться мальчиками?
Он почувствовал, что краснеет.
– Тебе нужна моя помощь? – спросил он.
Она прохаживалась по квартире, заглянула в кухню.
– Тебе нужна женская помощь, – сказала она. – Но я надолго здесь не останусь.
– Дорогая Селина, – ответил он, – можешь оставаться здесь сколько хочешь, но только сделай милость, не шныряй так повсюду. И ответь мне на один вопрос. Люди говорят, будто ты угодила в сомнительное общество… правда это?
– Кто тебе сказал?
Она отвечала ему смело, с вызовом, как всегда.
Признаться, в свои тридцать восемь лет она выглядела ничуть не хуже своих добродетельных сестер, скорее напротив.
Он пожал плечами.
– Я хочу знать, правда ли это.
Она улыбнулась.
– Разве я устраиваю тебе допрос? А «люди» многое говорят – кстати, что ты и сам мог бы рассказать немало любопытного в случае, если… А скажи, есть у тебя ванная комната? Послушай, куда это ты собрался?
Он вернулся в гостиную с туалетными принадлежностями в руках и сунул их в изрядно потертый портфель.
– Ага, только я – в дверь, ты – за дверь. Нечего сказать, веселое будет у нас рождество.
Он спохватился. И правда, сегодня рождество, он и забыл совсем. Она тихо засмеялась. Она знала, чем сразить его, он был сентиментален, как школьник, несмотря на все свои патриотические деяния. Но он уже оправился.
– Я же сказал: можешь оставаться сколько хочешь. Но не требуй от меня…
Уложив вещи в портфель, он запер его. У портфеля был теперь подозрительный вид. С таким на ночь глядя опасно выйти на улицу по нынешним временам. Они оба разглядывали портфель, думая одно и то же.
– А что поделывает там твой приятель?
Она чуть приметно откинула назад голову и снова стала казаться смелой, веселой и беззаботной; когда-то все это приводило его в восторг, много лет после того, как однажды во время морской прогулки он увел Селину у Вилфреда.
– Взгляни сама, – сказал он. Но она видела, что он нерешительно топчется на месте с подозрительным портфелем в руках.
Она направилась к библиотеке. Но почему-то помедлила, прежде чем раздвинуть портьеры. Он подумал: «Ну, сейчас будет спектакль».
Тут он увидел, что она отпрянула. Лицо ее исказилось. Она зажала рот рукой, словно хотела заглушить крик. Что-то по-девичьи беспомощное вдруг проступило в элегантной женщине, одетой в короткий меховой жакет, – и где только она его раздобыла?..
Селина снова раздвинула портьеру, на этот раз уже осторожно, и на лице ее отразилась бесконечная нежность. В следующий миг это выражение сменилось испугом.
– Боже, неужели он…
– Не бойся. Он просто вкушает неправедный сон. Черт знает, где только он шлялся.
Она склонилась над Вилфредом. Из гостиной ему было видно, как длинной изящной рукой она почти коснулась головы спящего. Неужто бабы никогда не перестанут молиться на этого падшего ангела? Не то чтобы сам Роберт по-прежнему был привязан к ней, хоть она и была хороша, вся лучась порочной невинностью, роднившей ее с тем, кто спал там, за портьерой… Черт бы взял всех этих двуликих людей! Роберт все так же растерянно стоял с дурацким портфелем в руках. Затем растерянность сменилась гневом. Но и гнев рассеялся быстро, как всегда. Он думал: я же борец Сопротивления, к лицу ли мне такая уступчивость? Вечно они оставляют меня в дураках, эти люди, мечущие крапленые карты… Он чувствовал, что его тянет к ним, к их бесшабашному веселью, к озорству, ведь когда-то это был его мир…
И снова Селина будто прочла его мысли.
– Милый, – сказала она, подойдя к нему, – оставь ненадолго свои патриотические заботы, и мы втроем повеселимся немного, отпразднуем рождество, и вообще…
Он знал, что похож на обиженного мальчишку. Да он и был обиженный мальчишка – в свои-то пятьдесят четыре года!
– Ну, с этим вот типом нам с тобой нескоро удастся повеселиться…
У него вырвалось: «Нам с тобой». Он прикусил язык. Но она тут же поймала его на слове.
– Когда-нибудь ведь он проспится! Я убегаю, надо же раздобыть что-нибудь к ужину, это не так-то просто. Вот тем временем он как раз и проспится. А ты вынь из портфеля зубную щетку и все остальное и наведи в доме уют!
Она победила. Она знала это. И он тоже. Она слегка приложилась губами к его щеке.
– Кстати, не мешало бы тебе побриться, – сказала она. – А я скоро вернусь.
6
Гнусный зверь навалился на страну, отвратительными щупальцами пригнул ее к земле. Люди теперь уже привыкли к этому зверю. Не то чтобы они перестали его бояться, но они привыкли к страху. И не то чтобы они смирились со своей невыносимой долей. Но пламя, охватившее их, стало тише. Огонь, пылавший снаружи, ушел внутрь.
В новой квартире – того сверхмодного типа, который быстро становится старомодным, – старые друзья празднуют рождество. В каждом доме сейчас празднуют рождество. Люди не совсем отрешились от веселья и смеха. Очень многого теперь не купишь – ни подарков, ни еды, ни вина – всего, что обычно покупали на рождество. Но зато тем драгоценней то, что удается раздобыть. Женщины в этой стране вяжут теперь будто одержимые, вяжут усердно, как никогда. И пусть нельзя купить шерсти желаемого цвета и качества, всегда ведь можно распустить старые вещи и связать из них новые. Во многих домах сейчас сыро и холодно. И потому вязаные вещи очень кстати. Да и сама работа приятна – отчасти необходимая, но отчасти и бесполезная. И к тому же она заменяет курение. Ведь с куревом дело сейчас обстоит скверно. Да и со всем прочим тоже.
Одного лишь нынче не занимать – боевого настроения. Вот ведь какое чудо – настроение не соответствует кривой, отражающей общее положение дел, скорее, наоборот – оно будто в отместку безудержно взмывает ввысь как раз в пору, когда, казалось бы, налицо все причины для тревоги и горя. Смех и веселье далеко не всегда признак благополучия. И даже самочувствие… подчас и оно не подчинено законам причины и следствия. Сколь многие люди в опасности и беде обретают бодрость духа, которой им так не хватало в пору благополучия. Они и сами это сознают и думают: «Чудно устроен человек». Беда возвышает человека в собственных глазах, позволяет ощутить себя чуть ли не героем.
В новой квартире, где трое старых друзей празднуют рождество, еды и питья вдоволь. Зато слегка недостает веселья, все будто выжидают чего-то. Может, они вовсе и не такие уж близкие друзья, впрочем, никто из них толком этого не знает. К тому же дружба их принадлежит прошлому. Старая любовь ржавеет. И дружба тоже ржавеет. Одно лишь вино в рюмках не ржавеет. Об этом усердно заботятся все трое: они с такой скоростью опорожняют рюмки, будто страшатся, что кто-то придет и отнимет у них вино.
Да, наверно, именно этого они и боятся – или, может, чего-то другого? Может, они боятся друг друга? «Будем здоровы!» – говорят они, поднимая рюмки. «Будем здоровы!» – раздается в ответ. Не самый оживленный разговор. Роберт добродушно произносит:
– Значит, надо было случиться войне, чтобы мы трое снова встретились?
Вилфред учтиво улыбается. А Селина – нет. Она не станет тратить время на зряшную учтивость, когда в рюмках ждет вино. Вилфред узнает эту ее повадку, узнает и другое – она никогда не хмелеет после первых рюмок. К тому же ей надо приглушить сильное возбуждение. А вот ему глушить нечего. Он забыл ее, забыл, насколько это может человек, которому еще далеко до маразма. Он помнит ее как живописную фигуру на носу лодки, в брызгах и россыпях воды, в свете радуги. Черты лица те же, та же фигура… Она великолепно сохранилась. Но все это не будит отзвука в его душе. Как и память о том, что когда-то давным-давно они точно так же сидели втроем в хижине в Нурмарке. Тогда они были молоды. Но никто из троих особенно не чувствует бремени лет. Идет война. Но даже и этого они будто не чувствуют. Сегодня рождество. И всякий раз, вспоминая об этом, они говорят: «Будем здоровы!»
Повсюду в городе, повсюду в стране люди сейчас говорят друг другу: «Счастливого рождества!», а на Новый год скажут: «С Новым годом, с новым счастьем!» – и значительно заглянут друг другу в глаза: что-то ведь должно непременно случиться. Что? Да хоть что-нибудь. В стране да и во всем мире. Должен произойти решающий перелом.
– С кем я? – неожиданно начал Вилфред. – Ты, кажется, хотел знать, с кем я? Во-первых, я ни с кем, практически я никогда ничьей стороны не принимаю. Вообще вы всегда употребляете такие выспренние выражения!
– Вы? – переспросил Роберт.
– Ну, если хочешь, все люди по нынешним временам. Они теперь рассуждают с пафосом о самых простых вещах. Все время одних презирают, другими восхищаются, на каждом шагу убивают кого-то в мысленной своей кровожадности. Я все понимаю, но, черт побери, так убивайте же на самом деле, те из вас, кто посмелей!
– Ну, ну… кажется, мы хотели приятно провести вечер?
– Сегодня рождество, – сказала Селина. Она не поднимала глаз от вина. Вынув зеркальце, она напудрилась, но казалось, взгляд ее смотрит сквозь зеркало.
– Андреас… – заговорил Роберт, – помнишь Андреаса, с которым ты учился в одном классе? Выпьем за него! Выпьем за всех наших друзей, что томятся в тюрьме!
Вилфред сидел и смотрел на Роберта, героя сотен ресторанных битв, в которых было так много раненых и так мало победителей. Он размышлял о добродушном цинизме Роберта, оборачивавшемся безграничной терпимостью. Из цинизма Роберт был добр и сентиментален, чуть ли не религиозен. Не цинизм ли сделал его патриотом?
– Он пострадал за?.. – осторожно спросил Вилфред.
– Многие из наших пострадали, – прозвучал ответ. – Андреасу пришлось туго.
Вилфред не посмел даже улыбнуться… Что-то непохоже на правду. Придется зайти с другого конца:
– Неужели он в самом деле?..
Клюнуло. Клюнуло, черт побери!
Роберт состроил неприступную мину – мину человека, который знает больше, чем говорит.
– Андреасу пришлось туго, – мрачно повторил он. – Выпьем! – воскликнул он тут же, словно желая переменить разговор – из страха выболтать лишнее.
– А ты не думаешь, положа руку на сердце, что Андреас и без того непременно угодил бы в тюрьму, вне зависимости от всякой войны? Он в ту пору такие дела обстряпывал…
Вот этого ему не следовало говорить. Обида вспыхнула в глазах Роберта – взгляд раненого оленя. Взгляд этот негодовал: «Мало ли что было в ту войну! Кто бы в ту пору не польстился на выгодную сделку? Не надо путать одно с другим. Та война была совсем иного рода… Зато эта война настоящая!..»
Они выпили. Вилфред чувствовал, что быстро хмелеет. Его вырвали из сна, безграничного и бездонного. Две недели он жил в таком напряжении, что теперь ему казалось, будто с него содрали кожу. На большом хуторе он в этот раз гостил недолго… не то чтобы Мориц отказал ему от дома – просто служебные дела его складывались хуже некуда. Он был издерган и раздражителен да и, судя по всему, напуган. Марти, подружке его, которую привел ему Вилфред, пришлось покинуть хутор. Вмешались придирчивые начальники – из тех, на которых вдруг находили приступы нравственности. Короче говоря, из какой-то ставки был получен приказ, чтобы офицеры вели себя как следует и подавали тем пример нижним чинам.
– Неужто ты всерьез полагаешь, что все немцы – бандиты и подлецы?
Роберт прокашлялся:
– Вопрос не в том, что полагаю я, а в том, что следует принять на веру. Мораль…
– Ах, мораль? Все теперь рассуждают о морали…
– Мораль нуждается в упрощении. Я, к примеру, не убежден, что от немцев воняет. Но я радуюсь, когда люди уверяют, что это именно так. – Роберт продолжал с еще большей настойчивостью: – Ты что, не понимаешь: это же военная необходимость – упростить некоторые понятия до уровня, который ты, несомненно, назвал бы вульгарным?
– И потому объявить всех, кто придерживается иного мнения, изменниками родины – так, кажется, это называется?
Роберт уже не мог больше сдерживаться:
– Да, именно так это и называется. Ты все понял совершенно верно, как всегда.
– Все вы, да и ты сам, надеетесь отделаться на веки вечные от бремени своей вины. Взять, к примеру, наши спекуляции в годы минувшей войны или достаточно вспомнить угрызения совести, донимающие тебя с детских лет: как-то раз во время парусных гонок вы промчались мимо опрокинувшейся лодки и не остановились. А человек утонул.
Роберт снисходительно улыбнулся.
– Согласен, это кажется слишком просто. Да оно так и есть. И все же это правда. Тот самый случай из детства… И то, что в годы прошлой войны мы бессовестно наживались на чужих страданиях… Что ж, мы начали новую жизнь – иного объяснения не сыщешь.
– Кто это «мы»?
– Мы, – начал Роберт и продолжал уже без малейшего наигрыша, – мы это все, связанные общностью. Все, кто с нами, в противовес другим, в противовес вам, если я верно понял… Что ж, я готов признать: может, те заблудшие юнцы, которые дают себя завербовать на Восточный фронт, и движимы слепым идеализмом… Но вот те, что отсиживаются здесь, в тылу, да при том еще наживаются за чужой счет!..
На лице Роберта застыло выражение бесконечного презрения к подлым любителям наживы, с которыми сам он порвал навсегда.
– Вы так спешите осудить всех, кто наживается за чужой счет, – медленно проговорил Вилфред, – раньше с этим так не спешили. Я, к примеру, сколько живу на свете, всегда наблюдал, как одни наживались за счет других – соотечественников своих или же других угнетенных. Всегда кто-то в выигрыше, а кто-то – в накладе…
Роберт перебил его:
– Может, скажешь, недавнее происшествие у границы – тоже всего лишь патетический жест?.. Нет уж, будь добр, не притворяйся, будто не слышал об этом: перед самым носом у пограничной стражи появился человек в немецком мундире и освободил группу беженцев. Кстати, говорят, беднягу схватили и замучили до смерти.
Селина спросила:
– Как это случилось – с рукой твоей?
Тихие беседы и споры идут сейчас в тысячах других домов. Одни – фанатики, другие держатся умеренных взглядов, а у некоторых, похоже, вообще нет никаких взглядов. Гнусное чудовище придавило страну грязными щупальцами, и в сердцах бушует огонь… Накал, пьянящее чувство опасности…
Всюду теперь накал и всюду – опасность. Некоторым известно все, что происходит, а хорошо информированным людям известно даже больше. Многие предпочли бы вообще ничего не знать, но они ловят, глотают каждое слово, как глотали бы волнующие страницы детективного романа. Про одних говорят, будто они ходят по краю пропасти, про других – что они плывут по течению, и это тоже один из нынешних оборотов, выражающих высшую степень презрения. Но никто вслух не упоминает о таком варианте: быть и с той, и с другой стороны в тайной войне, где, казалось бы, предел возможного – не держать ни той, ни другой стороны. О непостижимом не рассуждают. И раньше об этом тоже не рассуждали – о неуправляемом разуме, не желавшем признавать никакие «стороны», а неизменно порхавшем так, словно это порхание – самоцель, в ничейной полосе, где можно до отчаяния насладиться гордым одиночеством.
Но, может, в этой тяге к одиночеству нет гордыни? Кто он – отчаявшийся одиночка в этом безупречном наборе героев и подлецов? Вилфред не знает этого. Или, может, он просто любит себя самого, и только себя, столь безудержно, что в душе его нет места дружбе – а может, напротив, он себя презирает? Он не знает и этого…
Он говорит:
– Подобные героические поступки обычно своего рода жертва…
Но Роберт настороже, он не допустит снижения идеала. Слишком велика была бы утрата.
– Далось тебе это чувство вины! – презрительно говорит он. – Не хочешь ли ты убедить меня, что всякий подвиг – всего лишь своего рода искупление?
А Вилфред и этого не знает. Он знает об этом еще меньше, чем Роберт, хотя он единственный из всех знает, что же именно произошло на границе… Вот собрались вместе давние друзья, бесконечно далекие друг от друга, но, хотя они спорят решительно обо всем, кажется, будто враждебность сникает. Спор постепенно рождает подобие примирения. Как знать, может, они были еще дальше друг от друга в ту пору, когда были близки, тогда, в лесной хижине или в джунглях ресторанной жизни. Так редко человек встречается с человеком, самое большее – раз или два в жизни. А иногда встречи и вовсе не происходит…
Когда-то в Париже – будто сто лет прошло с тех пор – кучка молодых людей сделала своим кредо слова Д. Г. Лоуренса: «Я – это я. Душа моя – темный лес. Диковинные божества выходят из этого леса в световой круг признанного моего „я“, – выходят, чтобы вновь скрыться в лесу. У меня достанет мужества смотреть, как они появляются и исчезают. И я никогда не позволю человечности возобладать надо мной…»
Вилфред вспоминает об этом с иронией. Он глядит на Роберта, которого, в сущности, столь мало знает, и думает: пожалуй, все люди склонны принять на веру ту или иную теорию и ловко вычеркивают из нее все, что им не по нраву.
Покладистый Роберт, никогда не вздымавший знамя той или иной идеи, самое большее – размахивавший шелковым носовым платком, с чего это он вдруг так взъярился? Чем-то устраивает его ситуация, не оставляющая ему места для сомнений, – значит, он обрел в ней спасение. Роберт говорит:
– Что за страсть сводить все убеждения к какому-нибудь неблаговидному мотиву!..
Презрительно ухмыльнувшись, Роберт подкрепляет свои слова очередным глотком – и еще одним. Ему приятно сидеть вот так и ссориться с другом, перед которым он в свое время благоговел, когда надменный нигилизм был в моде.
– Человек должен во что-то верить! – говорит он.
Подавшись вперед, Вилфред невольно улыбнулся.
– Да, черт возьми! – воскликнул Роберт, внезапно захмелев от скверной водки. – Эти твои надуманные искания для меня все равно что тьфу… – И он щелкнул пальцами перед носом у своего приятеля прежних лет.
Приличия ради вмешалась Селина. Она медленно потягивала вино и сейчас только ощутила хмель. Но она хотела, чтобы в доме царил мир. Ради этого мира она взяла воинственный тон.
– Не ссорьтесь на рождество! – закричала она. – Вино-то ведь я раздобыла!..
Ей самой хмель тоже ударил в голову. Резко взмахнув рукой, она задела бутылки, которые полетели на пол. В следующий миг все трое уже резво ползали по полу, пытаясь спасти напитки. Это был мир, скрепленный общим старанием подхватить бутылки, не дав пролиться бесценной влаге, и поскорей убрать битое стекло.
Суета на полу соединила их. Что-то в этом напоминало прежние дни. Потом они сидели, отдуваясь, совершенно протрезвев. Роберт проговорил примирительно:
– Просто я не терплю, когда умаляют геройские подвиги вроде того, что произошел у границы!
И тут же от собственных слов кровь снова бросилась ему в голову. Он стал вспоминать другие героические подвиги – и вспомнил. Роберт обожал героические подвиги, и обожал дружеские споры о принципиальных вопросах – он был теперь заклятый враг всяческого оппортунизма. Он унизил себя, согласившись встретить рождество в обществе сомнительного субъекта, который к тому же признает себя таковым. Что ж, зато он с пылом ринется в бой за великое дело.
Роберт вспоминает: ведь он чуть-чуть не позвонил кое-кому насчет Вилфреда. Наверно, так и надо было сделать, посоветоваться, что ли… Именно так ведь и делают. Старая дружба не в счет, если только этот Вилфред и вправду… Он уже мысленно называл его «этот Вилфред». Хорошо так вот сидеть и быть беспощадным. Иные семьи теперь расколоты, супруги – по разные стороны баррикады… В этот миг беспощадной справедливости Роберт ощутил высокий подъем духа:
– Мы выказываем терпимость уже одним тем, что выслушиваем тебя…
Вилфреду нечего возразить. В самом деле…
– У нас нет никаких гарантий, что… – продолжал Роберт. Он все время не заканчивал фразы. Сейчас он угрожал тому, другому, но был слишком хитер, чтобы запутаться в сетях собственных слов. Он говорил «мы» – как бы от имени многих других. Роберт великодушно включил в это «мы» и Селину, хотя за последний год почти потерял ее из виду.
Заботливо, как положено хозяйке, она произнесла:
– Наверно, пора нам что-нибудь поесть.
И они едят – острое, быстро состряпанное блюдо: рыбу, запеченную до неузнаваемости.
Но Роберт возбужден собственными речами.
– Я не позволю насмехаться над «внутренним фронтом»! – заявляет он, прожевывая рыбу. Он весь дрожит от приятного возбуждения. Сейчас бы хорошую драку!
И Вилфред тоже дрожит – от досады, вызванной этим потоком слов, от усталости. Черт побери, зачем только они его разбудили?
Он мог бы пойти к своей матери на Драмменсвей, хоть сегодня мог бы туда пойти. Но, кажется, его визиты ее не радуют. Она догадывается, что у него дурные связи, что он ведет жизнь, которая сама по себе уже измена, что он распространяет вокруг себя яд. Как-то раз он имел неосторожность заметить: «Смешно, что дядя Мартин, прежде всегда недовольный системой правления да и всем прочим в стране, стал теперь таким ревностным демократом!» Ему не следовало бы это говорить, но ведь раньше мать никогда не любила громких фраз. Она ответила: «Теперь другое время». Она никогда не ныла. Но, кажется, не преминула позаботиться кое о каких благах. Что ж, героический голод не для нее…
– Твоя рука… – настойчиво пыталась вернуться к прежнему разговору Селина. Она теперь уже с трудом ворочала языком. Она ведь никогда не любила закусывать после выпивки. Вилфред не стал прятать руку. Он то поднимал ею бокал, то свертывал сигарету. Селина со страхом коснулась этой руки. Он быстро вскинул ее, словно желая ответить на прикосновение легкой лаской, но Селина отшатнулась.
– Черт с ней, с рукой этой! – грубо оборвал ее Роберт. – Мы не о том сейчас толкуем! Про эту руку рассказывают многое: будто эта самая рука…
Он по-прежнему не заканчивал фраз. Он понял вдруг, что может сейчас вывести этого типа на чистую воду и, когда пробьет час, это зачтется ему. Может, тот ничего еще не совершил, может, не все правда, что про него болтают, но рассуждает он как предатель и этого уже довольно, чтобы расправиться с ним. Роберта вдруг осенило: сейчас нельзя выпускать этого типа из дома – так велит ему долг…
Мысленно он исторгал у него немое признание: «Да, я нацист, нацист душою, короче – человек, который презирает людей, и я презираю тебя… Некоторые люди рождены властвовать над другими – рабский дух они обращают в его противоположность и благодаря этому властвуют, и ты знаешь это, и я это знаю, и черт бы взял твою жалкую ложь насчет достоинства человека… И еще потому я нацист, как ты молча именуешь меня, что я поклоняюсь самому дешевому мифу, предпочитая его мутному интеллектуализму… и плевать я хотел на твою демократию и на социализм, все это лишь ярлыки, мы, избранные, одинокие и безжалостные, нуждаемся в поклонении и мы приучаем к нему глупцов, используя их рабский дух…
Так пей же, черт побери, жалкий обманщик, и пусть вино придаст тебе смелости пойти к телефону и позвонить приятелю или знакомому, из тех, кто связан с тобой этой самой вульгарной общностью, а затем – поспеши пристукнуть человека, который не прочь покончить счеты с жизнью, только что ему самому неохота с этим возиться… Так ступай же к телефону, черт бы тебя взял, не забудь понизить голос, а после возвратись с оружием под плащом, как делали убийцы во все времена… Но поспеши, пока похоть и водка не привлекли твой взгляд к прелестям Селины, которая в рассеянности уже сбросила с себя кое-что из одежды. Поторопись же… Потому что я – воплощение всего, что ненавидишь ты, защищая свою дурацкую любовь к человеку. Одним моим существованием я отрицаю твою веру – твой оптимизм вянет, у тебя опускаются руки и иссякают силы… Так будь же героем, братом людей, а главное – правоверным!..»
Они свирепо, с пьяным трагизмом, буравили друг друга взглядами в безмолвном споре, где подсудимый вдруг вырос в обвинителя; но, сознавая всю тщету слов, продолжали хранить враждебное, нескончаемое и загадочное молчание: один – настороженно-выпытывающее, другой – дерзновенно-вызывающее в своей саморазоблачительной ярости; и оба прекрасно понимали друг друга…
«А может, ты и прав, ты вкупе со всеми прочими правоверными! Что может породить презрение? Лишь ответное презрение. Но заслуживает ли твой „человек“ любви? Те, кто стремится к власти, кому охота ее осуществлять, сами берут ее себе, вам же остается смирно сидеть в своем углу и, гордясь своим человеческим званием, прислушиваться к свисту кнута… Они умеют использовать свой материал – человеческий материал, для них все одно – что люди, что муравьи: отработав, пусть себе подыхают и те и другие, муравей сделал свое дело – и конец!.. А я? Я плевать хотел и на господ, и на рабов, но сердцем и умом я на стороне господ. Одинокий всегда беспощаден, и мир принадлежит ему, а не мученикам и угнетенным…»
Роберт, устав от всех этих невысказанных слов, спросил:
– Когда же ты стал таким?
– Почему стал! Я всегда был таким…
Роберт сидел не шевелясь… Он растерянно оглядывался вокруг, раздраженный, недовольный собой. Настало время решиться. Но все вокруг него сделалось смутно и темно. И он остался сидеть, зная, что должен был бы решиться…
Селина уже успела снять с себя почти все. Очевидно, ложно истолковала яростные взгляды, которыми жгли друг друга противники.
– А что, если оба? – радушно предложила она. Селина воображала, что вся ссора – из-за нее…
Оба яростных противника устало улыбнулись. Первый как бы сказал второму: «Возьмите меня, я признался во всем, я виновен – по крайней мере для вас, судящих человека за его мысли».
Другой ответил: «Мы возьмем тебя, когда придет срок».
Многие вот так затаились и подстерегают друг друга. Кто-то сейчас водит хоровод вокруг елки за темными шторами в отблеске рождественских свечей. Кто-то спешит от дома к дому, в городах или селах, выполняя мелкие задания, имеющие, однако, важный смысл…
Гнусный зверь простер лапы от одного берега к другому, через все горные хребты. Он не замечает булавочных уколов, или все же, может, замечает? Он ведь бдительно следит за всем. И может, чувствует боевой пыл, и оттого земля страны, на которой он разлегся, кажется ему жесткой и неудобной.
Никто ничего не знает наверняка, и это-то рождает у иных сомнения: а стоит ли игра свеч, стоит ли приносить жертвы: ведь всякий раз, когда кто-то ударит его ножом, зверь лишь занесет тяжелую лапу, одну из многих, и бьет…
Никто ничего не знает наверняка. И от этого растет накал, и он виден на лицах, даже в отблеске рождественской елки.
7
Консул Мартин Мёллер принадлежал к числу тех, кто сильно сдал за годы войны. Когда он поднимался по низким ступенькам лестницы в квартиру своей сестры Сусанны Саген на Драмменсвей – в этот февральский вечер над голыми деревьями аллеи висели свинцово-серые тучи, – ему казалось, будто и небо давит на него своей тяжестью. Все давило на него. Может, оттого он и ссутулился, подобно многим другим в лихие нынешние времена. Куда девался природный румянец щек, почтенная округлость живота, даже холеные руки?.. Вместо того чтобы выставить все это напоказ, тело консула с годами согнулось в дугу. На площадке перед дубовой парадной дверью он остановился перевести дух. Ему не хотелось признаваться себе, что сердце и легкие нынче вели себя предательски.
Дверь ему открыла пожилая горничная, и это было для него некоторым утешением – будто повеяло дыханием минувших дней: горничная в белоснежном чепце на седых волосах. Этой женщине была совершенно чужда развязная бойкость и суетливость, которые царили теперь повсюду: сколь ни трогательна человеческая солидарность, нынешние времена породили несколько тягостное единение между верхами и низами в этом вывернутом наизнанку обществе.
На секунду консул задержался у зеркала в просторном холле с неизменно зажженным камином (где только по нынешним временам раздобывала его сестра такие березовые поленья?) и решил, что зеркало – не слишком объективный прибор. Его ссохшаяся фигура смотрела на него из старого, хорошо знакомого зеркала, оно словно смеялось над ним, дразнило воспоминаниями, и в гладкой стеклянной поверхности, казалось, скрывался отблеск всех пролетевших дней. С ужасом разглядывал он морщины на своем лице, свое усохшее тело. Одно дело – мимоходом взглянуть в случайное зеркало, другое – стоять перед вот этим: старые зеркала хранили все прежние образы и воспоминания, все, что принято называть атмосферой, – с годами это стало мукой.
И когда пожилая горничная распахнула двери в гостиную, ему вдруг показалось, будто все вновь повторяется с подлой дотошностью: его визит к младшей сестре, его тревога, которой он считал необходимым с ней поделиться, – казалось, все это лишь насмешливый отзвук былого. Все чаще и чаще возникало у него подобное чувство. Он был склонен объяснять его возрастом: все уже когда-то изведано и пережито. Но объяснение не удовлетворяло его, словно какая-то часть тайны так и не раскрылась до конца; осталась тревожная догадка, что уже само повторение былого подтверждает самые худшие опасения.
И вот он снова прилетел сюда как зловещая птица, как вестник из того бурного мира, от которого его очаровательная, но слишком беспечная сестрица так мастерски умела отгораживаться. Он всегда восхищался этой ее способностью. Спокойно смотреть, как мир катится в пропасть, коль скоро ты все равно не в силах этому воспрепятствовать, пожалуй, для этого нужно своего рода мужество. И без того хватит нытиков, надеющихся от чего-то застраховаться своим нытьем, уйти от ответственности…
Мысль эта неприятно поразила его. Он стоял в раскрытых дверях – волнующий миг – и старался не допускать в свое сознание истину, что, может, сам он не мужественный человек. Еще секунда – и он увидел сестру, вышедшую ему навстречу. Он поймал себя на том, что пытливо всматривается в ее лицо – все нынче взяли себе неприятную привычку пристально изучать друг друга. Он и прежде этим грешил – теперь он мог в этом признаться, теперь все видишь, как говорится, новыми глазами… Но то, что должно было его успокоить, возымело обратное действие: сестра почти не изменилась, ее формы сохранили приятную округлость, возможно, она даже несколько располнела, несмотря на скудость нынешних трапез. Ее цветущий вид был сейчас неприличен. Как и эта обворожительная ее улыбка – будто насмешка над его собственной и всеобщей непрестанной тревогой.








