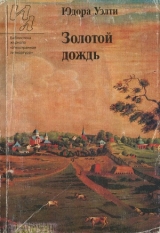
Текст книги "Золотой дождь (рассказы)"
Автор книги: Юдора Уэлти
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Тихо, не дергайся.
Она никогда не сознавалась, что ей больно, больно или тяжело, – в чем угодно, только не в этом. Если мне случалось ей отказывать, она тихонько напевала. А когда мы уходили к себе, разговаривала со мной тихо-тихо и ласково, выказывала свою полную покорность. Как я ее любил тогда. Мою обманщицу. Я ждал, а она воткнула иголку и потянула к себе рукав вместе с моей такой беспомощной рукой. Можно подумать, она считала мой пульс. Я выдохнул – и ярость моя ушла с выдохом, а со вдохом пришла досада, одна досада: ну зачем она еще живет, зачем не умерла. Она с шиком перекусила нитку. Когда ее губы отдалились, я едва удержался на ногах. Вот обманщица.
Я не посмел проститься с Джинни – что толку.
– А теперь можешь играть в крокет, – сказала она.
И тоже пошла наверх.
Когда я проходил через кухню, Телли плюнула в печку, хоть ей и плевать-то было нечем, и с сердцем грохнула крышкой. Мейдин сидела на качелях на веранде. Я велел ей идти на крокетную площадку, и мы все вместе стали играть в любимую Джиннину игру, без Джинни.
Возвращаясь к себе, я увидел, как мисс Билли Тексас Спайтс стоит у себя во дворе в халате и нахлестывает цветы, чтобы они побыстрее распускались.
Отец! Господи, сделай так, чтобы этого не было. Сделай так, чтобы этого не было, не было совсем. Не допусти такого!
Мисс Франсин все же подкараулила меня в холле.
– Сделай такую милость, Ран. Сделай такую милость, избавь Беллу от страданий. Учительницы для такого дела не годятся, я тоже. Сегодня мой друг придет к ужину, но он слишком сердобольный. Уж ты возьми это на себя. Возьми это на себя, но потом нам ничего не рассказывай.
Куда ты ходил, сынок, в такой поздний час. – Никуда, мама, никуда. – Вот если бы ты жил со мной, – сказала мама, – да если бы еще Юджин не уехал. Но он уехал, а ты никого не хочешь слушать. – Душно, мама, оттого и не спится. – Я не ложилась, сидела у телефона. Господу не угодно, чтобы мы разлучались. Чтобы ты уехал и мы отдалились. Отдалились друг от друга, и ты бы жил далеко от меня в какой-то скверной комнатенке.
– Помню твою свадьбу. – Старая миссис Муди остановилась у моего окошечка, кивает мне из-за решетки. – Вот уж не думала, что все так обернется: ведь какая красивая свадьба была и как долго гуляли – второй такой и не припомню. Слышь, будь эти деньги твои, ты мог бы уехать.
Мне уже начало надоедать, и довольно-таки изрядно, что Мейдин меня поджидает. Когда она повествовала – как всегда по доброте сердечной – о "Крупах и кормах", у меня появлялось ощущение, что меня загнали в угол. Сколько себя помню, старый Муди расставлял вдоль дорожки противни с лущеной кукурузой и чем-то еще вроде мелкой дроби. Окно у него было такое мутное, что могло сойти за витраж. Она его отмыла, не пожалела сил, и все увидели, как загромождают лавку бочки, и канистры, и мешки, и лари с товаром, и как старый Муди с козырьком над глазами восседает посреди лавки на табуретке и складывает из ниток колыбель для кошки, а Мейдин кормит птичку. Окно и дверь она убрала коробочками хлопчатника, потом она сменит их на сахарный тростник, а на Рождество, сказала она, надо бы поставить елку – она уже сейчас обдумывает, как это устроить. Кто знает, чем она собирается украсить елку старого Муди. Потом она сообщила мне девичью фамилию своей матери. Фамилия Соджорнер увенчала, чуть не обрушив, ту кучу сведений, которыми она обременила мою память. Запомнить, навеки запомнить фамилию Соджорнер.
К тому же вечерами нам всегда приходилось отвозить домой девчонку Вильямсов. Она замечательно играла в бридж. А Мейдин никакими силами не могла его освоить. Мейдин: я так ни разу и не поцеловал ее.
Но вот наступило воскресенье, и я повез ее в Виксберг.
Не успели мы выехать, а я уже затосковал по бриджу. Можно было бы составить партию, как в прежние времена: Джинни, Вуди, я и Нина Кармайкл, а не она, так Несбитт-младший, а то и они оба, и засесть на весь вечер. Мисс Лиззи уж точно отказалась бы играть – не захотела бы составить нам партию: она не находила оправдания ни одному из нас, вдобавок она не выносила Несбиттов. Обычно выигрывал я – случалось, выигрывала Нина, но ее больше занимал Несбитт, чем карты, и бывало, она и вовсе не приходила, а бывало, Несбитт не приходил, и тогда нам ничего не оставалось, как звать девчонку Вильямсов, а потом отвозить ее домой.
Мейдин теперь не старалась разрядить наше молчание. Сидела с женским журналом в руках. Время от времени переворачивала страницу, предварительно послюнив палец, – точь-в-точь как моя мать. Когда она поднимала на меня глаза, я отводил взгляд.
И что ни вечер обыгрывал их. Потом, уже у мисс Франсин, мне становилось тошно, и я уходил во двор, чтобы не давать пищу любопытству учительш.
– Пора бы тебе отвезти девиц домой. Не то их матери будут беспокоиться, – раздавался голос Джинни.
Вильямсова девчонка, а за ней и Мейдин вставали, и я думал: какой она верный человек – ведь что только ей из-за меня не приходится сносить.
Она совсем осовела – так ей хотелось спать. И откидывалась все дальше и дальше назад в кресле. Хотя от ромовых коктейлей она отказалась, но просто умирала, до того хотела спать. В машине по дороге домой, где ее уже порядком всполошившаяся мама, во девичестве Соджорнер, не ложилась спать, напряженно вслушиваясь в тишину, она дремала. Время от времени я будил Мейдин, рассказывал, где мы проезжаем. Девчонка Вильямсов щебетала на заднем сиденье и до самого своего дома не смыкала глаз – ну сова и сова.
Виксберг: тридцать километров по гравию, через тринадцать мостиков и Биг-Блэк-Ривер. Кто знает отчего, только ко мне вернулась былая острота ощущений.
Я глядел на Моргану слишком долго. До тех пор, пока улица не оборотилась карандашной линией на горизонте. Улица была там же и та же – зубцы красного кирпича, две колокольни, цистерна с водой, но если я и видел ее, то уже не глазами любви – вот она и представлялась мне карандашной линией на горизонте, трясущейся в такт хлопкоочистительной машине. И когда навек запечатлевшиеся в памяти декоративные красные фасады, сцепленные друг с другом, как вагончики игрушечного поезда, проносились мимо, они уже не будили во мне детских воспоминаний. Я заметил, что старый Холифилд повернулся ко мне спиной – он сердился, и не на шутку сердился, у его подтяжек и то вид был сердитый, ух и сердитый.
В Виксберге я остановил машину в начале улицы под городской стеной у канала. Улицу заливал тот особенный слепящий, зыбкий свет, какой бывает около воды. Я разбудил Мейдин, спросил, не хочется ли ей пить. Она пригладила юбку и, услышав шуршанье колес по булыжнику за городской стеной, вскинула голову. Я смотрел, как к нам, вспарывая ленту канала, плывет моторка, игрушечная, точно лошадка-качалка.
– Наклони голову, – сказал я Мейдин.
– Нам сюда?
Солнце закатывалось. До острова – зарослей ивняка, сквозь чьи прихотливо переплетенные желтые, зеленые ветки беспорядочно, как сквозь дно корзины, просачивался свет, – было рукой подать. Мы стояли, чуть пригнув головы и прикрыв глаза, в низенькой кабине. Негр-перевозчик не сказал нам ни слова – ни тебе "входите", ни "выходите".
– Куда это мы едем? – спросила Мейдин.
И двух минут не прошло, как мы причалили к барже. В тамошнем баре – тихом, богом забытом заведении, похожем на сарай, видавшем виды и вышедшем в тираж, – не было ни души, один буфетчик. Я не препятствовал ему принести нам ромовые коктейли на палубу – там стояли ломберный столик и два стула. Стояли под открытым небом. Мы сидели в баре, солнце заходило со стороны острова, отчего Виксберг на другой стороне канала вырисовывался особенно четко. Нам виден был одновременно и восток и запад.
– Не заставляйте меня пить. Мне не хочется, – сказала Мейдин.
– Нет, ты выпей.
– Пейте, если хотите. Не надо заставлять меня.
– Нет, выпей и ты.
Я смотрел на нее – она пригубила бокал и сидела, прикрыв глаза ладонью. Из гнезда над проволочной сеткой в двери пикировали осы, они вились над ее волосами. Запах рыбы мешался с запахом плавучих корней, густой бахромой оторочивших остров, клеенчатой обивки столешницы, засаленных карт. Пришла моторка, до отказа набитая неграми, они высыпали из нее, с ног до головы ядовито-желтые, запорошенные хлопковой мукой. Гуськом скрылись в барже для цветных, каждый нес по ведру с таким видом, словно приговорен к тяжелому наказанию.
– Я правда же не хочу пить.
– Послушай, ты выпей, а если тебе не понравится, скажи мне, и я свой бокал вылью в реку.
– Тогда будет уже поздно.
Проволочная сетка не мешала мне следить за тем, что делается в салуне. Вот вошли двое мужчин, под мышкой у каждого было зажато по черному петуху. И тот, и другой беззвучно уперли грязные башмаки в перила стойки и пили, петухи сидели смирно. С баржи они ушли на остров, где тут же растворились в окутанном маревом ивняке. И не исключено, что пропали навсегда.
Марево зыбилось над водой, зыбилось оно и вдоль очерков старых белых особняков, бетонных плит и крепостных стен по другую сторону канала. С баржи Виксберг казался собственным отражением в потемневшем от старости зеркале… портретом, написанным в грустную пору жизни.
А вот совершенно одинаковой походкой вошли приземистый ковбой с девушкой. Бросили пять центов в музыкальный автомат и слились в объятии.
Волн не было видно, и все равно у нас под стульями колыхалась вода. Она не давала о себе забыть, как треск огня в камине в зимнюю пору.
– А вы никогда не танцуете, – сказала Мейдин.
Ушли мы лишь вечность спустя. На баржу съехалось довольно много народу. Приехал сюда потанцевать и старый Гордон Несбитт… Когда мы уходили, и белая, и цветная баржи были битком набиты и уже основательно стемнело.
На берегу – в прогалах между сараями, складами, чьи длинные стены грозили обрушиться, – горели редкие огни. В вышине на городском валу звонили старые, еще времен осады колокола.
– Ты католичка? – бог знает почему спросил я.
Католичка не католичка, что мне за разница, но я поглядел, как она стоит на палубе, а в воздухе разносится звон теперь лишь одного, такого чужого, колокола, и дал ей понять, что она в чем-то обманула мои ожидания, – и так оно и было.
– Мы баптисты. А вы разве католик? Вот вы кто?
Не прикасаясь к ней – разве что случайно коленом, – я повел ее вверх по крутому, в выбоинах склону туда, где, перекосясь, стояла моя машина. Уже в машине она никак не могла закрыть за собой дверь. Я стоял и ждал, но дверь не поддавалась – она ведь выпила все, что я ей наливал. И вот – не могла закрыть дверь.
– Закрой дверь.
– Я выпаду. Выпаду вам на руки. Я выпаду, а вы меня подхватите.
– Не выпадешь. Закрой дверь. Кроме тебя, ее закрыть некому. Мне несподручно. Хлопни посильней.
Закрыла наконец. Я привалился к дверце, придавил ее.
Сжигая резину, преодолел один крутой уступ за другим, свернул к реке, поехал вдоль прибрежных утесов, опять свернул, на этот раз на грунтовую, изрытую глубокими колеями дорогу, петляющую под буйно заросшими откосами, темную, стремительно уходящую вниз.
– Не приваливайся ко мне, – сказал я. – Сиди прямо, дыши глубже – так тебе будет легче.
– Не хочу.
– Подними голову. – Я с трудом разбирал, что она говорит. – Хочешь прилечь?
– Не хочу.
– Старайся дышать глубже.
– Мы ничего не хотим, Ран, ничего не хотим, ныне и присно и во веки веков.
Петляя, мы спускались все ниже. Тьма сгустилась, шум реки нарастал – она швыряла, волокла за собой свой тяжкий груз, груз хлама. Грохот стоял такой, словно крепостная стена стронулась с места, а через нее, плещась невинно, как дети, перекатываются и ящерицы, и вырванные с корнем деревья, и выброшенный людьми мусор. Вонь волной хлестанула меня по лицу. Дорога здесь совсем ушла вниз – казалось, мы едем по туннелю. Не иначе как мы попали на дно мира. Деревья сомкнулись сводом над нашей головой, их ветки спутались, кедры сплелись друг с другом, и звезды Морганы, проглядывавшие сквозь них, казались рассыпанной по небу крупой, – и до чего же они были высоко, до чего далеко от нас. Где-то в стороне послышался выстрел.
– А вон и река. – Она привскочила. – Я вижу – вон она, Миссисипи.
– Ты ее не видишь, только слышишь.
– Нет, вижу, вижу.
– Ты что, никогда раньше реки не видала? Несмышленыш ты.
– Я думала, мы катаемся на лодке. Где мы?
– Дорога кончилась. Ты разве не видишь? Ты же сама видишь.
– Видеть-то я вижу. Только зачем дороге идти так далеко, если она обрывается здесь?
– Откуда мне знать?
– А зачем людям сюда приходить?
– Разные бывают люди.
Издалека несло гарью.
– Плохие люди, ты это имел в виду? Нигеры?
– Да нет, рыбаки. Те, кто у реки живет. Смотри, вот ты и проснулась.
– Похоже, мы потерялись, – сказала она.
Мама сказала: Я и думать не могу, что ты вернешься к этой Джинни Старк, я бы этого не пережила. – Нет, мама, я к ней не вернусь. – Всему свету известно, как она с тобой поступила. Мужчина дело другое, с него не тот спрос.
– Это тебе приснилось, что мы заблудились. Не беспокойся, ты можешь немного полежать.
– Вот в Моргане никогда не заблудишься.
– Полежи немного, и тебе станет легче. Мы поедем в такое место, где ты сможешь отлежаться.
– Не хочу лежать.
– Ты небось не знаешь, что я могу на задней передаче въехать на такую кручу?
– Вы убьетесь.
– Спорю, что такого второго смертельного номера никто не видел. Ну, видел или не видел, что скажешь?
Мы чуть не вертикально зависли на крутом откосе, отец, багажник хлопал, подскакивал – взлететь он, что ли, хотел, мы то поднимались, то опускались. И в конце концов, пятясь, точно пчела, выползающая из чашечки цветка, перевалили через край откоса и тут слегка пробуксовали. Будь я чуть трезвей, нипочем бы не справился.
Потом мы опять ехали долго-долго. Проехали через темный парк[5]5
Виксбергский Национальный Военный парк разбит в 1899 году в честь захвата Виксберга 4 июля 1863 г. после сорокасемидневной осады города силами северян. Парк пятнадцатикилометровой дугой огибает город.
[Закрыть], где все так же стояли все те же старые статуи, и их винтовки были вновь взведены, вновь нацелены на холмы, пусть и потерянные нами, но все те же. И башни, которые они захватили, сторожевые башни, пусть и потерянные нами, и они были все те же.
Наверное, я сбился с пути, но я смотрел на небо, искал луну – ей бы полагалось уже быть на ущербе, в последней четверти. И так оно и было. Воздух не объяла тьма, в нем колебался тусклый свет, блуждали шорохи – дыхание всех на свете людей, которые вышли подышать, поглядеть на луну, зная, что она на ущербе. Не забывал об этом и я и катил, один на свете, определяя свой путь по звездам.
Вокруг не было ни души, луна поднималась все выше и выше. Мейдин не спала – я слышал, что она тихонько вздыхает, видно, ее что-то томило. Белый, как привидение, енот по-пластунски, точно вражеский лазутчик, пересек дорогу.
А мы пересекли шоссе и на другой его стороне, на беленном известью дереве горел фонарик. Занавешенный фестонами лишайника, он отбрасывал свет на раскинувшиеся полукругом беленые домики с темными окнами, обнесенные забором из некрашеных жердей. Фары высветили привалившегося к калитке негритенка в фуражке инженера-путейца. Сансет-Окс.
Негритенок вспрыгнул на подножку, я сунул ему деньги. И, придерживая за плечи, повел Мейдин к дому. Нет, она все-таки спала.
– Осторожно, ступенька, – сказал я ей у двери.
Мы рухнули поперек железной койки и, не раздеваясь, уснули как убитые. С потолка свисала голая лампочка на длинном почти раскрутившемся шнуре, таком длинном, что она тревожила наш сон. Чуть погодя Мейдин встала, щелкнула выключателем – вмиг, как брошенное в колодец ведро, пала ночь, и я проснулся. И все же полная тьма так и не наступила: небо по-августовски полыхало, его свет проникал в самые нежилые комнаты, в самые пустые окна. Месяц падучих звезд. Ненавистней поры года для меня нет, отец.
Тут я увидел, что Мейдин снимает платье. Она бережно склонилась над ним, разгладила юбку, встряхнула его и, наконец, разложила на стуле – и все с такой бережностью, словно это был самый обычный, а не здешний стул. Я оперся на спинку кровати, ее прутья врезались мне в спину. Вздыхал я глубоко, часто вздыхал. Она снова двинулась к кровати я сказал: "Не подходи близко".
И показал ей пистолет. Я сказал: "Я не собираюсь ни с кем делить постель". Объяснил, что ей нечего здесь делать. Прилег и навел на нее пистолет, хоть и не надеялся ее остановить, – вот так же поутру я нежился в постели, досматривая последний сон, а Джинни приходила и расталкивала меня.
Мейдин подошла, встала у меня перед глазами, четко выделяясь в светлой ночи. Она тянула ко мне голые руки. Вся растерзанная. И я увидел на ней следы крови, крови и позора. А может, и не увидел. На какой-то миг она раздвоилась. И все равно я навел на нее пистолет, как можно точнее.
– Не подходи близко, – сказал я.
Она говорила, а я слышал, как квакали лягушки, ухали совы в Сансет-Оксе, дурачок негритенок бегал вдоль забора туда-сюда, туда-сюда, до конца и обратно, пересчитывая жерди палкой, – звуки всех тех мест, где мы побывали.
– Нет, Ран, не надо, Ран. Прошу вас, не надо.
Она подошла ближе, но я и так не слышал, что она говорила. Я старался прочесть слова по губам, все равно как сквозь вагонные стекла перед отходом поезда. Мне чудилось, негритенок за воротами будет – что ни делай я ли, кто другой – бегать с палкой вдоль забора туда-сюда, до конца и обратно.
И вдруг грохот кончился. А негритенок все еще бежит, подумал я. Забор давно кончился, а он все бежит и бежит и не ведает о том.
Я отвел пистолет, повернул его к себе. Приставил дуло ко рту, дыра к дыре. Я всегда действую с кондачка, сгоряча, нетерпеливо, без промедления. Но Мейдин все ближе и ближе подходила ко мне – в одной нижней юбке.
– Не надо, Ран, прошу вас, не надо. – Заладила.
Пора кончать, но кончилось все лишь грохотом.
И она сказала:
– Вот видите. Вышла осечка. Зачем он вам? Зачем вам эта рухлядь? Я ее приберу.
И взяла у меня пистолет. Ма??о, как было у нее в обычае, отнесла его на стул; педантично, как было у нее в обычае – так, словно она испокон века имела дело с оружием, завернула его в платье. Снова вернулась к кровати и прилегла.
И чуть не сразу снова протянула ко мне руку, но уже совсем по-иному и положила ее – холодную-холодную – мне на плечо. И тут все и произошло – очень быстро.
Скорее всего я тогда спал. Я лежал там.
– И что ты так задаешься? – сказала она.
Я лежал там и чуть погодя услышал, как она плачет. Она лежала там же рядом, оплакивала себя. Тихо, смиренно, задумчиво – так плачут дети, которые осмеливаются заплакать не сразу после наказания.
Значит, я спал.
Откуда мне было знать, что она покончит с собой? Она обманула меня, и она обманула.
Отец, Юджин! Что вы обрели, уйдя из дома, лучше ли ваш удел?
И где Джинни?
Пожарища
Далила вприпляску бежала к парадному ходу – ее послали с поручением: вот отчего она увидела все первая. В дом через парадную дверь входил конь. Дверь была растворена настежь. За конем валила толпа, всю обсаженную кедрами дорогу от ворот до самого дома забила, за ней хвостом волочилась пыль.
Она пробежала в гостиную – где ж им еще быть. Там они и стояли перед камином, спиной к ней, белое шитье упало к их ногам – обе хозяйки. У мисс Тео, у нее глаза и на затылке.
– Ступай к себе, Далила, – сказала она.
– Да я-то что, а вот они, – выпалила Далила, и в ответ ей по нижним покоям разнесся топот: и Офелия и все небось давно уже его слышали. Во дворе надрывались собаки. Мисс Тео и мисс Майра так и стояли поворотясь спиной к бунту – в каком бы обличье, каким бы призраком он ни ввалился, – пока он со двора поднимался по крыльцу, пересекал веранду и даже когда он вперся в переднюю, а с ним и звериный дух наподобие змеиного, – только хочешь не хочешь, а они его увидят, если, конечно, он в гостиную ввалится, белый конь то есть. Его морда выросла над двустворчатой дверью – ее распахнула Далила, – и хозяйки разом подняли головы и поглядели в зеркало над камином, оно называлось венецианским, и там они его и увидели.
Белый очерк, точно вырезанный из комнатного сумрака: на дворе было светлым-светло – стоял июль, а в занавешенной от жары гостиной темно, и поначалу их увидела одна Далила.
Потом тишину нарушил захлебывающийся голос мисс Майры:
– Посадите меня к себе на лошадь! Меня первую, ну пожалуйста!
Белый конь, высоченный, весь в мыле, грыз удила, скалился, артачился. При нем двое солдат, глаза красные, искусанные москитами лица раскорябаны, один, с отвислой челюстью и вислыми плечами, сидел на коне, другой шел рядом, в гостиной послышалось их громкое – ну чисто трубный глас – сопение.
Мисс Тео, едва мисс Майра закрыла рот, не поднимая глаз, сказала:
– Далила, раз ты ворвалась сюда и не потрудилась фартук переодеть, говори, зачем пришла.
Не размыкая рук, сестры повернулись лицом к гостиной.
– Пришла сказать, что черную несушку согнали с яиц, только они уже все порченые, – сказала Далила.
У синего всадника челюсть совсем отвалилась – это он так смеялся. Другой солдат встал на ковер, половица под его сапогом скрипнула. Раззадорил его, что ли, этот скрип, только он выпучил глаза и давай к мисс Майре, взял ее за тонюсенькую – того и гляди, переломится – талию. И как-то само собой получилось, что он подхватил ее на руки точно ребенка: в ней же весу и вовсе нет. Второй крякнул, слез с коня и давай к мисс Тео.
– Отойди от греха подальше, Далила, – сказала мисс Тео так, как всегда при гостях разговаривала, ну, Далила и решила, что грехом зовут одного из солдат.
– Подержи моего коня, черномазая, – сказал тот, которого так звали.
Далила держала маячившего в зеркале коня под уздцы – можно подумать, она сроду только тем и занималась, – теперь он ей был виден совсем хорошо, покуда другой солдат – он, напротив, виделся в зеркале туманным, расплывчатым – метался по комнате между зеркалом и дверью, отшвыривал столы и стулья со своего пути: гонялся за мисс Майрой, а она перебегала с места на место, но вот она остановилась, и он повалил ее, опрокинул на пол и сам упал на нее. Потом в зеркале видно было только гостиную, увешанную блестящими, без единой пылинки, картинами, после шести всегда затемненную от зноя и докучной гари, по-прежнему всю сверкающую: ведь сколько в ней понаставлено всяких красивых ломких штучек, которые дамы страсть как любят и никогда не бьют – разве что поскандалят из-за чего. За спиной у нее разинула пасть передняя, отбрасывала тень парадная лестница, высокая, как дерево, и пустая. За ней присматривали: чтоб никто ни по ней не взошел, ни с нее не сошел. Только если чашка, серебряная ложка или там связка шпулек на голубой ленточке лягушкой скакали вниз по лестнице, Далилу посылали порой подобрать их и отнести наверх. А вот чего она в зеркале не увидела – это как мисс Тео солдат по щекам отхлестала, да так, что гул пошел.
Потом мисс Тео, ни слова не говоря, подхватила мисс Майру. Мисс Майра глаза закрыла, но спать не спала. Мисс Тео – черные волосы у нее разбились, платье жестко шуршало, как они только в зимнюю пору шуршат, – повела, только что на руках не понесла мисс Майру к креслу, это Далила уже в зеркале увидела, и усадила. В красное бархатное в рубчик кресло, прелесть что за кресло, не хуже мисс Майриной шкатулочки, где она кольца держит. Мисс Майра запрокинула голову, лицо ее смотрело в окаймленный гипсовыми цветочками потолок. Что-то в ней заснуло, пусть глаза и не спали.
Один из мужчин сказал, и голос у него был такой, будто ему плюнули в душу:
– Мы приехали только для проверки.
– Да как вы смеете, да что вы себе позволяете, – сказала мисс Тео.
Рука ее опустилась, стала гладить запрокинутую мисс Майрину голову – двигалась сильно, грозно, мерно. Финни бросил вниз тарелку из-под завтрака, но Далила не тронулась с места. Мисс Майрины горящие золотом волосы рассыпались по спине, в них, точно листья, запутались гребни. Как знать, может, мисс Тео и не хотела, чтоб она очувствовалась, чтоб сердце у нее проснулось, оттого и гладила, все гладила, без нужды налегая рукой на ее голову.
– У нас приказ произвести предварительную проверку, – сказал солдат, какой, она не знала.
– Ну и проверяйте, – сказала мисс Тео. – Здесь некому вам помешать. Брат – без вести. Отец – умер. Благодарение Господу. – Она говорила отрывисто, как обычно разговаривают дамы, которые не рады гостям, всяким, всегда.
Финни бросил вниз чашку. Конь встрепенулся, ткнул Далилу мордой – она все еще держала его под уздцы – примерная, вышколенная рабыня в наглаженном белом в яркую полоску платье под черным фартуком. Она и тюрбан повязала бы, знай она наперед, как мисс Тео, что будет.
– Зато Финни никогда не уходит. Финни всегда с нами. Мужчина в доме, – сказала она.
Лицо мисс Майры все смотрело вверх, и не поймешь даже, на кого она походила – на покойницу или на отчаянную голодную пичужку. Мисс Тео задержала руку в воздухе, не сразу опустила ее на голову мисс Майры.
– Уж не стыд ли мешает вам сделать проверку? – спросила мисс Тео. – Боюсь, вы не вполне понимаете, как вести себя с хозяйками этой усадьбы. Моя сестра, да вы и сами это заметили, еще более хрупкого здоровья, чем я. Не удовлетворитесь ли вы этой негритянкой, кухонной девчонкой, насколько мне известно, вы…
Северянин вдумчиво посмотрел на мисс Тео, так, словно, запоминал на будущее ее слова, – можно подумать, она сообщила ему, по каким дням приходит почта.
– Бедная моя сестричка, – теперь мисс Тео обратилась к мисс Майре. – Не слушай – это не для твоих ушей, не замечай, что творится вокруг.
Но мисс Майра сбросила руку сестры с головы. Киска прокралась в комнату, уселась между передними ногами коня; ее кликали Ласочкой.
Один солдат повернул голову к другому:
– Что ты мне сказал, Вердж, когда мы въезжали в усадьбу?
– Я сказал, сдается мне, они еще тут.
– А мне сдается, их тут нет.
И тут оба ну хохотать, ну тузить друг друга и нешуточно, так, что поначалу даже показалось – уж не дерутся ли они. Потом один, враз посерьезнев, сказал:
– У нас приказ поджечь вашу усадьбу, – а другой добавил: – Приказ генерала Шермана[6]6
Уильям Текумсе Шерман (1820–1891) – один из крупнейших военачальников Севера во время Гражданской войны 1861–1865 гг.
[Закрыть].
– Продолжайте.
– Вы что думаете, мы только так говорим? Сожгли же мы Джексон, и не один раз, а два, – сказал первый солдат, а сам все косился на мисс Майру.
Голосу его, совсем как в былые времена, отозвалось гулкое эхо в передней – давно здесь не слышалось мужских голосов. Конь ржал, мотал головой, перебирал ногами.
– Сказано же – вам, хозяйки, давно бы пора уйти. Вам что, не передавали разве, что мы наступаем? – Другой солдат наставил палец на мисс Тео. Она прикрыла глаза.
– Вам все было сказано. – Мисс Майрин солдат буравил мисс Майру взглядом. – Когда ваши же люди говорят, что усадьбу придут жечь, дома останется только тот, кто не думает о себе. И о других тоже. Сказано же было вам, и я не обязан одно и то же повторять.
– Раз так, приступайте к делу.
– Людей мне пока еще не доводилось жечь.
Под взглядом мисс Тео он опустил глаза.
– Не вижу разницы.
Так что это мисс Майрин солдат оторвал Далилину руку от уздечки, повернул Далилу кругом и обругал взбесившегося коня, но конь уже бил копытами в передней у нее за спиной. Далила прислушалась, но Финни больше ничего не бросал вниз: небось выполз на лестницу, свесился с площадки и смотрит. Перепугался не коня, так мужчин. Он ведь одних только женщин и видел. Копыта процокали по передней, столовой, библиотеке, но наконец солдат мисс Тео все же поймал коня. И как поймал, посадил Далилу ему на спину.
За дверью она оглянулась через плечо – мисс Тео тряхнула мисс Майру, потом ухватила одной рукой ее за лицо, измученное, с покрасневшими глазами, и раз – другой рукой ей по щеке.
– Майра, – сказала она. – Очнись! Мы должны выйти из дому раньше их.
Мисс Майра плавно занесла белую руку – можно подумать, ее пригласили танцевать, – и крикнула: "Далила!" Она видела, кого посадили на седлистую спину коня, кого вывезли верхом через парадный ход. Скользя между железных подков, киска неслась следом за ними, рысила ходко – чем не лошадь, только что махонькая, первой добежала до леса, и только ее и видели; но Далила – ни когда сидела на коне, ни когда ее стащили на траву – ни разу не позвала ее.
Наверное, берегла силы: ведь сколько еще придется кричать, и вот уже ее крики заполонили двор, охлестнули дом, который – теперь она это поняла – вот-вот подожгут. И молодая, крепкая, кричала за них всех – и за тех, кто хотел бы, чтобы за них кричали, и за тех, кто не хотел; порой ей казалось, что громче всего она кричит за Далилу: ведь теперь она пропадет – из дому ее увезли, а вернуться обратно она не сумеет.
Хозяйки сидели в доме, заставляли себя ждать.
В конце концов мисс Тео все же вывела мисс Майру через распахнутую настежь парадную дверь, провела через веранду, на которой все такие же красивые и неподвижные, будто ничего не случилось, лежали тени виноградных лоз. Под деревьями замяукали по-кошачьи, заухали по-совиному.
– Осади, ребятки, эти дамочки больно для вас нежные.
– С дамочками на скорую руку не сладишься.
– А и не на скорую, все равно от них толку чуть, – донесся звонкий молодой голос, и где-то под деревьями забренчало банджо – звало разводить костры все дальше и дальше, ближе к вечеру, когда здесь все будет кончено.
Сестер ничуть не удивило ни что и солдаты и негры наравне (старая Офелия путалась у них под ногами и говорила-говорила без умолку) снуют взад-вперед, тащат из дому и через парадный, и через черный ход кровати, столы, канделябры, рукомойники, ведерки для льда, фарфоровые кувшины, тащат, согнувшись в три погибели; ни что кони стоят под седлом; ни что еду из их кухни уписывают за обе щеки, а то и выбрасывают – по второму разу они, что ли, обедают; ни что собаки надрываются от лая – их свора смешалась с чужаками, и теперь они грызлись почем зря из-за костей. Последние, почти пустые, мешки грузились на повозки – остатки муки, все, что нашли у Офелии на полках, даже перечную мельницу и ту прихватили. Серебро, которое Далила научилась считать, пересчитали на чужих одеялах, закатали вместе с чайником – то-то грому было – и перевязали: казалось, они скелет перевязывают. Мальчишка-барабанщик с барабаном на шее изловил одного за другим павлинов мисс Тео, Марко и Поло, и скрутил обоим шеи прямо во дворе. Ни у кого не хватало духу посмотреть на мертвых птиц, все отводили глаза.
Сестры спустились с крыльца в мятых платьях – у них только те и остались, что на них, – и в ногу, не размыкая рук, пересекли давно не стриженную лужайку, пошли по аллее. И вдруг остановились как вкопанные под густым раскидистым деревом, тем самым, на котором качели, словно лунной лужайкой залюбовались, гордыня сошла с их лиц, и они стали на одно лицо, и лицо это было ничье. Это просветленное лицо смотрело направо и налево, сквозь кусты, сквозь деревья замечало всех до единого солдат, запоминало всех до единого рабов, растаскивавших господское добро, будто их, как певцов, исполняющих серенаду под балконом, вдруг осветила луна. Только старая Офелия болтала без умолку, рассказывала всем на свой лад, что за напасть приключилась, но никто не хотел ее слушать, не хотел понять – до того ли в такой день.








