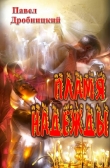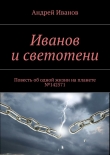Текст книги "Мифы древнего Китая"
Автор книги: Юань Кэ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Особое внимание Шэнь Янь-бин уделяет причинам быстрого исчезновения древнекитайской мифологии. Исследователь выдвигает две причины раннего исчезновения мифов. Во-первых, переработка мифов в историю и превращение мифических героев в исторических, а во-вторых, отсутствие великих деяний, способных всколыхнуть душу всего народа и вдохновить поэтов мифологической эпохи. Если первая причина представляется бесспорной, то вторая вызывает сомнения, так как мифы, как правило, не воспроизводят определённые исторические события.
Критикуя абсурдную теорию прагматиста Ху Ши, который считал, что развитая мифология может быть только у жителей тропического пояса, а в Китае основные мифы созданы населением юга, исследователь показывает, что и Северный и Центральный Китай имеют свои мифы, которые передавались из одной области в другую, и что не следует переоценивать особенности культуры отдельных областей древнего Китая. Это был один комплекс, сложившийся в древнейшие времена.
Почти одновременно с литераторами к мифологии обратились и некоторые китайские учёные из Школы критики древней истории, возглавлявшейся профессором Гу Цзе-ганом. Представители этого направления считали, что освещение древнейшего периода в истории Китая следует критически пересмотреть, отделив мифы от реальных событий и фактов. Сомневаясь в традиционных и общепринятых ещё в начале XX в. утверждениях древних историографов и философов, Гу Цзе-ган решил критически пересмотреть источники. Его особенно заинтересовал образ Юя, победителя потопа. Он пришёл к выводу, что в древнейших текстах Юй предстаёт перед нами как бог-демиург – творец неба и земли. В следующих текстах он уже самый ранний правитель среди людей, ещё позже ему приписываются черты князя землепашцев и на последнем этапе Юй изображается в окружении людей позднейших поколений. Знание древних текстов дало возможность Гу Цзе-гану и его последователям пересмотреть некоторые принятые точки зрения. Многие выводы и наблюдения этих учёных заслуживают внимания, но Гу Цзе-гану, как и другим авторам, не хватало необходимых этнографических знаний, без которых невозможно разрешить сложнейшие вопросы мифологии, не говоря уже о незнакомстве исследователей с марксистской методологией, в частности с работами Ф. Энгельса о первобытном обществе.
Хотя Гу Цзе-ган и выступал критиком старых нелепых концепций, но он придавал, чрезмерно большое значение письменным источникам. Он, например, совершенно упускал из виду, что отсутствие имени того или иного героя (например, Юя) в каком-либо памятнике вовсе не обязательно свидетельствует о том, что в момент создания памятника этот образ был неизвестен.
Следует сказать, что доказательства Гу Цзе-гана иногда весьма прямолинейны, он не всегда учитывает образность древнего мышления. Так, основываясь на сообщении «Книги гор и морей» о том, сколько тысяч ли пришлось исходить Юю во время борьбы с потопом, и зная из других источников, сколько лет боролся герой со стихией, он делает арифметический подсчёт и приходит к выводу, что столь быстро могло двигаться лишь божество.
В середине 20-х годов интерес к китайской мифологии, к подлинно научному её изучению пробуждается в Европе и в Японии. Сначала к мифологии обращается крупнейший французский синолог Анри Масперо, который публикует исследование об отражении мифов и легенд в «Книге исторических преданий» – «Шуцзине». Автор выступает против историзации мифологических героев старыми китайскими учёными, пытается вскрыть первоначальный облик мифа, используя для этого данные более поздних авторов (что вызвало впоследствии малообоснованную критику со стороны известного шведского китаеведа Б.Карлгрена), а также данные мифологии тайских народов Индокитая.
Через два года после работы Масперо появляется исследование немецкого китаеведа Эдуарда Эркеса. Он проводит параллель между мифом о стрелке И и известными мифами о множестве солнц у народов Крайнего Севера (чукчей, алеутов и североамериканских индейцев).
Его работа отличается серьезностью и историчностью подхода к материалу. Исследование этого сюжета в 30-е годы продолжил Меншен-Хельфен, сопоставивший мифы о стрелке И и о Геракле.
Из японских исследователей китайской мифологии, писавших в 20-е годы, следует назвать Идзуси Ёсихико, Фудзита Тоёхатп, Огава Такудзи. Различен подход этих учёных к китайским мифам, он часто обусловлен их узкой специальностью, но общим для всех них является отличное знание древних источников, попытка прояснить мифологические сюжеты, затемнённые учёными-конфуцианцами на заре китайской истории.
Ещё в конце XIX в. японские историки Сиротори Кураёси и Найто Конан впервые подняли вопрос о том, что многие факты, представленные в традиционных китайских исторических сочинениях, касающиеся древнейшего периода истории, следует отнести к мифологии. Но это были лишь отдельные замечания.
Огава Такудзи, специалист по исторической географии Китая, пришёл к мифологии от изучения географических сочинений, наполненных сообщениями о чудесах и чудовищах. В 1912-1913 гг. он сделал попытку вернуть древним историческим рассказам китайцев первоначальную форму мифа. Он исследовал «Книгу гор и морей», «Жизнеописание царя My» и другие древнейшие географические сочинения, которые одновременно являются и сводами древних мифов. Впоследствии он написал специальные работы, как-то: «Сказание о начале мира и великом потопе в Китае», «Горы Куньлунь и Си-ван-му» и др. Показывая, как конфуцианцы пытались превратить миф в историю, автор привёл довольно большой сравнительный материал из греческой и шумеро-аккадской мифологии. Такие аналогии помогли исследователю доказать мифологичность материала, а иногда, хотя может быть и не всегда убедительно, указать на первые фольклорные связи, например на проникновение сказания о Си-ван-му с Запада. Едва ли он прав, однако его осторожные формулировки, как и всё исследование, значительнее того, что писал в начале XX в. немецкий учёный А.Форке, серьёзно утверждавший, что царь My путешествовал к царице Савской, которая и есть Си-ван-му. Однако в работах Огава Такудзи заметна определённая двойственность. Автор понимает, что рассматриваемые им древние записи суть изложение мифа, но как географ, он всё-таки пытается совершенно точно локализовать топонимику мифов. Не удивительно, что доказательства его вызывают недоверие.
Другой японский исследователь – Фудзита Тоёхати известен своими работами тоже в области исторической географии Китая, главным образом исследованиями связей древнего Китая с Индией и странами Южных морей. Его работы по мифологии Китая касаются связей образов китайской мифологии и индийских Вед. Исследователь исходит из весьма сомнительной посылки о том, что китайская мифология не достигла полного развития, потому что китайцы были больше склонны к реальным знаниям, чем к фантазии. Он не отрицает, что у них были свои мифы, но считает, что часть мифов была заимствована из Индии. В качестве доказательства, кроме конкретных, но как нам представляется весьма шатких сопоставлений мифа о горах, поддерживаемых на спине (по толкованию Юань Кэ, на головах) черепах, плавающих в море, с мифом о горе Мандара, которая была по «Махабхарате» взвалена на спину царя черепах Курма и других подобных сопоставлений, японский исследователь приводит и иное. Он считает, что так как в «Книге песен», где собраны песни различных царств чжоуской эпохи, нельзя отыскать следов мифов, распространённых в последующие века, то это нельзя объяснить иначе, как приняв эти мифы за занесённые извне. Мы не отрицаем возможности влияния одной мифологии на другую, но доказательства должны быть более солидными и убедительными, в противном случае в силу общности фольклорных мотивов различных стран и народов легко «доказать» самые невероятные влияния и заимствования. А почти полное отсутствие мифологических элементов в «Книге песен» может объясняться и позицией конфуцианцев, её составлявших и редактировавших, и тем, что мифы, возникшие много раньше лирической поэзии, могли излагаться, например, и в прозаических сказаниях, как это и было у многих народов.
Идзуси Ёсихико посвятил свои труды специально древнекитайской мифологии. Он исследовал происхождение образа дракона, феникса, миф о горах, стоящих на плавающих в море черепахах, и т.п. Он дал общий обзор китайской мифологии и работ своих предшественников как в Китае, так и в Европе, и занялся изучением различных аспектов и образов китайской мифологии в её историческом движении. Уже после его смерти работы Идзуси Ёсихико были изданы отдельной книгой с предисловием известного японского синолога Цуда Сокити.
Одновременно с развитием общественных наук в самом Китае шло и развитие исследований по мифологии. Этому способствовало как изучение этнографии и фольклора национальных меньшинств, так и появление специальных книг о развитии мифологии на Западе. Работы археологов, находки произведений ханьского искусства и необходимость научной интерпретации их сюжетов также стимулировали развитие исследований.
Популярная книжка Линь Хуэй-сяна «О мифах» даёт читателю обзор различных теорий происхождения мифов. Автор близок к антропологической школе и излагает материал в соответствии с идеями Тэйлора, в частности сопоставляя мифы о небесных явлениях у разных народов земного шара. Книга Линь Хуэй-сяна была полезной именно как краткий, хотя и не глубокий, очерк некоторых аспектов мифологической теории Запада и основных мифов крупнейших народов земного шара. Однако автор почти совсем не использует в ней данные китайской мифологии.
В 1936 г. печатается обстоятельное исследование Чэнь Мэн-цзя «Мифы эпохи Шан и шаманизм», хотя и исходящее из неверных теоретических посылок (деление мифов на естественные и искусственные, утверждение о превращении реальной истории в миф), но содержащее большой фактический материал и интересное стремлением выделить мифы одной эпохи в связи с шаманизмом.
Известный поэт, блестящий критик и учёный-филолог Вэнь И-до, пожалуй, первым подошёл к изучению китайской мифологии одновременно и как литературовед-фольклорист, и как этнограф, и как филолог-лингвист, знаток древнего языка и древней письменности.
Первое, что отличает работы Вэнь И-до от трудов его предшественников – это обилие материала из фольклора народов Юго-Западного и Южного Китая (мяо, яо и др.), а также привлечение для исследования свидетельств археологии и изобразительного искусства, фольклора самых различных народов мира.
Вэнь И-до создаёт несколько исследований по китайской мифологии. Наиболее значительное из них «Разыскание о Фу-си», в котором учёный исходит из реального знания истории первобытного общества, по-новому освещает многие вопросы китайской мифологии, показывая, что нельзя доверять лишь самым древним текстам, слишком лаконичным и превратно истолкованным составителями, когда речь идёт об образах мифологии. Это может показаться странным, но, как убедительно доказывает Вэнь И-до, зачастую как раз не самые древние тексты дают нам представление о первоначальном облике мифа. Исследователь приводит пример с Фу-си и Нюй-ва. По самым древним записям, они – братья, в более поздних памятниках о них говорится, как о брате и сестре и уже в ещё более поздних как о муже и жене. Материалы археологических раскопок, легенды об этих же персонажах, записанные совсем недавно у народов Юго-Западного Китая, и данные сравнительной этнографии – всё это дало возможность Вэнь И-до убедительно реконструировать миф о Фу-си и Нюй-ва как повествование о брате и сестре, оставшихся в живых после потопа, ставших мужем и женой и давших продолжение человеческому роду.
Попутно Вэнь И-до по-новому толкует и образ дракона. Исследователь доказывает, что он возник как тотемический образ первопредка у многих народов Китая, отличный в деталях, но единый в своей основе: всюду мы находим представление о змее. Недаром ведь и на древних барельефах Фу-си и Нюй-ва изображаются как существа с человеческими головами и туловищем змеи, причём хвосты их обычно переплетены, а это означает соединение супружеской пары. Вэнь И-до ищет ещё более ранний этап в древних верованиях китайцев и показывает, что таким этапом было представление о божестве, выступающем целиком в зверином облике, и что, следовательно, в образах Фу-си и Нюй-ва мы имеем уже второй этап развития этих представлений.
В небольшом исследовании «Дракон и феникс» Вэнь И-до даёт толкование образа феникса, доказывая, что если дракон был тотемом племен ся, то феникс был тотемом племен инь.
Следует отметить новаторский характер работ Вэнь И-до, высокий научный уровень и плодотворность комплексного историко-филологического и фольклорно-этнографического метода исследования. Труды Вэнь И-до до сих пор остаются одними из лучших в этой области.
Вэнь И-до писал свои исследования в конце 30-х – начале 40-х годов. Примерно в это же время (в 1939 г.) к мифологии обратился и китайский историк Сюй Сюй-шэн, который написал книгу «Легендарный период древнейшей истории Китая». Интерес у Сюй Сюй-шэна к проблемам мифологии и древнейшей истории возник, как он сам пишет в предисловии, ещё в 20-е годы, после появления работ Гу Цзе-гана. Автор обращается к проблемам древнейшей истории Китая, пытаясь отделить чисто мифологические элементы от исторических, найти в мифологических сказаниях отражение реальных исторических событий жизни древнейших племён и восстановить, хотя бы в общих чертах, наиболее ранние периоды китайской истории. Книга Сюй Сюй-шэна (первое её издание вышло в 1943 г.) – серьёзное научное исследование. Особое внимание автор обращает на возможность реконструкции древнейших родо-племенных союзов на территории Китая, подробно исследует миф о потопе, привлекая для этого известную работу Фрезера. Сюй Сюй-шэна особо привлекла проблема исторической последовательности различных преданий, в частности о древнейших мифических правителях. Пафос исследования заключается в выяснении связи того или иного мифа с определённым родо-племенным союзом.
Сюй Сюй-шэн, так же как и Вэнь И-до, выступает против традиционного взгляда, согласно которому только из древнейших памятников можно извлечь достоверные факты для исторического или филологического исследования.
Большая заслуга Сюй Сюй-шэна и в том, что он понимал, что мифы и сказания, отраженные в поздних записях, вовсе не обязательно были созданы в ту эпоху, когда оказались зафиксированными в письменных источниках, а гораздо раньше, и к моменту записи могли пройти длинный путь развития. Так, разбирая проблему Фу-си и Нюй-ва, он говорит об отражении матриархальной стадии в образе Нюй-ва и трансформации этого мифа уже при патриархате. Заметим попутно, что раздел этот менее интересен, чем исследование Вэнь И-до, которого автор даже не упоминает. Книге Сюй Сюй-шэна, в которой мы находим множество интересных интерпретаций мифов -, свойственны и весьма существенные методологические недостатки. Как замечает сам автор, он не был ещё знаком с трудами классиков марксизма, когда писал эту книгу, а испытал некоторое влияние идей «функционалиста» Б.Малиновского – представителя новейшего направления социологической теории мифа, понимающей миф как непосредственное отражение связи первобытного общества с окружающей средой и как «переживаемую реальность» и обоснование социальной практики. Хотя Сюй Сюй-шэн и не принял целиком взгляды В.Малиновского, но влияние их чувствуется в книге. Чтобы придать этим сказаниям достоверность, Сюй Сюй-шэн утверждает, что речь в большинстве случаев идёт не об отдельных личностях, а о руководимых героем родах или племенных союзах. Автор недостаточно учитывает образную природу мифологии, и это мешает ему понять всю сложность древнейшей мифологической системы. Несмотря на эти недостатки, книга Сюй Сюй-шэна, вновь переизданная в расширенном виде в 1960 г., представляет интерес для всех изучающих древнюю мифологию Китая.
Одновременно с изучением мифологии в Китае разработка проблем китайской мифологии продолжалась в 30-40-е годы и в Японии, и в Европе. Из японских исследований этого времени необходимо отметить серьёзную книгу профессора университета в Осака Мори Микисабуро. Автор даёт своеобразные «жизнеописания» основных героев древнекитайских мифов (Фу-си, Да-хао, Нюй-ва, Шэнь-нуна и т.д.), затем излагает космогонические и этнологические мифы. Специальная глава отведена более поздним образам духов-охранителей (стражам дверей, духу очага). Заключает книгу глава «Мифы и китайская культура». Мори Микисабуро приводит точки зрения Лу Синя, Ху Ши, Шэнь Янь-бина по вопросу о судьбе древних мифов и даёт им критическую оценку. Мори Микисабуро становится целиком на сторону Шэнь Янь-бина, когда тот критикует неправильные взгляды на будто бы неразвившуюся мифологию в Китае. Однако он подмечает и слабые стороны его концепции (неясность понятия «поэт мифологической эпохи» и т.п.). Мори Микисабуро говорит о том, что положение Шэнь Янь-бина об историзации мифов конфуцианскими учёными, высказанное в довольно лаконичной форме, было более подробно разработано ещё в самом начале XX в. в трудах известных японских историков Сиротори Кураёси и Найто Конан.
Мори Микисабуро излагает и свои интересные соображения по поводу того, почему китайские мифы не сложились в большую развитую систему и не оказались как-то объединёнными в эпической поэзии. Исследователь говорит главным образом о двух факторах. Во-первых, об обширности территории Китая по сравнению с территорией других стран, например Греции, Северной Европы, где были созданы крупные мифологические эпосы. Автор высказывается об этом более чем осторожно, но думается, что его предположение об обширности территории Китая как причине, в силу которой мифы не смогли сложиться в комплекс, заслуживает внимания. Во-вторых, Мори Микисабуро выдвигает вопрос о слабости «национального единства» китайцев в эпоху сложения мифов. В этом он видит причину относительной бедности дошедшей до нас китайской мифологии. К сожалению, нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из учёных специально рассмотрел эти объяснения.
Однако книга японского учёного страдает некоторой традиционностью изложения материала, которая особенно видна при сравнении его труда с работами китайских исследователей, писавших в те же годы. Автор как-то совсем обходит вопросы этнографического и фольклорного порядка, не затрагивает и основных проблем первобытного общества, без которых нельзя правильно понять и истолковать миф. Обратимся, например, к мифу о Фу-си и Нюй-ва, который анализировали Вэнь И-до и Сюя Сюй-шэн. Уже одно то, что автор ставит на первое место Фу-си, затем его помощника Да-хао, а уже потом Нюй-ва – образ, принадлежащий к эпохе матриархата, а следовательно, более древний,– говорит о недостаточной историчности взглядов автора. Не все его толкования убедительны. Например, он говорит, что причина выбора разноцветного камня, которым Нюй-ва починила сломавшийся небосвод, лежит в поклонении камням, характерном для древнего Китая. Не опираясь на этнографический материал и не зная, видимо, мифологических сказаний народов Юго-Западного Китая об этих же героях, исследователь отмечает лишь, что Фу-си и Нюй-ва – это образы создателей вселенной. А что касается их изображения как полулюдей, полузмей, то японский мифолог просто считает это поздней версией, придуманной где-то в начале нашей эры. Также позднейшим считает автор и версию о браке Фу-си и Нюй-ва. Игнорирование науки о первобытном обществе и фольклорно-этнографических данных привело исследователя к выводам прямо противоположным тем, к которым пришли учёные Китая.
Традиционность точки зрения японского автора проявляется и в том, что он хотя и говорит о некоторых мифах как об очень древних, однако утверждает, что многие из них были созданы между V-I вв. до н.э., т.е. фактически время фиксации мифа считает временем его создания. Всё это не могло не сказаться отрицательно на серьезной работе японского исследователя, которая осталась незамеченной в китайской и европейской науке.
В 30-40-е годы продолжает развиваться и европейское китаеведение. Если в 30-е годы ещё появляются весьма поверхностные работы, вроде книги Хэнца, объясняющей китайские мифы с позиций давно устаревшей мифологической школы (Юй – солнце, его жена – луна и т.п.), то в 40-е годы выходят серьёзные исследования о древнекитайской культуре. В 1942 г. увидели свет два тома труда «Местные культуры в древнем Китае» немецкого учёного В.Эберхарда, уехавшего из фашистской Германии в Турцию и продолжавшего в стенах Анкарского университета свою работу. Труд Эберхарда – не специальное исследование по мифологии, но касается многих вопросов, связанных с ней. Развивая свои взгляды о большом значении местных культур и местного колорита в китайской культуре вообще и фольклоре в частности, автор пытается как-то распределить и мифологических персонажей в связи с отдельными местными культурами. Происходит обратное тому, что делали все учёные до Эберхарда, стремившиеся связать осколки китайских мифов в единую систему. Различные божества оказываются у немецкого синолога отнесёнными к различным культурам: так, великан Куа-фу, догонявший солнце,– к тибетской культуре, Нюй-ва – одновременно к тибетской и к сычуаньской культуре Ба и т.п. Как это часто случается с исследователем, выдвинувшим какую-то новую точку зрения, Эберхард слишком увлёкся в своём стремлении точно локализовать всякое явление. Мори Микисабуро, говоря об обширности территории древнего Китая, указывает, что связь между отдельными частями страны в древности была не так уж затруднена географическими условиями. Следовательно, нельзя и переоценивать значение местного начала в том или ином явлении. Надо иметь в виду, что до нас дошли (особенно по мифологии) разрозненные осколки в весьма разновременных и разнохарактерных памятниках, по которым трудно судить о локализации древних мифов. Не всегда чётко разделяя материал в хронологическом отношении, занимаясь только вопросами локализации, Эберхард нередко упускает из вида вопросы исторического развития образа, хотя и нельзя сказать, что он совершенно игнорирует его. Эберхард рассматривает подъём китайской цивилизации как результат слияния различных культурных компонентов, которые, по его мнению, в древности сильно отличались как этнически, так и регионально. Нельзя не видеть в теории Эберхарда положительного зерна, но нельзя и полностью доверять ей, так как она представляет собой крайность, обратную теориям тех учёных, которые рассматривают древнекитайскую культуру как единое целое.
Взгляды на вопросы китайской мифологии были высказаны Эберхардом и несколько лет спустя в связи с работой Б.Карлгрена «Легенды и культы в древнем Китае». Б.Карлгрен провёл кропотливое историко-филологическое исследование древних текстов в связи с развитием культа предков.
Однако с теоретическими его посылками мы не можем согласиться. Карлгрен придерживается старой теории, считавшей героев мифов обожествленными реальными историческими персонажами. Эта точка зрения в этнографии близка и к традиционному взгляду древнекитайских авторов на мифические образы как на исторические, так что сама основа исследования Карлгрена во многом традиционна. Б.Карлгрен подошёл как текстолог к специфическим вопросам мифотворчества. Он разделил все древние тексты на так называемые свободные, относящиеся к периоду Чжоу, и «систематизированные» тексты позднечжоуского времени и особенно ханьской эпохи (с 221 г. до н.э.), написанные в сответствии с определённой философской теорией (по Карлгрену, главным образом с теорией пяти элементов). По мнению исследователя, для изучения мифов следует привлекать только «свободные» (читай доханьские) тексты. Карлгрен стоит на точке зрения, прямо противоположной выводам Вэнь И-до, который показал, что нередко более поздние памятники отражают первоначальную или близкую к ней стадию мифа.
Шведский учёный утверждает, что мифы в чистом, древнем виде существовали и записывались лишь в связи с их отношением к культу предков крупных родов эпохи Чжоу. Когда же в конце III в. до н.э. началось разрушение старого социального строя, культы предков больших домов потеряли своё практическое значение. Тогда память героев мифов и сказаний оказалась отделённой от практики культа. Вот тут-то, по Карлгрену, и был открыт путь для фантазии и «антикварных» спекуляций ханьских авторов. Думается, что прав В.Эберхард, который в своей рецензии на это исследование писал, что на рубеже III -II в. до н.э. уже не было необходимости в таком разработанном родовом древе, так как появилась новая аристократия. И начиная с этого времени, комментаторы могли снова вернуть героям божественный облик и излагать миф в первоначальном варианте. Добавим к этому от себя, что авторы более позднего времени ставили перед собой и совершенно иные эстетические задачи, например описание необычного, удивительного, и поэтому им не нужно было превращать миф в историю. Следовательно, точка зрения Б.Карлгрена мало что даёт для исследования и реконструкции древнекитайской мифологии.
Б.Карлгрен придерживается традиционной старокитайской точки зрения, фактически отождествляя время создания мифа и время его письменной фиксации. В действительности же чжоуские авторы брали миф из фольклора, в котором он мог просуществовать уже много столетий. На это также указывает В.Эберхард.
В особенности резко нападает В.Эберхард на положение Карлгрена о мифических героях как реально существовавших личностях (по Карлгрену, древние китайцы представляли своих героев сверхчеловеками, но не совершенными богами и не простыми смертными). Немецкий синолог пишет по этому поводу: «Если бы эта точка зрения была правильной, то китайская мифология представляла бы величайшее исключение, когда-либо известное в мировой этнографии. Китайцы должны были вначале создать своих героев и только потом сделать из них богов и даже животных». Правильно подмечая слабые стороны концепции В.Карлгрена, В.Эберхард настаивает на своей теории локальных культур. «Сравнивая структуру [локальной] культуры с характером и содержанием мифов, мы можем раскрыть изменения, произошедшие в мифах, и реконструировать их первоначальную форму»,– пишет он, указывая на важность изучения в связи с вопросами китайской мифологии прототайской, протоиндонезийской и прототюркской культур. В.Эберхард безусловно переоценивает значение этих факторов, особенно важность двух последних культур для исследования древнекитайской мифологии.
В 50-60-е годы ни в Европе, ни в Японии не появилось специальных больших монографий по китайской мифологии. Исключение представляет книга К.Финстербуш «Отношение «Книги гор и морей» к изобразительному искусству», изданная в ГДР в 1952 г. Автор проделала большую и кропотливую работу, выбрав и переведя на немецкий язык значительное количество фрагментов из «Книги гор и морей» и связав эти описания с фантастическими изображениями в древнекитайском искусстве. Автором составлен и индекс всех упоминаемых в «Книге гор и морей» мифологических существ, народов, стран и т.п. с переводом названий и прозвищ. Но книге К.Финстербуш присущ один общий для большинства работ по китайской мифологии недостаток – незнание своих предшественников. Здесь он особенно заметен. Автор не упоминает в списке литературы ни одной работы современного китайского исследователя, так же как и японских авторов.
Сама «Книга гор и морей» известна исследовательнице лишь с комментариями Го Пу и Би Юаня, тогда как ещё в 1924 г. А.Масперо ссылался на комментарии У Жэнь-чэня, Ян Шэня и на два комментария Хао И-сина. Из книги Юань Кэ, в частности, видно, как много дают для исследователя все эти толкования старых китайских учёных. Прав был Мен-шен-Хельфен, который указывал в своей рецензии, что тема эта не так уж нова в западной синологии и что автору следовало ознакомиться и со многими исследованиями (например, А.Масперо, Б.Карлгрена, Ф.Вотербари), и с переводом большей части «Книги гор и морей», сделанным Росни и изданным в 1891 г. в Париже.
Среди последних японских работ по китайской мифологии необходимо отметить интересную книгу Каидзука Сигэки «Рождение богов».
Автор – известный историк, профессор Киотского университета, подошёл к китайским мифам как историк и археолог, книга его нетрафаретна, в ней много интересных попыток выяснить историческую основу мифов, есть сведения об идентичности некоторых образов китайских и японских мифов. Автор широко использует работы китайских учёных.
Из самых последних статей по китайской мифологии на Западе выделяется очерк крупного историка-китаеведа Д.Бодде, специально написанный для книги «Мифология древнего мира». Д.Бодде дал научный и в то же время популярный очерк китайской мифологии (из-за небольшого объёма он ограничился изложением лишь космогонических мифов), предпослав ему интересное введение об общих проблемах исследования китайской мифологии. Американский учёный подчёркивает принципиальное отличие древнекитайской мифологии от пантеона поздних народных божеств различных религий и местных культов. Автор выступает и против утверждения, что в Китае нет мифологии или есть только мифы, созданные индивидуальными литераторами. Он присоединяется к тому взгляду, что герои китайских мифов не есть исторические персонажи, показывает различный подход конфуцианских и даосских авторов к мифологическим героям, подчёркивая, что даосские писатели включают в сочинение мифологический намёк, как правило, «только для философского или литературного эффекта, а не потому, что даосские авторы действительно в них верят».
Д.Бодде, говоря о различиях текстов чжоуского и ханьского времени, справедливо подчёркивает народность, фольклорность материалов ханьских авторов. Исследователь в связи с этим подробно разбирает и спор между Б.Карлгреном и В.Эберхардом. Склоняясь к точке зрения В.Эберхарда по поводу того, какие источники более достоверны и важны для исследователя древнекитайской мифологии, Бодде, видимо, прав, советуя держаться «золотой середины», не впадая в крайности «локализации» В.Эберхарда, с одной стороны, и механистического историко-филологического подхода Б.Карлгрена – с другой.
Конечно, есть вопросы, по которым нам трудно согласиться с американским исследователем. Так, едва ли можно признать, что миф о Юе, отражающий, видимо, переход к земледельческому обществу,– самый древний из китайских космогонических мифов, изложенных исследователем. Из изложения получается, что речь идет лишь о мифах эпохи Чжоу (по Бодде, существовавших в эпоху Чжоу). Видимо, следовало как-то показать, когда, в какую эпоху мог быть создан тот или иной миф (в зависимости от того, какой этап истории человечества он отражает). В целом очерк Д.Бодде несомненно удачен и полезен своей чёткостью и хорошим знанием оригинального материала. В библиографии Д.Бодде упомянул и книгу Юань Кэ, подчеркнув ценность обильных цитат из древних памятников. Однако из библиографии почему-то выпали работы японских исследователей, труды Шэнь Янь-бина, Вэнь И-до и некоторых других китайских учёных.