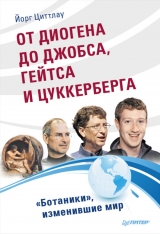
Текст книги "От Диогена до Джобса, Гейтса и Цукерберга. «Ботаники», изменившие мир"
Автор книги: Йорг Циттлау
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Фома Аквинский (Томас Аквинат): когда быки мычат
Когда живешь в монастыре, совсем неплохо быть ботаником. Официальная история существования монастырей, может, видит это и не совсем так, но если ботаником считается тот, кто полностью погружен в свои мысли и при этом не замечает ничего вокруг, то его можно сравнить с монахом, который проводит свою жизнь в службе Богу и поэтому ищет уединения в монастыре.
Неудивительно, что Античность со своими философско‑религиозными частными школами, а потом и Средневековье с его монастырскими традициями породили множество ботаников. Одним из первых представителей этого типа людей был церковный учитель Ориген, который родился в 185 году в Александрии. В 202 году его отец стал жертвой преследования христианства. Это настолько потрясло Оригена, что он решил умереть смертью мученика. Он захотел убежать из дома и примкнуть к беднякам в Риме. Однако его мама оказалась достаточно умной и спрятала его одежду. Ориген, конечно, хотел, чтобы его распяли на кресте, но бежать обнаженным по улице желания не было, поэтому он отказался от этой мысли. Философ проявил себя в других поступках. Он продал свою библиотеку и стал вести жизнь аскета – из книг осталась только Библия. Как утверждают, Ориген сам себя оскопил, чтобы лучше сосредоточиться на чистой любви к Богу. Однако в этом факте историки сомневаются.
В это же время жил Плотин, который тоже был родом из Египта. Плотин перестал праздновать свой день рождения, потому что считал, что в этот день в его тело вошел его дух. Он ненавидел свою плоть, поэтому совсем не ухаживал за телом. Он не только перестал регулярно мыться, заниматься спортом и есть здоровую пищу, но и отказался от лекарств. В конце жизни все его тело покрывали гнойники. Однако это ему совсем не мешало по старой традиции сердечно обнимать своих учеников.
В начале Средневековья многие аскеты стали селиться в монастырях. Эти обители отрешенности от мира и набожности были идеальным местом пребывания для ботаников, например таких как Ансельм Кентерберийский. Он родился в 1033 году в Аосте, на северо‑западе Италии. Его отец планировал для него политическую карьеру, но Ансельм захотел уйти в монастырь. Только в возрасте 27 лет ему удалось побороть сопротивление отца. Мужчина ушел из дома, долго скитался и наконец нашел пристанище в монастыре в Нормандии, где сразу признали его философский талант. Уже через три года он занял пост приора, а еще через 15 лет был избран в аббаты.
Следующим шагом должно было стать назначение преемником умершего архиепископа Кентерберийского. Однако Ансельм отказался, потому что в качестве епископа он в конце концов оказался бы там, куда прочил его отец, а именно в политике. Ансельм предпочел и дальше работать в покое над своим известным онтологическим доказательством существования Бога и другими философскими идеями. Он был убежден, что человеческий разум не может не принимать существование Бога. В него нельзя верить или не верить, потому что нет сомнения в том, что он есть.
Некоторые из его могущественных друзей считали эти размышления пустой тратой времени. Они «похитили» его, привели в церковь, дали Ансельму в руки епископский посох и спели ему Тедеум [6]6
«Тебя, Бога, хвалим» – песнопение в рамках христианского богослужения, благодарственная молитва.
[Закрыть], который обычно звучит при короновании короля или избрании Папы Римского. Хотел он этого или нет, но теперь он стал епископом.
Как он и опасался, служба не только не давала философствовать, но и навлекла на его голову много гнева. Вскоре он впал в немилость английского короля Вильгельма II, который был циничным и злым (из‑за красноватого оттенка кожи его прозвали Руфусом, от лат. «рыжий»). В итоге Ансельм вынужден был эмигрировать во Францию. Лучше бы его оставили в монастыре.
Примерно через сто лет после смерти Ансельма на церковную кафедру пришел следующий ботаник – Фома Аквинский. В отличие от худого Ансельма, он имел тучную фигуру. В столе, за которым Фома писал, пришлось сделать круглый вырез, чтобы ему было комфортно работать. Оказывается, не все ботаники выглядят худыми и изможденными, как Стив Джобс или Джулиан Ассанж.
Он родился в 1225 году в многодетной семье седьмым по счету в Аквино, графстве, располагающемся недалеко от Неаполя. Его отец был ломбардским рыцарем, а мать происходила из богатого неаполитанского рода. Для Фомы была уготована церковная карьера, поэтому уже в 5 лет его отдали в монастырь бенедиктинцев. Орден святого Бенедикта относился к самым могущественным.
Фома показал невероятные умственные способности, и уже в 14 лет его приняли в университет Неаполя. Здесь он изучил все, что тогда было возможно изучить: математику, астрономию, музыку, грамматику, риторику, диалектику и философию. Все эти науки, прежде всего, опирались на учения Аристотеля. Он быстро и легко овладевал знаниями, однако от любых контактов с людьми бежал, как черт от ладана. Вскоре ему дали прозвище «глупый бык». Он практически постоянно молчал, и один из его сокурсников, посчитав его слабоумным, захотел помочь с философией. За это студент был жестоко наказан: Фома прочитал ему многочасовой «ботанический» доклад по философии, в котором эффектно доказал, что в этой науке он понимает больше, чем многие профессора.
Однако растрачивать свои таланты в политике Фома не хотел. Когда ему исполнилось 19 лет, он вступил в орден доминиканцев, которые, в отличие от бенедиктинцев, больше всего ценили в христианской религии понимание духовности. Здесь не было показных выступлений, игры на публику. Веру в народ несли нищенствующие монахи, которые были искренни в ней, что действовало крайне убедительно.
Фоме такая идея была очень близка, чего не скажешь о его семье. Мать попросила старших сыновей запереть младшего в башне семейного замка в Роккасекке. Здесь Фома должен был одуматься и отказаться от мысли присоединиться к доминиканцам. Чтобы вернуть его к здравому смыслу и убедить в преимуществах светской жизни, родственники даже послали ему в комнату привлекательную куртизанку. Однако она встретилась не с изголодавшимся во всех смыслах монахом, а с готовым на все упрямцем, которого никто и ничто не могло свернуть с намеченного пути. Фома молча взял горящее полено из камина и замахнулся на девушку. Она выбежала из комнаты с пронзительным криком.
Молодого доминиканца продержали в башне более года, но это не помогло – он остался верным своему ордену, и наконец ему удалось сбежать. Юноша отправился пешком в Париж, где встретился с известным теологом Альбертом Великим, который не только «шлифовал» Фому как философа, но и защищал от оскорбительных высказываний: «Вы называете его глупым быком, но запомните мои слова, однажды голос этого быка будет раздаваться над всем христианским миром».
Альберт Великий оказался прав. В 1256 году папа римский предложил Фоме занять место на одной из его теологических кафедр в Париже, несмотря на протест профессоров университета, которые не выносили доминиканских нищенствующих монахов и новоиспеченных магистров. Фома поблагодарил его и с головой окунулся в работу. С помощью своего труда «Сумма теологии» он попытался создать всеобъемлющую философскую систему христианской веры, которой предстояло многие столетия указывать верный путь. Для него самым важным авторитетом был Аристотель. Казалось, он понимал этого философа лучше других, возможно, даже лучше самого греческого мыслителя, который порой забывал, сколько всего написал. Кроме того, Фома попытался примирить противоборствующие силы христианства – бенедиктинцев и доминиканцев, однако напрасно. В итоге он настроил против себя и тех и других.
В 1272 году Фома Аквинский вернулся в Неаполь, чтобы создать курс обучения для доминиканцев. В это же время его лишают духовного сана. Однако мыслителю это было безразлично, он снова с головой, исполненный энтузиазма, окунулся в работу и написал огромное количество комментариев к работам Аристотеля и Библии. Он никогда не обращал внимания на здоровье, и в этот раз оно дало о себе знать. Фома начал болеть физически и душевно. Его даже посетило таинственное видение. Он рассказал потом своему коллеге: «Все, что я написал, явилось мне в виде соломы, все это пустое». Кроме того, во время урагана ему на голову упал сук. Фома умер 7 марта 1274 года в монастыре цистерцианцев недалеко от Рима. Его организм был полностью изношен. Ему не было и пятидесяти.
Фома Аквинский оставил после себя невероятный труд, в котором показал себя глубокомысленным социологом. Например, он понял, что для прогресса, как и для возможности сосуществования людей, нужно принимать их с индивидуальными особенностями и предлагать им места, где они смогут раскрыться: «Необходимо, чтобы благодаря разному получалось разное, чтобы, например, одни становились земледельцами, другие – пастухами, третьи – зодчими и т. д.; а поскольку жизнь людей требует не только материальных вещей, а больше духовных, то те, кто открыт для духовного, помогут улучшиться другим. Они должны перестать беспокоиться о бренном». Иными словами, в жизни должны иметь свое место и те, кто на первый взгляд кажется бесполезными.
Иммануил Кант: ботаник из Пруссии и его категорический императив
Обычно ботаники редко становятся друзьями. Они слишком сосредоточены на своей работе, слишком подозрительно и непонятно для них взаимодействие с другими людьми. Однако иногда их пути пересекаются и они начинают творить вместе. При этом может получиться нечто великое, как, например, у Пола Аллена и Билла Гейтса, основателей Microsoft. Или у Иммануила Канта и Джозефа Грина.
Существует предположение, что впервые мужчины встретились летом 1765 года в Кёнигсберге. На первый взгляд у них не было ничего общего. Кант, 41‑летний пруссак, ждал документа о присвоении ему профессорского титула, а между тем работал преподавателем философии за жалкую зарплату и подрабатывал частным учителем. Грин, 40‑летний англичанин, занимался продажей зерна и сельди и был, как писал один современник, «самым крупным и авторитетным торговцем английской колонии Кёнигсберга». Однако Кант интересовался не только логикой, этикой и метафизикой. Он увлекался инвестициями, потому что знал, что таким способом можно без труда накопить состояние. Торговца, наоборот, непреодолимо тянуло к философии. Кант и Грин стали лучшими друзьями: они оба были ботаниками и, в отличие от Пола Аллена и Билла Гейтса, с возрастом становились все ближе.
Из ярко выраженных черт характера их объединяла педантичность и болезненная пунктуальность. С 1766 года Кант навещал своего друга почти каждый день. Их встречи регулярно заканчивались в 19.00, а «регулярное» в данном контексте означает «постоянное». Так, например, жители Кёнигсберга знали, что если стрелки часов показывают три минуты восьмого и философ как раз выходит из дома Грина, это не значит, что он слегка заболтался с другом. Это значит, их часы спешат…
Причем Кант немного уступал другу в пунктуальности. Однажды они договорились прогуляться и должны были встретиться в 20.00. Грин стоял на месте уже за четверть часа до назначенного срока и ждал. В 19.58 он взял свою трость и через минуту сел в повозку, которая тронулась с места ровно в восемь. Без Канта, случайно опоздавшего на две минуты. Повозка уже проехала несколько метров, когда запыхавшийся философ догнал ее и стал ожесточенно размахивать руками, чтобы она остановилась. Грин же и не подумал притормозить повозку. Он сказал кучеру ехать дальше, а озадаченного друга оставил на дороге. Это не было каким‑то наказанием или воспитательным моментом – так было заведено у Грина: воспринимать лишь те встречи, на которые являются в назначенный срок. Этот аргумент Кант усвоил слишком хорошо и выразил его в «категорическом императиве» – основе своей философии. В нем исключены компромиссы, когда речь идет о нравственных поступках. «Происшествие с повозкой» не помешало дальнейшей дружбе с Грином.
Наоборот, отношения этих ботаников становились все крепче. Они спорили о философии, доказательствах существования Бога и науках, о политической ситуации в мире, об опасениях – в 1775 году началась американская освободительная война – и надеждах начинающейся эпохи Просвещения. Они беседовали друг с другом обо всем, даже о самом личном, но никогда о чувствах. Грин заботился об инвестициях друга, а тот, в свою очередь, объяснял суть поэзии. Впрочем, эти старания не имели успеха: Грин мог отличить стихотворение от прозы, лишь увидев текст глазами.
Они даже ночевали друг у друга. Речь идет не о каких‑то романтических отношениях, скорее это было связано с возрастом. Так получалось, что все чаще во время их встреч Грин, сидевший в кресле у Канта дома, начинал похрапывать. Тогда философ садился рядом с ним, какое‑то время предавался своим мыслям и в итоге тоже засыпал. Если кто‑то тем временем входил в комнату, Грин с Кантом вздрагивали – и тотчас, не приветствуя посетителя, начинали философский разговор.
Ничто не могло разлучить этих мужчин, тем более женщины: Кант и Грин до конца жизни оставались холостяками. Зато они сделали карьеру. В конце концов один стал философом, а другой накопил приличное состояние, которое, конечно, не мог оставить после своей смерти ни жене, ни ребенку.
Грин умер 27 июня 1786 года. Обычно когда кто‑то говорил, что один из его знакомых умер, Кант реагировал равнодушно, коротко комментируя: «Вот и все» или «Пусть мертвые покоятся среди мертвых». В одной из своих книг он даже советовал в самой типичной «ботанической» манере говорить, принимая во внимание, что для всех нас конец один: «А какое мне до этого дело?» Однако смерть друга глубоко тронула холодного рационалиста. Он перестал ходить на званые вечера, отказывался от ужина. Вместе с тем старый Кант не остался совсем один. Он взял себе повариху и в обед принимал у себя дома гостей, общался с ними, вел остроумные беседы.
Иммануил Кант проявил себя как ботаник уже в колыбели. 22 апреля 1724 года он появился на свет, но не пышущим здоровьем карапузом, а слабеньким младенцем в семье, где дети умирали очень рано. Иммануил был четвертым ребенком Кантов, но при его рождении осталась в живых лишь его пятилетняя сестра. Поэтому неудивительно, что его мать, Анна Регина, начала просить за своего худенького и бледного малыша: «О Боже, спаси и сохрани его до самой его кончины».
Наверное, ее услышали, потому что Иммануил выжил. После него родилось еще пятеро детей, но из них грудной возраст пережили только трое. Его мать умерла от лихорадки, когда Иммануилу исполнилось 13 лет.
В последующие годы Кант не сказал ни единого плохого слова о родителях. Следует задуматься о том, как он о них говорил. Он хвалился, что «никогда они не были замечены в чем‑то непристойном». Он был благодарен за то воспитание, «которое с моральной точки зрения просто не могло быть лучше». Речь идет не о любви, теплоте и эмоциях, лишь о морали и принципах. Неизвестно, действительно его родители не допускали эмоции в свою жизнь или их сын просто этого не замечал. Позднее, уже будучи философом, он назовет брак «соединением двух лиц разного пола ради потенциального обладания половыми органами другого». Однако такие выводы он делает, исходя главным образом не из личного опыта, а основываясь на примере родителей. В любом случае уже в юном возрасте Кант превратился в рационалиста, который закопал свои чувства глубоко в сознании под законами о морали.
В пять лет он пошел в школу, где довольно быстро научился читать, писать и считать. Священник уговорил родителей отправить одаренного мальчика в колледж Фридриха – учебное заведение, а лучше сказать – место для выращивания духовного поколения. Естественные науки здесь практически не преподавались, вместо этого ученики изучали божественные изречения и библейские рассказы на древнееврейском, греческом и латинском языках. Кант был не сильно воодушевлен, но справлялся. Вместе с одноклассниками Дэвидом Рункеном и Йоханом Кунде он образовал триумвират ботаников, мечтавших о карьере ученого. Они набросали планы литературных эпосов, которые хотели опубликовать под своими латинскими именами (Кантиус, Кундеус и Рункениус). С раннего утра до позднего вечера их мозг был заполнен разными мыслями, и они посвящали себя не только школам классических авторов.
В сентябре 1740 года, когда Канту было 16 лет, он поступил в Кёнигсбергский университет (Альбертина). Он изучал без какой‑либо конкретной профессиональной направленности естественные науки, философию, теологию, математику, литературу и языки. Это была обширная программа, но ему все давалось очень легко. Уже в 1746 году он сочинил первый научный трактат со сложным названием: «Мысли об истинной оценке живых сил в природе и оценке доказательств, которые приводили господин Лейбниц и другие математики в этом спорном вопросе, вместе с некоторыми вышеупомянутыми рассуждениями, которые касаются сил тела». Это был памфлет, в котором молодой студент вступил в спор с выдающимися мыслителями. Однако для успешного окончания учебы этого было недостаточно. Он начал работать домашним учителем в сельской местности, но вскоре разочаровался в этом. Чрезвычайно талантливому, но чудаковатому ботанику лучше не работать педагогом. Кант жаловался, насколько тяжело ему было «заниматься науками с детьми и подстраиваться под них», и в 1754 году он в итоге вернулся в Кёнигсберг, где намеревался окончить магистратуру.
Теперь Кант стал писать один трактат за другим. Тематика была широкой – от метафизики в «Теории неба» до ужасного землетрясения в Лиссабоне в 1755 году. Он надеялся, что получит титул профессора, но этого пришлось ждать достаточно долго. Король Фридрих II с большим удовольствием воевал, чем раздавал титулы и назначал на должности. Кант много лет, как он сам выразился, «маялся, как маятник, читая одни и те же лекции в одном и том же темпе». Он был доцентом университета с низкой оплатой труда и непонятным будущим.
Весной 1770 года Канту исполнилось 46 лет. Он уже потерял надежду, когда неожиданно король сделал его профессором логики и метафизики. Теперь он мог дать волю своей своеобразной натуре, к тому же ему за это еще и неплохо платили.
Кант взял на работу слугу и повариху и даже позволил себе купить дом. Он завел строгие правила. Каждое утро в 5.00 слуга по имени Лампе как штык стоял возле его кровати и кричал: «Подъем!» Кант явно не был жаворонком, хотя и пытался им стать, поэтому нередко просил слугу вернуться чуть позже. Однако Лампе был непоколебим и повторял свой приказ, ведь так ему велел господин.
Через полчаса Кант уже сидел за чашкой чая и готовился к лекциям. В его рабочем кабинете должно было быть точно 24° тепла, ни градусом меньше, ни градусом больше, поэтому слуге приходилось разжигать камин и летом. Незадолго до 8.00 он уходил в университет читать лекции. Находясь на работе, в течение всего времени Кант постоянно делал пометки, когда ему приходила в голову новая мысль. Ровно в 13.00 он снова сидел дома за обеденным столом. Обычно он приглашал гостей на разговор: не менее трех (как три Грации в римской мифологии) и не более девяти (как девять муз в греческой мифологии). Для одного гостя предназначалась половина бутылки вина. Пива же, напротив, никогда не подавали, потому что Кант считал его медленно действующим ядом. Когда философ однажды услышал о человеке, который умер в самом расцвете сил, он прокомментировал это так: «Думаю, он пил пиво».
Гости, которыми, конечно, были исключительно мужчины, сидели до 17.00. Молитвы за столом не читались, нельзя было приводить детей. Примерно так представлял себе Кант семью. Между тем он во второй раз задумался о том, чтобы жениться. Дамы не уделяли достаточно внимания Канту, потому что он явно не отличался привлекательностью. Зато он составлял хорошую партию, а к тому же обладал манерами. Однако оба раза философ слишком медлил с предложением: одна женщина просто ушла, а вторая нашла другого. Кант утешал себя мыслью, что неженатые мужчины обычно дольше выглядят молодыми, чем их женатые ровесники.
Кант был самым лучшим доказательством этой гипотезы. Всю свою жизнь, несмотря на хилое телосложение и не совсем крепкое здоровье, Кант никогда по‑настоящему не болел. Его биограф Рейнольд Бернхард Яхманн пишет: «Организм Канта от природы своей не мог протянуть до 80 лет. Он же заставил природу продлить ему жизнь. Все его тело было настолько слабым и хилым, что только Кант мог столько лет его поддерживать и сохранять».
Кроме того, Кант, как он сам признавался, был склонен к ипохондрии. Его часто посещал страх перед вредными насекомыми, он даже описал необычные теории их возникновения. Ставни его окна в спальне всегда должны были быть плотно закрытыми, иначе, как думал он, к нему залезут тараканы. Однажды, когда он был в отъезде, слуга Лампе проветривал его затхлую комнату и забыл запереть ставни. Когда Кант вошел в спальню, он обнаружил открытое окно… и таракана в своей кровати. После долгого размышления он пришел к выводу, что тараканы появляются от солнечного света. Даже Аристотель заблуждался в свое время, когда утверждал, что мыши появляются из грязи.
К концу своей жизни Кант стал мучиться подагрой. Впрочем, совет своего врача – пожалуйста, поменьше мяса, колбасы и вина – он игнорировал. Вместо этого он просто окунал пальцы в ледяную воду и даже рекомендовал это в своей статье для журнала «Практическая медицина». Среди его прочих советов о том, как сохранить здоровье, есть такие: спать не больше семи часов (потому что кровать – это «рассадник болезней»); не спать после обеда (хотя они с Грином всегда не прочь были вздремнуть); спать в холодной комнате и для улучшения пищеварения выкурить трубку (хотя его легкие явно нельзя было назвать здоровыми).
Строгое следование таким советам, которые помогали ему, скорее, только из‑за самодисциплины, не спасло в этот раз. Кант «разваливался» физически и духовно. Он сильно похудел, ему стало трудно сосредоточиваться. Все чаще он, засыпая, падал со стула. Самостоятельно встать он уже не мог, и ему приходилось лежа ждать помощи. Философ, приписывающий своим согражданам титул «недоразвитых по собственной вине», все больше превращался в немощного старика.
В октябре 1803 года Кант перенес инсульт. После этого он не захотел жить дальше. Ночью на 12 февраля 1804 года он, совершенно обессиленный, лежал в кровати. Он попросил принести попить, и ему подали стакан со смесью воды и вина. Кант сделал небольшой глоток и сказал: «Хорошо». Имел ли он в виду вино, свою жизнь, смерть или все вместе? Мы этого не узнаем. Он вытянулся еще раз, лег совершенно симметрично, так, как делал всегда, когда ложился спать, – и умер.








