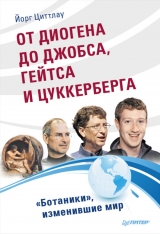
Текст книги "От Диогена до Джобса, Гейтса и Цукерберга. «Ботаники», изменившие мир"
Автор книги: Йорг Циттлау
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Аристотель – первый профессор всемирной истории
Есть сразу два мифологических объяснения образования греческого полуострова Афон. Согласно первой легенде он обязан своему появлению битве между великаном Афоном и богом морей Посейдоном. Гигант бросил огромную скалу на бога, но Посейдон уклонился, и громадина упала в море недалеко от греческого полуострова Халкидики. Она находится там и по сей день, только соединенная с Халкидиками, похожая на палец, который как будто указывает на Средиземное море. Драматичная история, но нам ближе и интереснее вторая легенда. Непорочная Дафна, дочь царя из Аркадия, пришла на Афон, чтобы спрятаться от Аполлона, сгорающего от сильной любви к ней. Когда исполненный желания бог нашел ее здесь, она почувствовала такое отчаяние, что попросила своего отца превратить ее в лавровое дерево. Разочарованному Аполлону достался лишь лавровый венок, который он впредь носил на голове и лире, а один из городов на Афоне назвали в честь Дафны, и он до сих пор носит это название.
Важно символическое значение побега Дафны. Так она дала понять, что не хотела уступать плотскому желанию Аполлона. Остров стал для нее убежищем от сексуального соблазна, и это – место для многочисленных монахов, которые посвящают себя исключительно любви к богу. В начале XX столетия здесь проживало более 7000 монахов, затем их численность сократилась на 1200 человек, а сегодня их немного больше, чем 2000 человек. Они уединенно живут в очень скромных условиях и встречаются лишь от случая к случаю в одном из 20 монастырей, чтобы послушать мессу. Настоящие ботаники служат богу и не допускают никаких отклонений в своей вере.
Женщинам вход на Афон запрещен. Этому есть вполне официальное объяснение: «Из рая изгнана женщина, чтобы мужчина не лишился этого рая». На полуострове даже нет домашних животных женского пола. Ослы, лошади, кошки, собаки – только самцы. Лишь пчелам позволено иметь королеву, потому что иначе они не смогут производить мед.
В 2003 году европейский парламент решил отменить аватон – закон, запрещающий женщинам ступать на остров Афон, ведь Греция вступила в Евросоюз. Однако Афон сохранил за собой исключительный статус. В республике монахов, несмотря на то что остров принадлежит Греции, царят свои законы.
Самим грекам совсем не мешает тот факт, что здесь никто не руководит. Ведь на родине философии уже давно привыкли иметь дело с такими чудаковатыми ботаниками. Первым был Фалес, затем Гераклит, а немного позднее всего в нескольких километрах к северу от Афона родился еще один философ‑ботаник, которого называют первым профессором всемирной истории. Его имя – Аристотель.
Аристотель появился на свет в 384 году до н. э. в Стагире – небольшом городке на юго‑восточном побережье Халкидиков. Его отца звали Никомах, он был потомственным лекарем при дворе царя Македонского в Пелле. Родители Аристотеля умерли рано, поэтому его передали двоюродному брату, который отправил мальчика в маленькую деревушку, расположенную на лидийском побережье. Из центра державы в провинцию. Для Аристотеля, наверняка привыкшего к аристократическому обществу, изнеженного и избалованного роскошью, это означало, что теперь ему придется общаться лишь с недалекими деревенскими увальнями. Конечно, это было абсолютно неприемлемо. Он вел себя почти так же, как Гераклит: никакого контакта с глупыми людьми. Поскольку ученый считал себя умнее всех, то занимался он в основном самим собой и тем, что делало его еще умнее. В наши дни молодой Аристотель, наверное, сидел бы с банкой колы и куском пиццы за компьютером и работал над созданием Википедии.
Когда Аристотелю исполнилось 17 лет, юноша смог вздохнуть свободно, потому что мучения в провинции остались позади. Его отослали в Афины в Академию великого Платона. Однако к молодому человеку из провинции там отнеслись скептически, тем более что Аристотель шепелявил, недоверчиво поглядывал на мир, прищуривая глаза (полагают, он был близорук, а очков тогда еще не существовало), и физически был сложен не очень привлекательно, что пытался скрыть под элегантной дорогой одеждой. В общем, он был аутсайдером, которого учителя и сокурсники сначала воспринимали негативно. Однако это нисколько не мешало ему проявлять невероятное усердие (ему дали прозвище Читатель) и необыкновенные умственные способности, благодаря чему он довольно быстро стал любимым учеником Платона.
Легенда гласит, что среди избранных учеников Платона вырастало нечто особенное. Однако отношения у этих двух гениев складывались по‑разному. С одной стороны, Аристотель жадно впитывал все, что давал Платон, с другой – становился самонадеянным и агрессивным, если что‑то его не устраивало. Все чаще он начинал спорить, при этом порой настолько яростно, что Платон разочарованно говорил: «Аристотель меня брыкает, как сосунок‑жеребенок свою мать».
Жеребенок все же оставался в Афинской «конюшне мысли» 20 лет и успешно справлялся со всеми поставленными задачами. Македонец заслужил уважение, но любим никогда не был. После смерти Платона Аристотель подумал, что ему доверят руководство академией. Однако директором сделали племянника Платона Спевсиппа, по легенде, падкого на развлечения и любящего выпить; позднее он погиб во время одного адюльтера. Одухотворенному Аристотелю было особенно обидно, что на место руководителя академии выбрали такого человека. Он думал о Спевсиппе всю свою жизнь.
Совершенно расстроенный Аристотель вернулся в лидийскую деревню. Возможно, к этому моменту у него не осталось надежды, что судьба преподнесет какой‑нибудь приятный сюрприз. Он владел математикой, логикой, философией и другими абстрактными вещами как никто другой, а вот быть ремесленником или инженером не мог, поэтому найти в то время работу, особенно в провинции, у него не было никакой возможности.
Однако получилось по‑иному. В Лидии произошла смена власти. Встающая на ноги молодая демократия была свержена, на смену ей пришел тиран по имени Гермиас, который правил со всей жестокостью, но любил окружать себя остроумными подчиненными. Аристотель получил место при дворе, причем до сих пор неизвестно, чем он, собственно, занимался. Однако мы точно знаем: он получил в жены Пифию, дочь тирана. До сегодняшнего дня непонятны причины этой свадьбы, исторические источники дают противоречивые объяснения. Ясно лишь одно: согласия Пифии никто не спрашивал, ведь тогда женщины не имели права голоса. Сомнительно, что это был союз по любви, ведь философ считал соединение мужчины и женщины природной необходимостью, а не чем‑то большим: «Необходимо, чтобы существа соединялись, иначе они не смогут существовать». В любом случае брак для Аристотеля был выгодным. Когда персы напали на лидийцев и Гермиаса распяли на кресте, супруги убежали в Македонию. Там правил Филипп, старый друг и союзник Гермиаса. Он принял их.
Некоторое время спустя Аристотель стал учителем македонского принца, который позднее вошел в историю под именем Александра Великого. Философ и будущий могущественный правитель возбудили фантазию бесчисленного количества писателей. Однако на самом деле влияние шепелявого ученого на юнца, находящегося в возрасте полового созревания и управляемого тестостероном и адреналином, было недолгим. Их совместное времяпрепровождение продлилось всего два года. Когда Александр впоследствии напал на Восток и уничтожил целые народности, вряд ли он действовал по логике Аристотеля.
В 335 году до н. э. философ вернулся в Афины. Там в одной публичной гимназии он основал собственную школу Ликей. Очень скоро новая академия по значимости превзошла старую платоновскую философскую школу. Во‑первых, потому что в ней больше работали по материальной и научной модели и меньше по литургической. Во‑вторых, ее руководитель был словно одержим работой и не жалел никого. Например, Аристотель считал, что сон лишь мешает философствовать, и разработал метод, с помощью которого можно было сократить ночной покой до минимума. Он состоял в следующем: когда ложишься спать, нужно взять в руку железный шарик и лечь так, чтобы рука свисала над тазом. Когда шарик падал в таз, Аристотель просыпался от шума и мог дальше размышлять.
Решительная борьба со сном (ведь есть так много более важных вещей) станет позднее отличительной особенностью ботаника. Сна себя лишал и великий изобретатель Томас Алва Эдисон. Он работал до 112 часов в неделю в своей мастерской и не уходил домой даже ночью. Он лишь ложился немного вздремнуть на деревянную скамейку. Получается, что Эдисон спал в общей сложности не больше четырех часов в сутки. Как следствие, уже к 38 годам изобретатель был физически истощен, здоровье было подорвано. Тем не менее в течение жизни он сделал свыше 2000 открытий.
Почти постоянно бодрствующий Аристотель оставил потомкам гигантский труд: более 400 томов с почти 450 000 строками. Заплатил он за все это своим здоровьем. Ученый страдал – что типично для тех, кто не спит по ночам, – гастритом, а позднее, скорее всего, язвой желудка. В качестве лечения он клал себе на живот по вечерам бурдюки с горячим маслом, но занятия никогда не отменял.
Потом начались политические колебания, которые прервали его преподавательскую деятельность. В 323 году до н. э. умер Александр Великий, и это послужило поводом для восстания против македонского господства. Тогда вспомнили, что Аристотель когда‑то был учителем Александра, а еще – македонцем. Его обвинили в том, что он сотрудничает с ненавистными оккупантами, не имея при этом доказательств. Аристотель сначала отреагировал на нападки спокойно, но затем скрылся в Халкисе, где жила его мать. Незадолго до того, как уехать, он сказал – явное указание на Сократа, – что не даст больше афинянам возможности «согрешить на философии».
Аристотель умер через несколько месяцев после того, как покинул Афины. Однако его труд многие столетия служил основой для дальнейшего развития логики, философии и науки в целом. Продолжало жить и его личное мировоззрение. Аристотель был прообразом профессора‑ботаника: невероятно умного, немного странного и постоянно о чем‑то думающего, к тому же готового пожертвовать собственным здоровьем ради дела. В одном Аристотель совершенно не соответствовал образу типичного ботаника: он основал школу, проявив желание сделать людям хорошее. Он хотел улучшить их и понравиться им. Настоящему ботанику такие амбиции чужды. Он чаще ведет себя, как Диоген из Синопа.
Только не уходить в себя: Диоген и киники
В некоторые периоды истории ботаники могли развиваться и совершенствоваться особенно хорошо. Конечно, это эпоха компьютера и Интернета с такими яркими фигурами, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг. В ранней истории также известен период, неожиданно породивший множество ботаников. Это было время так называемых киников.
Эти «собаки‑философы» (слово «киник» происходит от греческого kŭvikoí – собака; позже от него произошло понятие «циник») обязаны своему существованию – как и другие ранние ботаники – прежде всего свободе слова и относительному благосостоянию греческого общества. Их образцом был бродивший по Афинам в оборванной одежде неухоженный Сократ, который проповедовал неприхотливый образ жизни. Однако сам Сократ еще не был киником и не был ботаником, так как имел слишком тесные связи с реальным миром. Он служил в армии и женился на Ксантиппе, совершенно нормальной женщине, которая часто справедливо волновалась по поводу лени и страстного желания супруга поспорить. Кроме того, Сократ постоянно искал близости с другими людьми, чтобы побудить их к размышлениям о их жизни и ценностях. Его тип философского подхода называется сократовским методом, или «искусством повивальной бабки». Людей нужно побуждать доставать знания из самих себя не путем утомительных бесконечных нотаций, а с помощью целенаправленных провокаций и обоснований. Помощь для духовной самопомощи – ни одному ботанику не пришло бы такое в голову. Он лучше будет практиковать обратное: либо нервировать людей заумными и долгими речами, либо заставлять их почувствовать презрение к их глупости.
Первым представителем кинической школы стал Антисфен, родившийся в 446 году до н. э. в Афинах. Сначала он примкнул к софистам, но их бессмысленная красивая болтовня ему не понравилась, поэтому он долгое время следовал учению Сократа, чье хладнокровие его поражало. Позже Антисфен основал собственную школу, но то, что практиковал ученый, не имело ничего общего с философскими школами Платона и Аристотеля.
В лучшем случае это можно было назвать состоянием, побуждающим к философствованию. Антисфен ходил по улицам, приходил без приглашения на банкеты и собрания, где нервировал участников занудными размышлениями о преимуществах неприхотливости. Он не оставил письменных конспектов – все, что дошло до нас, – лишь забавные эпизоды из его жизни.
Легендарно его появление на пиру одного богатого купца, о чем поведал Ксенофонт. На нем Антисфен описал свое представление о богатстве как «состоянии души». Власть и деньги он к этому не причислял, иначе «как еще объяснить тот факт, что некоторые, хотя и имеют много разных вещей, все равно прилагают все больше сил, чтобы накопить еще больше денег. Так же не понятно поведение тиранов, настолько ослепленных жаждой власти и наживы, что ради этого они идут на ужасные преступления». Антисфен же, наоборот, считал себя по‑настоящему богатым человеком:
Я сплю, ем и пью там, где мне больше всего понравится, и мне кажется, что весь мир принадлежит мне. Чтобы сделать блюдо более желанным, я использую исключительно свой аппетит. Я какое‑то время ничего не ем, и уже после первого дня воздержания от пищи любая еда мне кажется наивкуснейшей. Когда моему организму необходима любовь, я беру некрасивую женщину, чтобы она отдалась мне всей душой и телом, потому что никто другой ее не хочет. Ну а лучше всего, дорогие мои друзья, если вообще ни в чем не нуждаешься.
Все это звучит логично и убедительно, но тот, кому ничего не нужно, не страдает от недостатков. Одно известно совершенно точно: Антисфену нужно было немного больше. Например, красивых женщин. Однажды у него случайно вырвалось: «О, если бы я мог обнять Афродиту!» Конечно, свою нужду он тотчас превратил в добродетель и заметил (проповедуя отказ от порывов): «Лучше сойти с ума, чем погибнуть от желания». Такая стратегия компенсации собственных желаний и потребностей всплывает в ходе истории довольно часто. Например, ботаники особенно изобретательны, когда речь идет о том, чтобы скрыть свои сексуальные желания.
В целом Антисфена нельзя назвать настоящим ботаником – для этого он был слишком тщеславен. Когда Сократ однажды увидел киника, демонстративно идущего по рыночной площади в поношенном одеянии, он заметил с сарказмом: «О, Антисфен, из дыр твоего диплакса [5]5
Большой платок, заменявший в Древней Греции пальто.
[Закрыть]на меня так и прыгает самовлюбленность». Тот, кто хочет всему миру показать неприхотливость, обычно ведет себя ничем не лучше, чем тот, кто напоказ выставляет свою многоэтажную виллу, откровенно хвастаясь богатством.
Диоген же был совершенно из другого теста. Антисфен хорошо прочувствовал это, когда уже в почтенном возрасте слег от болезни и мучил своих близких бесконечными причитаниями и нытьем. Когда Антисфен спросил своего любимого ученика Диогена: «Что же может меня избавить от страданий?», Диоген обнажил свой кинжал и сказал: «Вот это». Антисфен, ошарашенный ответом, подскочил и закричал, что он хочет покончить лишь со своими страданиями, а не с жизнью. Диоген только пожал плечами.
Диоген родился в 404 году до н. э. в Синопе. Он работал у своего отца в лавке менялы, но затем обоих обвинили в подделке монет и осудили. Отца посадили в тюрьму, Диогена же изгнали, и он отправился в Афины. Покидая родные места, философ произнес: «Если синопцы меня приговорили к изгнанию, я приговариваю их оставаться на родине».
В Афинах он встретил Антисфена, которому сначала не понравился. Он посчитал синопца настолько упрямым, что хотел прогнать палкой. Однако Диоген оказался действительно настойчивым, что свойственно ботаникам: когда от них хотят отделаться, они еще больше настаивают на своем. Ведь отказ можно воспринимать как особую форму оказания внимания.
Вскоре Диоген стал намного популярнее, чем его учитель Антисфен, из‑за чего последний чувствовал себя неуютно. Ученик был более оригинальным, и, что еще важнее, люди чувствовали, что он искренен. Диоген не устраивал шоу – он сам был «шоу», потому что действовал спонтанно, не стеснялся критиковать и показывать неуважение. Все побаивались попасть к нему на острый язычок и очень радовались, когда такой жертвой становился кто‑то другой. Конечно, удовольствия от этого было тем больше, чем важнее был объект насмешки.
Александр Великий однажды встретил киника на ступенях гимназии в Коринфе и спросил его, может ли что‑то сделать для него. Последовал легендарный ответ: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Диоген в это время не был поглощен своими мыслями. Он просто создавал видимость того, что погружен в себя. Римский философ Сенека однажды сказал о Диогене, что такой неприхотливый человек мог бы запросто жить в своем мире. Ключевые слова – мог бы. Вряд ли бы Сенека употребил глагол в сослагательном наклонении, если бы Диоген действительно жил в своем мире.
Диоген жил в основном под открытым небом, и это закалило его тело – он лежал обнаженным на песке под солнцем летом и на снегу зимой. Все его имущество состояло из плаща, в котором он спал, а также миски для еды и кружки для питья. Когда он увидел, что чечевицу, его основное блюдо, можно просто вдавливать в хлеб, он выбросил и миску.
Что касается сексуальных отношений, Диоген был, можно сказать, своеволен. Неизвестно, интересовался ли философ женщинами, но они ему точно не уделяли особого внимания, потому что он был нищим, да еще с ужасными манерами. Он упражнялся в самоудовлетворении, при случае даже совершенно открыто, прямо на рыночной площади. Когда его попытались пристыдить за это, он лишь ответил: «Ах, если бы я мог и свое чувство голода успокоить легким потиранием желудка».
Диоген, как и Сократ, Антисфен и Гераклит, не оставил после себя сочинений. За него говорили поступки, ведь вся его жизнь представляла собой одно действие некой «философской пьесы». Он бродил днем по улицам с горящими фонарями и во все горло кричал: «Я ищу настоящего человека!» В другой раз он встал перед каменной статуей и задавал ей вопросы. Когда его спросили, зачем он это делает, он ответил: «Я упражняюсь в том, чтобы приучить себя к отказам».
От Диогена никто никогда не слышал ничего милого или приятного, по крайней мере напрямую. Однажды его пригласили на шикарную виллу, обставленную изящной мебелью, с роскошными коврами на полах и стенах. Все было сделано со вкусом, и даже неприхотливый киник должен был это оценить. Однако он плюнул хозяину дома в лицо, затем вытер его своим плащом и сказал, что просто не смог найти во всем доме ни одного ужасного пятна, куда бы он мог сплюнуть.
Последний отрезок своей жизни Диоген провел на Крите в доме одного работорговца. Старца спросили, что он еще мог бы сделать. Прозвучал ответ: «Командовать людьми». Когда он увидел богатого торговца Ксениада, на котором так и сверкали драгоценные камни, Диоген добавил: «Продай меня этому человеку – он так наряжен, что, кажется, ему срочно нужен кто‑то вроде меня». В итоге он попал к Ксениаду, остался у него и преподавал его сыновьям.
Диоген прожил 90 лет. Считается, что его влияние на развитие философской науки более скромное, но следует признать, он был одним из самых великих ботаников.
Глава 4 Наверху, на башне из слоновой кости
Великие ботаники философии
Философия – это дело головного мозга. Когда пропагандируется власть неосознанного желания, как это делали Шопенгауэр и Ницше, мышление и речь остаются уделом серого вещества, которое занимается сознательным размышлением и суждением. Поэтому вполне логично, что среди великих в истории философии много ботаников. Они больше полагаются на головной мозг, чем на то, что находится ниже него.
Существуют и другие причины, по которым история философии становится полем деятельности ботаников. Во‑первых, философ часто занимается вещами, которые не приносят непосредственной пользы. Кого, собственно, интересует, сколько ангелов поместится на острие иглы или что появилось сначала: явление либо вещь? Такими вещами озабочен исключительно ботаник. Во‑вторых, философы зачастую одиноки, у них проблемы в отношениях с другими людьми, особенно с женщинами. Больше половины известных философов неженаты. В какой‑то мере это объясняется тем, что некоторые из них жили при монастырях, но причина и в том, что они просто не могли покорить женское сердце. Чудаковатый тип без каких‑то конкретных карьерных перспектив имел мало шансов заинтересовать женщину.
Третья причина, почему «философы и ботаники» часто означает одно и то же, заключается в том, что они равнодушны, а иногда даже крайне негативно относятся ко всему, что связано с детьми, к иррациональному и физическому. Плотин (205–270 года до н. э.) бичевал свое тело, считая его тюрьмой души. Он отказался от гигиены, потому что не хотел доставлять врагу удовольствие. Но и для его приверженцев это было не совсем приятно, ведь их дурно пахнущий учитель любил по‑отечески обнимать их.
Рене Декарт (1596–1650) хотел, чтобы детство признали болезнью, которую необходимо как можно скорее вылечить. Физическое движение вызывало у него отвращение, поэтому большую часть времени он проводил в кровати. В полудреме он начинал сомневаться в реальности, лишь думающее «я» имело смысл: «Я мыслю, значит, я существую».
Жан‑Поль Сартр (1905–1980) выглядел прототипом настоящего ботаника. У него были узкие плечи, он носил огромные очки, ему с ранней юности поставили диагноз «помутнение хрусталика». Он был больше озабочен духовной стороной жизни, нежели материальной. Сартр много курил и поэтому особенно рассердился, когда во Франции ввели запрет на курение, а на всех картинах и фотографиях с ним подретушировали трубку и сигареты (только в январе 2011 года парламентская комиссия проголосовала за то, чтобы отменить запрет на публичные изображения курения).
Людвиг Витгенштейн (1889–1951), напротив, был убежденным противником курения, но относился к своему организму не лучше, чем Сартр. Работая профессором Кембриджского университета, он жил, питаясь только хлебом и сыром. На вопросы по этому поводу он отвечал: «Мне совершенно безразлично, что есть, – главное, чтобы все оставалось неизменным». Современные ботаники думают так же и сегодня, только хлеб заменили чипсы, пицца и кола.
Не следует забывать, что философы и ботаники имеют сходство в манере общения. Когда они берут слово (что бывает нечасто), то начинают бесконечный и мудреный монолог. Часто в нем много истины и существенной информации, но для слушателей он слишком утомителен. Особенно сложно было слушать Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). Один из его студентов описал лекции ученого так:
Усталый и мрачный, он сидел опустив голову, сосредоточенно пытаясь найти что‑то в своих многочисленных записях, постоянно бормоча, перелистывая их то в одну, то в другую сторону. Он кашлял почти на каждом слове, все предложения проговаривал отдельно, а также каждое слово и каждый слог, а потом на швабском диалекте металлическим голосом говорил так, как будто все, что он сказал, – самое важное.
Артур Шопенгауэр считал отвратительными не только лекции Гегеля, но вообще его личность. Он называл его «презренным субъектом» и «духовным Калибаном» (это не Талибан, но все‑таки достаточно жестокое чудовище из комедии Шекспира). Шопенгауэр даже назначал свои лекции на то же время, что и Гегель, но эту дуэль он всегда проигрывал. Студенты предпочитали бормочущего себе под нос угрюмого ботаника агрессивно настроенному умнику. Своего олимпа Шопенгауэр достиг намного позднее. Он прокомментировал это так: «Нил дошел до Каира». Он никогда не испытывал недостатка в самоуверенности.








