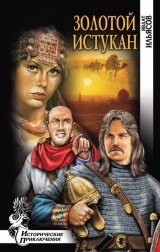
Текст книги "Золотой истукан"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сказал он это без злости, скорее – с жалостью даже, и не только к земле, лежавшей без пользы, но и к тем, кто бродил по ней со стадами. Научились в Тане русичи и себя понимать, и булгар, хоть немного, отличать одних от других.
– Пастухи.
– Все равно – не знают ей цены. С умом подойти: и сена хватило б для ихних овечек, и хлеба бабам, детишкам. И по белу свету рыскать не надо. Нет, куда,
Грабить легче. Ленивы, собаки.
– А старый булгарин – покойный Кубрат… журил русичей: ленивы.
– Ишь ты. На разбой мы, может, и ленивы, а землю пахать… Сюда б русичей.
– Попросись: мол, подвиньтесь.
– Всем бы места хватило, и хлеба, и сена. Вот только ума не хватает человекам.
«Но эти стервецы, провидицы, жрецы», – вспомнил Руслан. С чего ни начни разговор: с земли, или с лаптей, которыми топчешь ее, или даже с трещин на пятках, все равно придешь к одному…
– Ума-то палата, да не дают им раскинуть.
– Кто?
– Бог да бек.
– Да, – Карась поскучнел, боязливо повел головой, чтоб поправить на шее рогатку – и кожу чтоб не содрать. – Беку – зачем ему землю пахать. У него… табуны, – Искоса глянул на небо, тихо сказал: – Ну, а бог? Почему он за тех, которые против ясного смысла?
– Откуда мне знать.
– Волхв толковал: богу тоже хочется есть. Кто кладет ему сытную требу, к тому он и благоволит. А где ее взять, жертву жирную?
– Разбогатей.
– Хочу, брате! Хочу. А не могу…
– Дед мой, бывало, нас поучал: «Богат, кто силен, а силен, кто умен».
– Боярин иной – дурак дураком, а толстый. Я вроде неглуп, но никак, хоть убей, не изловчусь раздобреть.
– Выходит, все-таки глуп. Суди об уме по достатку. Легко ли добыть, удержать да умножить.
– Было б чего умножать.
– Пучина к тому добавляет, что от отца получил. Отцу же от деда усадьба досталась. Так и идет.
– Откуда оно повелось? Кто первый и как, милый мой, удачу сумел за хвост ухватить? Почему ему перепало, а остальные остались с пустыми руками? Чем он был пред богами лучше других?
– Был расторопным.
– То есть хитрым и жадным. Ага. Значит, древний наш Род, Хорс, Стрибог и Семарг, из-под которых мы на белый свет глядели и людей судили, и через которых люди сходились с нами или расходились, и кому, честно трудясь, мы несли последний кусок, сами не ели, лишь бы их ублажить, – вовсе и не думали про нас, усталых, смирных, они – за расторопных! То есть за лукавых лиходеев?
В круглых волглых глазах, в губастом, тоже округленном, рту: недоумение, боль, и с нею – страх, как у рыбы, вынутой из воды. И впрямь – Карась.
– Видно, ты верно сказал: мы сброд никчемный, безмозглая сволочь, и нечего нам, остолопам, на счастливых коситься, завидовать им. – Помолчав, проворчал: – Не знаю, как твой, мой дед говорил – раньше, покуда волхвов не развелось, точно клопов, – не угодит если идол народу, зря требу ест, его вырывали и в речку кидали. Неужто правда, а, друже?
– Отстань, Карась! – Устал он голову ломать над этим. Устал от злых богачей, от недобрых богов – их благодетелей. Степь нагнетала в душу сонливость. Пастухам – чем им плохо? Так, может, и надо – бродить наугад, дремать на ходу, пока не помрешь.
…А впереди вставал уже новый рубеж. Полоса голубая. Дым, облака? Нет – идешь, идешь: она на месте, все шире, темнее, сверху – в белых зубцах. Руслан спросил у стража:
– Море?
– Горы, – ответил алан. – Кавказ.
Жутко смотреть. После днепровских порогов впервые встретили лес, и тот, нелепый, черно-зеленой стеною вздыблен над степью. Выше: хребет на хребте, чистый снег, и меж туч – лезвием острым – обледенелый гребень.
Уже зима наверху.
– Там вечно зима, – сказал Урузмаг.
– Это, наверно, и есть край земли. Поди одолей. Немыслимо, чтобы где-то еще, за дикими кручами, ровное место нашлось и люди держались на нем.
– Те, что живут позади диких круч, – усмехнулся алан, – тоже небось, впервые к махине этой приблизившись, судят о ней подобно тебе.
Всюду – камень. Селение в каменных башнях, узких, высоких. Переходили напротив него озорную, узорную, в пене, в крупных, с корову брюхатую, сизых обкатанных глыбах, подгорную речку – повозка, где с присными ехал главный хазарин, резко скривилась… и скинула, гордых, в стремнину. Вопль. Вода – холодна, как в полынье.
Хазар подобрали, вынесли верные конники.
Стучит барабан, дудка пищит. Старые горцы в бараньих папахах, в свитах белых, нарядных, с мечами короткими на животах, встречая – заранее, видно, их известили – грозных гостей, укутали их, украдкой смеясь, озябших и мокрых в черные шубы с прямыми плечами без рукавов, и важно, с почетом, наверх увели. Опять пировать. Всю дорогу от Таны хазары, булгаре – веселые, пьяные.
Горцы в кафтанах и шапках поплоше, обтертых – без охоты к алану: не надо ль помочь. А помочь – не спешат. Он им по-булгарски:
– Друзья, волоките на берег арбу. Ось, видно, сломалась… От самой Таны, стерва, верещала, истерзала мне слух. Кузница где? Ого! Высоко. – И русичам: – Эй, Уруслан, и ты, его приятель, не возьметесь ли ось до ковалей дотащить? Телегу туда не поднять – крутизна да уступы. А? Пройдетесь, на девушек горских насмотритесь. Какая ни есть, а, потеха. Небось надоело: в куче да в куче, точно бараны в гурте. Ну, идете?
Другой бы – плетью хлестнул, и весь разговор. Что значит родство древнее, кровное, общность старых богов. Стой, а при чем тут они? С них – беседу начать, знакомство и только. Мало ли родичей кровных режет друг друга, единому богу молясь. Просто – такой уж он человек. Честный и добрый.
Все – в уступах. Уступами горы, плоские крыши. И поле над полем, уже пустое. Эх! Хлеборобы живут. А то уже мнилось: опричь русичей, на свете сплошь пастухи.
– Какой тут народ? – спросил Руслан у алана. – Иберы? – Припомнил, что от Уйгуна слыхал. Вот они, башни крутые. И страшно, должно быть, в них, тонких, высоких, сидеть. Чудится – падают, рухнут сейчас на тебя.
– Адыге. Иберам родня. Те – за горами,
– Тоже хазарам подвластны?
– Все тут подвластны хазарам. И дальним иберам от них достается. Все, да не очень, – мигнул он с угрюмым лукавством. – Законы и вера – свои. Вроде алан адыге: живут племенами, и племена те меж собою в союзе. От буйных булгар, от хитрых хазар откупаются данью.
…Здесь воздух даже на ощупь тугой, чисто звенящий. В груди от него просторно, свежо и отрадно, как от женского смеха. Воздохнешь – и ясно слышишь, как нутро с довольной дрожью жадно всасывает летучую благодать.
Вместо улиц – тропинки вдоль низких оград бело-каменных, а вот и плетень, и кувшины на нем. Всюду женщины моют и сушат кувшины,– люди пьют и едят, как у нас.
Стук да звон. В шапках мохнатых, в ноговицах, чувяках – люд у широких дверей. Заметный народ. Носаты, чернявы. Статны все на подбор. Алан к ним – с важным поклоном. Ось, мол, сломалась. Нельзя ль починить. Озадачены. Видно, некстати явился к ним с делом алан. И прогнать, наверно, зазорно. Совещаются. Экий чудной тут язык – ломкий, шипящий. Пошумев, расступились. Указали место у порога: сидите, не шевелитесь.
Смотрит Руслан – у черной стены распластан на шкуре заросший до глаз, тощий мужик; ноги – в лубках, обернуты войлоком. Возле девчонка сидит с платком на лице: только глаза, длинные, черные, точно кузнечная копоть густая, снаружи. Глянула ими с испугом на пленных, голых до бедер, в цепях, к тому человеку взор отвела – он веки сомкнул – и грохнула чем-то железным по лемеху рядом с его головой.
Очнулся человек, зубами заскрипел.
Тщится не плакать. Пот на выпуклом лбу – точно брызги речные на белом камне. Белый нос уткнулся крючком в искривленные губы. Только задремлет, девчонка – по лемеху ржавому. Кто зайдет со двора, тоже стучит о железо железом. Без того будто звону и грохоту в кузнице мало.
Он со стоном таращит глаза – хворые, впалые. Алые от жгучего дыма, от света углей горящих. Дурные от долгой бессонницы. В них страх и боль. Водит ими по лицам, спокойным, даже веселым, по стенам, неумолимо черным и глухим, пыльному меху кузнечному.
– Это… зачем? – крикнул русич в ухо алану. – Наказание, что ли, такое? – Морщась от чада, от стука и скрежета, хмурый алан подал знак ему смуглой ладонью: молчи. Вздохнул обалдело – не наше, мол, дело.
…Чем же он, бедный, так провинился перед сельчанами – жен, что ли, выкрал у всех, или младенцам пятки отгрыз, – что ноги ему перебили, теперь измываются, вовсе хотят извести?
А девчонка… где ее робость да нежность? Жалость, тревога? В ясных глазах – безмятежность и простодушие. И ни капли сомнения. Кто она – дочь, сестра? А может, жена? У булгар, вон, девчонки тринадцати лет уже замужем. Ей-то он чем досадил? Чистой была, а он подстерег, надругался, – за это и мстит? Не похоже. Рыдала б, стеснялась.
Едва заметит женщину Руслан, пьянеет, немеет, хоть и усталый, голодный и грязный. Живой человек, молодой. Ищет в лицах, бровях и глазах приметы Баян, каждую новую видит через нее. И к этой сперва – с той же меркой, радуясь встрече. Однако теперь, страшной она показалась Руслану. В ней что-то от старой Туснэльды. От веры ее тупой и жестокой: «Так надо».
Кузнецы, раскалив добела концы двух обломков железного стержня тележного, занесли их в клещах над преступником.
…Урузмаг успел схватить юнца за плечи. Аи, глупый! Сиди.
Сейчас зашипит… мясом горелым запахнет…
Два железных куска. Сдвинув их, у излома солнечно-ясные, далее желтые с алым и сизые, они провели с бормотанием ими над ногами в лубках, к наковальне вернулись, и самый большой, бородатый, ахнув, обрушил на стык голубую кувалду. Гром, искры. Молнией блещет ось. На балках – полосы адского света, тени кривые. Будто сюда залетел обрывок грозы, бушевавшей в горах.
И мнилось Руслану – он, обессиленный, потный и бледный, лежит без ног у стены. Ему волосатые темные бесы плющат колени и ступни. Голову. Мозг. Над ним, сторожа, сидит с молотком черноокая тварь…
– Лечение это, по-ихнему – чапш, – сказал Урузмаг, когда русичи, взвалив на плечи готовую ось, ощупью – пальцы б не сбить на ногах, не упасть – спустились по круче к реке.
– Лече-е-ние?!
– Да. Железо целительно. Тот человек – зверобой! Не угодил чем-то Мезитху, адыгскому богу охоты, духу лесному – свалился в горах со скалы. И принесли его к богу кузнечному, имя которому – Тлепш.
– Плешь?
– Кузнец – богу этому жрец. Он скрепляет молотом доли железа: так и Тлепш соединяет сломанные кости.
– А другие… зачем стучали?
– Они – помогали. Уснет – душа улетит, улетит – то ли вернется, то ли забудет.
– Ему бы, хворому, есть да спать, – заметил Карась. – Отдыхать без тревоги. Скорее бы кости срослись, Зверь, ногу сломав, тихо в пещере лежит, рану лижет. Неужто даже до этакой малости, всякой козявке доступной, люди умом не дойдут? Не слепые же все. Глаза, как у соколов, зоркие, разум в них виден – раз уж живут человеки в трудных местах, где часты несчастья, должны бы давно научиться хоть чуть отличать плоть от железа. Дымом душат, громом глушат. Не лечение – смертоубийство. Говорят в народе: здравый смысл. Какое же надо кривое ума ухищрение, чтоб его, этот смысл, – наизнанку: явное, ясное – не принимать, в чертову заумь – верить.
– Так надо.
– Кому?
– Богу и старцам. Тому человеку. Чтоб хорошо ему было. Ему и всем.
– Ему… и всем? – усмехнулся Карась. – У кузни – овечка на привязи. Она тут к чему?
– Кузнецу приношение.
– А! Если кому и хорошо, то кузнецу и подручным.
– Ну, все равно… люди хотят человеку добра.
– Добра? – изумился Руслан, И побелел. Верно, хотят. Здесь таилось что-то преступно нелепое, мерзкое.
Может, это и есть в мире самое страшное: люди хотят человеку добра – и калечат его. И женщина… ей надлежит любить и жалеть,– жалея, сидит над ним с молотком…
Ночью, голодные, голые, грязные, в рабских рогатках, с босыми ногами, разбитыми долгим путем, лежали они, тесно прижавшись к острой и твердой земле – чужой, неуютной, где-то за тысячу верст от своей, мягкой и черной, и, коченея на воздухе – жгучем, яростно чистом, густо стекавшем с обледенелых высот, слушали гул барабана, странный напев горских дудок.
Днем он казался им резким, визгливым, нескладным. Теперь же, привыкнув к нему, дрожаще-струистому, быстрому, в частых узорах, круто закрученных, четких, они убеждались: добрый напев, ясный, веселый И к месту он здесь. Словно это река со всем своим звоном, галечным стуком, журчанием, плеском легко поднялась с каменистого ложа и потекла над селением – А хорошо! – Карась расправил грудь и лег свободнее. – Горы и степь… И море – ты помнишь? И ветер. Ягнята. Костры… Хорошо на земле. И люди на ней… не то, чтоб уж очень хорошие, но трудовые и честные. Ведь не забава: отары пасти, землю пахать, кувалдой махать. Только сперва кажутся злыми, опасными, – вот как алан Урузмаг, – а разглядишь: человек – он и есть человек. Однако… живет будто во сне, и сон у него – тяжкий и темный.
– Ты умный, Карась?
– Я? Не знаю. Пожалуй, не глупый. А ты? Тоже не скуден. Все умные, друже. Все на земле.– И добавил с печалью: – И все вроде безумных
ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ
Дух господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и
послал меня исцелять сокрушенныхсердцем, проповедывать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето господне благоприятное.
Исайя, гл. 61 ст.– 1-2
Ветер. Горы и степь. Крутые увалы. Снова в дорогу. В дорогу. В дорогу. Мы гложем даль, даль гложет нас. Где-то здесь обитали (вспомнил Кубратовы речи Руслан) ханы Батбай, Аспарух – пока не напали хазары. Булгары сместились, аланы остались. Еще до увалов, вставших на пути, ветвясь на север от Кавказа, и до Кубани, и редких адыгских селений, в степи, по соседству с шатрами булгар, попадались аланские веси: валы земляные, за ними – дома из плетней, обмазанных глинной.
Плуг да кнут пастуший, да вино, да боевой топорик – они составляли с виду суть жизни гордых алан. Дивились местным бабам русичи – с мечами, щитами; бабы в почете. Позже узнали – не все, лишь княжьих кровей. И поражались мужчинам, высоким, носатым, усатым. Думали: боже! – красивый народ.
Завидуя им, прямым и плечистым, Руслан, не забывший слов Урузмага, искал: что здесь русское?
И находил: в этих плетнях, валах земляных, очагах глинобитных, ямах для жита, лощеных горшках, оберегах – точно таких, как у русских, и в песнях, тихих, грустных, бесконечных, словно колыхание ковылей.
Будто он был здесь когда-то.
– Ох, песни! Славные песни.
– Да? – Урузмаг улыбнулся, довольный. – Но, честно сказать, поют лучше всех на Кавказе армене.
Однажды увидел Руслан: юная, в платье до пят, тонкая женщина, взяв полотенце, кувшин, долго стояла утром в углу, скудной струей наливая теплую, с паром, чистую воду в медный блестящий тазик, тихо смеясь. Личико – узкое, темное, нос тяжелый, глаза в толстых веках подслеповато прищурены. Бедра – в сомкнутых лапах его уместились бы. Смех на маленьких круглых губах – плачущий, жалкий.
Тронута, что ли, бедняжка?
Глянула – смотрит Руслан, застеснялась. И, похоже, не оттого, что он смотрит, – приветлива, доброжелательна, видно, он ей по душе, – а оттого, что она совершала что-то убогое и надоевшее, но, должно быть, очень уж нужное. Кому-то, конечно, не ей.
Течет из кувшина в тазик вода – тазик уныло звенит, – стекает вода через край, уходит в канаву. В женщине – скорбь. Жизнь молодая уходит впустую, течет по замшелой канаве.
– Аза, сестрица моя, – пояснил Урузмаг. А! То-то они обнимались дотоле – когда алан и русич сюда забрели водички попить.
– Что это с нею?
– Мужу умыться дает.
– Где ж он, муж? – Смерд удивленно уставился в угол пустой, где робко она хлопотала – ни тени мужской у кривого столба, печально навес подпиравшего под небом синим, холодным.
– Умер полгода назад. Вредный был человек, – тьфу! – мир его праху.
– Умер? Зачем же…
– Так надо. Каждый вечер постель ему стелит, спит с духом бесплотным,
– И долго ей этак чудить?
– Полгода еще.
Злая потеха. Сколько сил у живых: уходит на мертвых. И вспомнил: а на Руси? С мертвыми бабы, правда, не спят, зато на могилы носят припасы, пьют и едят – кормят усопших, которые, – пеплом, костями горелыми смирно лежат в домовинах.
…Пленных разместили за оградой, в пустом обширном загоне для овец. Дух – невыносимый. Ноги вязнут до колен в зеленоватой хлюпающей каше из катышек, размокших в моче. Ну, что же. Пускай. Как тут быть? Улеглись. В дальнем углу бушевали готы: «Эй русс!».
– Идите вы к черту, – ворчал юный смерд. – Привязались.
Ему с Карасем повезло: у белой ограды, приникшей к холму, в жиже зловонной – камень плоский, большой, на нем приютились. Эх-хе-хе! Карась Руслану в глаза поглядел, Руслан – Карасю; поерзали, подобрались – друг друга чтоб не стеснять, да притихли.
Наверху – усадьба крутая: белый камень в стенах, над стенами – дым, тоже белый; мясом жареным пахнет; люди в белых бешметах к воротам идут и идут, – свадьба, что ли, у них; но почему же дудок не слышно, песен веселых, – гости все грустные, важные? Ясно одно: на горе – пир горой; про пленных же нынче забыли – бурды повседневной, и той не несут.
– Еруслан! Ой, Еруслан… – Тот, было задремавший, услышав, веки раздвинул. В первый миг показалось ему: кличет отец. В миг второй – осознал: отец-то умер давно; кто зовет? Карась громко стонет: «Убей меня, друже! О камень ударь головой – упокоюсь. Устал…»
Руслану же не до него: хоть сам, заорав, челом загорелым грохнись о камень.
– Это кому тут не терпится сдохнуть? Рано еще! Поживи, погуляй. Цепь на ногах потаскай. Ишь, где укрылись. А я вас ищу… – Урузмаг – верхом на ограде, пьяный и злой. Развернул узелок: хлеб и мясо. – Снедайте, вы, перекатная голь.
Вцепились в еду. Карась:
– Свадьба, что ль?
– Нет. Поминки. По-нашему – хист. Пропал человек.
– Зарезали, что ль?
– Я о живом говорю, не о мертвых. Те в земле уж который год.
– Что-то я не пойму: кто пропал, почему?
– Нет большей обиды у нас, чем сказать: «Мертвых своих держишь впроголодь». Их надо кормить – то есть гостей звать к себе, печь хлеб, резать скот – чтоб всю общину насытить. И так – каждый год. Сородичей мертвых немало. Соседей живых – тех поболе. Не знаю, много ль едят покойные – живых лепешкой не ублажишь. С поминками медлишь – в общине проходу нет мол, вот негодяй! Шкуру сдерут. А кто послушен, того подстрекают на новые траты: он, мол, человек чести. Хороший человек. Я отчего в наймитах хожу, брожу с караванами? Нищий. Хозяйство – дном кверху. Дотла разорен поминками частыми…
Он с кряхтеньем улегся спиною на гребень ограды, руки за голову кинул – и будто хотел засвистеть, но тут же губу закусил, лишь замотал головой.
Руслан бросил кость, кою дотоле глодал; Карась, как слепой, хотевший в реке искупаться, С боязнью спустил ноги в зеленую жижу загона. И, как слепой, пустоту озирая, с испугом сказал:
– Живых… мертвые жрут?
Ветер на миг прорвал пелену испарений, незримых, но ощутимых и гнусных, по лицам хлестнул назидательно; ноздри сузились, свежесть ловя, раскрылись искательно, жадно… но тут ветер стих. Снова удушье. Однако в Русланову юную душу вселилось уже – пусть смутным намеком – ужасное, неискупимое: «Живые во имя мертвых гложут живых».
И опять, и опять, и опять – скорбный путь…
Пленные Роду молились, Хорсу, Семаргу. Кто умет хоть чуть волховать, обереги делал для других. Не железные, правда: где его взять, то железо, да и как с ним управиться без молотка, без клещей, без прочих орудий кузнечных? Из прутьев плели, Хитро вязали тряпье. Может, поможет…
Руслан шагал опустошенный.
– Знаешь, – сказал Карасю. – Похоже, все заодно: Теньгрей, готский Водень и Плешь.
– А… наши? – со злостью – Карась.
– Они? – У Руслана язык сразу усох. – Жутко мне, брате. Однако… чем они лучше? Недобрые. Страшные.
– Вроде чертей.
– Молчи, лиходей! Род – он покажет тебе…
– Роду я боле треб не кладу – и не буду.
– Дурень! Уймись. Испепелит…– Но прежнего страха в душе нет уже: только боль да печаль.
– О боге, я слышу, бедные чада, ведете речь? А ведомо ль вам, кто он есть?
Глянули: сбоку идет старик, босой, в ризе рваной. Тот самый, который вчера Руслану рубаху отдал свою. Он пристал к вшивой грязной толпе в аланском селе, где поминки справлялись, и сразу всех покорил, удивил – будто веревкой незримой скрутил и без боли их удавил. Тихий, немощный, добрый – а властью, похоже, немалой владел: аланы, булгары, хазары его стороной обходили. А встретясь нежданно лицом к лицу, смирели, просили благословить.
О пленных хлопочет. Стражу просит не бить утомленных, коль упадут. Воды принесет, освежит да подымет, поддержит в пути. Пользует раны мазью целебной, а души – словом приятным и ласковым. Суму на стоянке развяжет, хлеб вынет, разломит, раздаст, а сам ничего не ест. Чем жив человек?
С ним полегчало. Видать, пожалел он Русланову молодость: холодно ночью у гор – с плеч своих рубаху стащил, велел ее смерду тут же надеть.
По-славянски бает, как русич, и по-булгарски – как истый булгарин. И с готами тоже (Руслан услыхал краем уха) сердечно толкует на их языке. Носат. Сухой да седой. Лик – точно из воска отлит. Глаза же и брови – словно из сажи, смешанной с маслом.Блестят. И разум в глазах – сокровенный и жуткий…
– Вроде чертей, говоришь? Нет, чадо, не вроде: черти и есть. Бог – иной. Он единый. А те – поганые идолы.
– Ты, Отче, ромей, или кто?
– Пред богом моим «нет ни эллина, ни иудея, обрезания, необрезания, варвара, скифа, вольного или раба, но все и во всем – господь». Павел – Послание к колоссянам. Ибо, сказал он в письме к коринфянам, «все мы единым духом крестились в тело одно…»
Руслан удивился: еще не слыхал он о боге, для коего все – дети родные.
С усмешкой – Карась:
– Доселе мы зрили: у каждого рода – свой ненаглядный господь. И роду чужому он враг. Ну, а кто сей всесветный защитник?
– Знамя его – любовь и спасение.
– Имя?
– Христос,
– А! – Карась отвернулся, сердитый. – Ты тоже, похоже, из этих… ромейских святых. Видели в Тане такого. Жизнью земною не дорожит, небо ему подавай.
– Ты дорожишь?
– Ну, еще бы.
– Зачем?
– Как зачем? Ведь я человек…
– Человек? – Он живо метнул – в Руслана, не в Карася – взгляд ножевой: душу ему насквозь пропорол. – А много ли радости в жизни твоей, человек? – тихо, скорей для себя, чем для них, промолвил старик с пронзительно чистой и ясной печалью. Почудилось юному смерду: слабый, смертельно усталый, сердцем приник странный попутчик к его изнуренному сердцу.
– Жизнь земная? – Старик коснулся ладонью рогатки, плотно сидевшей на шее Руслана. – Не это ли знак ее, зримый и жесткий? Она есть юдоль скорби и слез.
Больше старик не отходил от этих двух русичей. На остановках коротких и в долгом пути он с жаром излагал свое вероучение.
Он говорил: нет на земле уголка, где б кровь не лилась. Распри, Война. Голод, болезни. Злоба и ложь. Попробуй доверить кому-нибудь тайну, жизнь или деньги. Опасно. Оступись, упади – никто руки не подаст, затопчут. Даже в единой семье – споры, раздоры: супруги друг другу – первые враги. Жестокость меж ними, непримиримость. А ведь, по сути их жизни совместной, быть не должно на земле двух людей ближе, роднее, вернее, чем муж и жена.
Повсюду – безумие, жадность, разврат. Ни жалости, ни снисхождения. Никто никому ничего не хочет простить. Если кто-то постучал в твою калитку, знай наперед, что он пришел с дурным известием. Попадешь в круг друзей – приветствия, добрые пожелания; уйдешь – насмешки, злословие. Благодарность? О ней забыли. Дети, окрепнув, уходят: прощайте, отец и мать, чтоб вам издохнуть, нам не до вас; или, оставшись, стараются их скорее сгубить. Люди осатанели. Каждый готов за десять монет соседа иль друга, не говоря о прохожем, зарезать. В гости кого позовешь: напьется, утробу насытит – и тебя же задушит, ограбит. В гости пойдешь – оберут, изобьют, выкинут ночью за дверь. Это все не к добру. Мухи беснуются, злее кусают – когда? Перед ненастьем. И люди шалеют перед великим несчастьем.
– Мир – хвор! Пусть же он рухнет скорее – вскинув посох, неистово крикнул старика внезапно прорвавшейся сквозь доброту и печаль жгучей ненавистью.
…Руслан на какое-то время оглох. Видит: качаясь и плача, в цепях, еле плетется обросших и тощих людей вереница за желтый увалка за увалом – черное небо в тучах осенних, на лицах – мертвенный отсвет вечных горных снегов, и ни звука вокруг. Ни звука! Будто само человечество вдруг онемело, оцепенело бредет за голый увал, в пустоту, где чернота, одна чернота, безнадежность. – Отчего же оно… худо так на земле? – хрипло крикнул Карась.
– За грех первородный несем наказание. – Что за грех первородный?
– От Адама и Евы, познавших друг друга наперекор соизволению божьему и положивших начало роду человеческому.
Далее он поведал: чем больше плодилось людей на земле, тем хуже они становились. Все помышления их обратились ко злу, всякая плоть извратила свой путь. Первый сын Евы, завистливый Каин, пахарь, убил Авеля, брата, пастыря овец, за то, что братнины подношения, мясо и тук, больше понравились богу. С тех пор и началось на земле истребление людей людьми.
Праведник Ной, упившись вином до положения риз, свалился в шатре; сын его Хам, узрев наготу отца, осмелился осмеять его перед братьями, за что и был проклят Ноем и сделан «рабом рабов» у братьев своих Иафета и Сима. С тех пор и завелось на свете рабство. Патриарх Авраам первым из людей совершил выгодную сделку; уступив за скот, мелкий и крупный, ослов, и рабов, и рабынь, и лошадей, и верблюдов жену свою, Сарру другому мужчине – фараону Авимелеху, выдав ее за родную сестру.
Мужчины Содома совокуплялись с мужчинами и чуть сделали насилие над ангелами господними, посланными узнать, что творится в этом беспутном городе; женщины развеселой Гоморры, вконец развратившись, ублаготворяли похоть, ложась с подругами и соседками.
Исав, сын Исаака, внук Авраама, за чечевичную похлебку продал свое первородство близнецу, брату своему Иакову, – из-за чего лишился отцовского наследства, поскольку перестал считаться старшим сыном, и впал через это в бедность. Лия, дочь Лавана, за несколько клубней мандрагоры купила у сестры своей Рахили, жены Иакова, дозволение переспать одну ночь с ее мужем. Рахиль, покидая с Иаковым отчее становище, украла у Лавана его домашних идолов, – чтоб присвоить их доброту, покровительство, милость. Иаков схватился ночью бороться с самим всевышним, чтоб вынудить у него благословение.
Онан, сын Иуды, внук Иакова, первым додумался до рукоблудия, – не хотелось ему отдавать свое семя Фамари, вдове покойного брата Ира, и он изливал семя на землю. Фамарь переоделась блудницей и ради козленка, которого ей посулил Иуда, легла спать со свекром.
– М-м… – промычал Карась. – Видать, только и было забот у первых людей, чтоб с кем-нибудь лечь. И бог за ними всеми следил?
…Люди делали себе кумиров – идолов каменных, медных, золотых, деревянных – и поклонялись им, забыв об истинном боге. И раскаялся бог, что создал человека, и воскорбел в сердце своем. Прогнал от себя буйного Каина, и поселился тот в земле Нод, вдалеке от райского сада Эдема. Всемирный потоп господь наслал на людей, голод, чуму и проказу. Пролил дождем на Содом и Гоморру серу, смолу и огонь, испепелил все живое: людей, и стада, и зелень. И умертвил он Онана, дабы впредь никто не изливал расточительно семя на землю.
– И поделом, – согласился Карась,– Ишь, наловчился, паскудник, баб обкрадывать. А как господь поступил с Оврамом, что женой своей торговал?
– С Авраамом? Господь устрашил вещим сном Авимелеха, царя египетского, – «знай, непременно умрешь», – и фараон вернул Аврааму жену, не тронув ее, и добавил в придачу еще скота, мелкого, крупного, и рабов, и рабынь, и тысячу сиклей серебра.
Карась:
– Чем же виноват Ове… этот самый… лемех, если Оврам, уступая Сарру, выдал ее за свою сестру? Оврам, вымогатель хитрый, облапошил Лемеха, но пострадал от бога не он, а Лемех, простодушный, доверчивый. Справедливо ли сие? И разве хорошо: Ной, не стесняясь детей, упился до срамоты, а Хам – отвечай?
– Так было угодно богу. Бог волен поступать, как хочет. На то он и есть господь. И пути Господни неисповедимы. Предмет христианского учения есть бог непостижимый, и многие части учения не могут быть объяты разумом. Не допытывайся тайн божественного величия, даже не желай о них узнать, иначе будешь уничтожен блеском славы его.
– Мудрено, – вздохнул Карась.
Старик:
– Избегай дерзостных вопросов и – веруй.
– А что это – вера? – робко спросил Руслан.
– Вера – уверенность в невидимом как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом – как бы в настоящем. Веруй! В светлом господнем чертоге нет места для слов «зачем» и «почему».
– А без «почему» нет человека, – хмуро сказал Карась. – Дитя с каких слов свою жизнь начинает? Чуть подрастет, пробудится в нем соображение, – самое первое слово у него на устах – «почему». Почему да почему. – Не будешь ему отвечать, глядишь – вырос дурень. Ему надобно знать, почему.
– Знание противно вере. Мысль – бесстыдная, быстропарящая птица. Знание принадлежит уму, а вера – сердцу. Оставь сомнения и верь божьему слову, оно непререкаемо.
– На что мне тогда глаза и уши, и разум, и прочее? – уныло вздохнул Карась. – Мы, чай, не бараны.
– Мы суть словесное стадо Христово, он – пастырь наш. Куда поведет, туда и следуй.
– Хм. – Карась окинул усталым взором толпу безмолвных пленных. – Стадо и есть: «скот мелкий и крупный». Дале, старик, повествуй. Господь, говоришь, и так, и этак людей изводил, а они, дурные, не унимались?
В предгорных степях, закручиваясь мглистыми вихрями, пленных настигли первые удары здешней зимы.
Жутко подступать к шумным речушкам с заиндевелыми кустами на плоских берегах, с туманом, повисшим над перекатами клочьями нищенского отрепья. Чтоб дойти до прозрачной черно-зеленой поды, усеянной пузырьками, исходящей паром, точно в котле, надо минуть ледяной припай у берега. Ступаешь по льду, тускло-голубому, мокрому от брызг, или белому, присыпанному изморозью,– босые подошвы крепко прилипают, не сразу отдерешь.
Речки тут разливаются по широкому галечному ложу многими бурными рукавами: перейдешь по мелководью один – впереди их еще три-четыре. Не так трудно шагать по холодной воде (на дне песчаные наносы, на них, мягких, нога отдыхает), как по кочкам и гальке меж рукавами. Оцарапанные, сбитые ноги кровоточат, становятся пестрыми, неуклюжими, тяжелыми от примерзших к ним на воздухе острых мелких камешков.
Поток – проворный. Сорвешься с переката в яму, десятью собаками вцепится жгуче-студеная вода. Вылез из речки – скорей оттирай онемелые ступни тряпьем, жесткой, сухой, седой от мороза травой. После того не идешь, а топаешь, окоченело стуча по твердой стылой земле, версту или две, пока кровь по жилам не разгонишь. А кровь разгонишь – загорается в ступнях боль нестерпимая, гнутся колени – сейчас упадешь.








