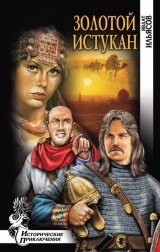
Текст книги "Золотой истукан"
Автор книги: Явдат Ильясов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Где научился?
– В Тавриде.
– От пленных?
– От вольных. Руссов много в Тавриде. С готами смежно живут в поселениях. Давно, до хуннов, с Днепра перебрались.
– А вас откуда занесло?
– И впрямь – занесло. Издалека. От северных морей. И не туда, куда надо.
… Когда не было неба, земли, морского песку, холодной волны и всюду зияла бездна, под вечным ясенем, осеняющим вселенную, жили йотуны – древние исполины.
Сотворение мира ознаменовалось убийством. Боги асы рассекли на части йотуна Гимира, из кусков его тела слепили небесную твердь, сушу, солнце с месяцем, звезды, еще не знавшие, где их путь. Асы сошлись на совет, нарекли имена полнолунию, ночи, утру, полудню и вечеру.
Солнце согрело соленые камни, они покрылись зеленой травой. Поселились асы в небесных полях, пили, ели в светлых чертогах. Веселились. Играли в тавлеи.
Ради Гульвейг, сверкающей золотом, дивно красивой, но злой, случилась в мире первая война. Колдунью сожгли в жилище у Гара. «Три раза сожгли ее, трижды рожденную. Часто жгут ее вновь, но не гибнет она». До сих пор, таясь от мужчин, входит ведьма в дома, варит пакостное золотое зелье – извечную усладу нечестивых жен.
Бог Тор, громовик, покровитель клятв и договоров, первым на земле нарушил клятву, сокрушив одного из йотунов – строителей, которым асы обещали мир и дружбу, а завистливый Лодур, бог пламени, стрелой из омелы, чужими руками, насмерть сразил чистого Бальдра, бога растений.
Однажды три аса, благих и могучих, шествуя берегом моря, наткнулись на два холодных бревна – ясень, ольху.
Генер, бог влаги, вложил в них душу.
Оден, бог бури, дал им дыхание,
Лодур, огненный бог, наделил их теплом.
Три вещие сестры: Урдр – Прошлое, Верданди – Настоящее и Будущее – Скульд наложили на первых людей, Аскра и Эмблу, печать судьбы.
Так, под знаком убийства, коварства и вероломства, хмельного веселья, войны ради золота, появилось племя высоких и крепких, как дерево, буйных, горячих, огненно-рыжих людей – пастухов, зверобоев, бродячих воителей.
Их жизнь протекала в пирах и неистовых распрях. Они презирали опасность. Но поскольку душу им дал бог воды, их синие очи время от времени делалась мокрыми. Быстрые, смелые, легкие на подъем, они, однако, часто хворали, с трудом переносили стужу, зной и ливень, тяготы долгих походов. Нехватка еды, особенно вина, грозила им скорой погибелью.
Упрямство, крутая решительность не сочетались в них с долготерпением, а расторопность, хитрость и храбрость – с благоразумием и осторожностью. Зато неисчерпаемой была их дерзость. Под водительством отчаянных, столь же заносчивых, грубых, мало любознательных вождей – конунгов, которым, кстати, неохотно подчинялись, они кидались в бой напропалую, казалось, вовсе не заботясь о последствиях.
Тесно, шумно на островах, песчаных побережьях. Племя за племенем бойко снимались с мест своих старых, постылых, спускались на юг, где в лесах и болотах, заросших ольхой, осокорем, встречались и бились с племенами, что шли с именами иных богов на устах. Всколыхнулись народы сопредельных стран, началось их великое переселение.
Оставив поморье и междуречья блеклых равнин, неудержимо хлынули германцы за Дунай и Рейн, к стенам белых римских городов, и на восток, к далекому Днепру. С бурей и вихрем над ними летел грозный Оден, ветер свистал в крыльях валькирий, небесных воинственных дев.
Однако: то ли не теми, кому бы надо; то ли – теми, да не из тех деревьев; то ли – из тех, но под очень неудачным знаком был создан этот неугомонный народ; то ли каверзные девы-вещуньи Урдр, Верданди и Скульд зло подшутили над ним, определив нелегкую судьбу; то ли людей иных племен их боги сотворили из дерева покрепче – скажем, дуба, или даже из меди, гранита, железа, но участь свирепых воителей оказалась плачевной.
Повезло лишь осмотрительным, спокойным, что отшатнулись от Одена к ясному Фрейру, весеннему Бальдру, Тору-кузнецу, светлым богам труда и плодородия. Что старались держаться исконных земель, предпочитая ячменное желтое поле багровым полям кровопролитных сражений. Они избежали смерти, распыления, сохранили в целости свой древний корень.
Зато, странное дело, самые упорные, неукротимые, которых увлек исступленно ревущий Оден, потерялись в незнакомых странах, перестали существовать. И хуже всех пришлось непоседам, что ушли дальше других, соприкоснулись с Востоком,
Готам, оседлавшим Черноморье, выпал от хуннов столь мощный удар, что их днепровская, остроготская, ветвь с громом катилась до римских дымных холмов, где и распалась, а придунайские, то есть вестготы, не могли остановиться до тех пор, пока не уткнулись в Геркулесовы столпы.
Хунны проворно настигли на Рейне бургундов – и бургунды очнулись лишь где-то на Роне.
Грозных вандалов, подхваченных черным потоком всеобщего жуткого бегства, отбросило с частью алан, сдружившихся с ними, в Африку жаркую. Тут их сокрушили византийцы. Иных истребили, иных продали и рабство. Остатки смешались с берберами, с маврами, которых гордые поклонники железных северных богов не считали прежде людьми.
С начала великого переселения прошло уже пять веков. Лишь кое-где в теплых краях, некогда захваченных их предками, в море давних жителей этих земель, сбереглись островки желтоволосых людей, еще не забывших богов своих древних, старые песни, старую речь…
– Не туда занесло, говоришь?
– Чужая страна. И мы в ней – чужие.
– Хунны после явились, но вольно живут.
– Где степь, там хунны у себя. Восток. Здесь к месту руссы, булгары, аланы, иные народы, чей дух прикипел к этой твердой земле. А мы что такое? Сорная трава. Одни обратились в ромейскую глупую веру, весь день бормочут молитвы. Другие…
Из протока справа наперерез тихо выплыл узконосый челн.
– Гейзерих?
Уже светало.
Кто бы подумал, что в камышах, за сетью зеленых протоков, на островке, где уютно пахнет мятой и солью, где хорошо бы лежать в траве под ивами, слушать сквозь сон простую, без слов, песню рыжей рыбачки, укрылось столько людей.
Рыбаки? Как будто. Сеть сохнет на берегу. Но к чему на поляне куча щитов и секир? И струг, уткнувшийся в кусты, мало похож на рыбачью убогую лодку.
Одеты знакомо: в рубахи льняные, грубые штаны. Ноги до колен оплетены ремнями кожаных лаптей. Свои? Так сходны – сердце зашлось. Лишь вблизи разглядел: губы, носы по-иному очерчены – суше и резче, что ли. И речь, когда заговорили, дико врезалась в слух, рвуще-картавая, крепкая. Рыкают – «верь», то ли «зверь», не поймешь.
– Русс, – отвечал Гейзерих.
– А! Русс? Гут, хорошо.
Расступились. Руслан увидел женщину.
Ну, слава богу. А то уже не по себе от вроде и не злых, но чем-то пугающих взглядов. Слишком цепких, что ли. Острых. Притязательных. Раз уж в толпе этих чужих, и по всему – опасных, людей есть женщина, и ее так чтут (сразу стихли), – не могут они оказаться вовсе бездушными, нечеловечески жестокими. Найдется средь них свой Кубрат.
Он берег в себе чистоту Баян-Слу, нежность, радость, ясную печаль, что испытал, любуясь каменной богиней в Тане, – и перенес простодушно спасибо за них на эту другую, новую женщину, уже которую на его пути.
Но она и впрямь была другой. Совсем другой. Рослой, как мужчина, по-воински прямой и статной. Белые, пышно распущенные волосы, повязанные на низком лбу желтой лентой, ложились вольно на крутую грудь. Сквозь пушистую седую прядь, как солнце сквозь туман, виднелась на левом плече круглая медная застежка – под нею сходились углы белого простого одеяния, охваченного выше узких бедер медным поясом с коротким мечом.
Медными казались в густом загаре голые руки. Босые ступни. Худое лицо в легких морщинах, с узким, горбатым, как у сокола, носом, далеко нависшим над злобно тонкими губами. С глазами, наполовину спрятанными под золотистыми мохнатыми бровями, меж длинных, светлых, как у свиньи, ресниц, – синими, влажными, точно камни, только что вынутые из воды.
Женщина будто ударила ими по Руслановым робким глазам. В них чудилось что-то от грубости каменной бабы, взиравшей с вершины холма у Днепра на погребальный костер, Вспомнил Руслан и вторую – ту, разбитую в Тане: в мраморных ее глазах виднелось больше теплоты и света, чем в живых, но словно обледенелых очах угрюмой готской старухи. Попробуй узнать, чего она хочет. О чем думает вот сейчас. Зачем глядит.
Жутко. Собаку – и ту поймешь, посмотрев ей в глаза. И, пожалуй, всякую тварь. Наверно, лишь очи змеи ничего не способны сказать человеку.
Повернувшись к бледному Кубрату, готка чуточку оттаяла. То есть губы разлепила, сделала к нему короткий шаг. И – удалилась, упруго и гордо ступая, к ивам, нависшим над поляной с оружием. Руслан пристал к старику: что за баба, зачем она тут. Кто эти люди. Но безмолвен Кубрат.
Молчит и Гейзерих. Он насторожен. Тщится казаться спокойным, даже веселым, но – чует Руслан – он не свой средь своих, хочет приладиться к ним – и не может: изнутри проступает недоброе, тайное. – Куда попали?
Рыбак – ни слова. С ума сойдешь. Тут еще камыши зашумели. Чуждо. Скучно. Как-то не по-нашему. Десять, тридцать, сто верст везде одинаковых, ровных, густых и пустых камышей. И вся их толща, причитающе шурша, медленно склонится прямо к тебе – и, покачавшись горестно над мертвыми протоками, с тягучим вздохом отхлынет назад. Постоят немного, будто совещаясь, камыши – и сообща повалятся а другую сторону. Точно ищут чего-то, уныло шепчась, камыши.
Лес по-иному шумит. В осенней роще тоскуешь, но помнишь и ждешь. А тут – все забыто и нечего больше ждать. Безнадежность.
Эх, уж лучше б рвануло их ветром ревущим, да посильнее, чтоб треск пошел окрест! Душу изводит тихий бесконечный плач…
Под ивами совещались Что-то крикнули Гейзериху,
– Идем, – кивнул рыбак Руслану. – Ты, Кубрат, оставайся на месте.
Ну, началось.
…Хотел сказать Руслан – помилуй, мол, и сохрани… да не нашел, кому сказать: не миловал а не хранил его доселе никакой господь. Ладно. Будь что будет. Под ивами – медный котел пустой, над ним старуха, в руках ее – огромный рог с вином. Ко рту поднесла, произнесла заклинание, отхлебнула глоток. Протянула рог Руслану.
– Бери, – шепнул Гейзерих. – Пей скорей.
Нет. Страшен этот рог Руслану, будто он – единорогов и не вино в нем, а кровь.
– Пей, дурень, – сказал Гейзерих. – Голову спасешь.
Ну? Не слыхал, чтоб питьем спасали голову. Губили – часто слыхал. Но, видно, всякое бывает. Что ж. Пить так пить. Хоть раз испытать, каково оно на вкус, вино заморское. Брагу приходилось пробовать, вина не подносили.
…Эх, камыш! Зачем шумишь?
Прямо в голове грохочешь.
А ты, душа, к чему горишь, горюешь?
А ты, старуха, о чем кричишь?
Чего ты, треклятая, хочешь?
А! Знаю тебя. Видал я у нас бесноватых старух. Вдруг принимаются волосы рвать, пальцы грызть, голосить. Ведьмы. Кликуши. Однако на Руси, уж если больно разойдутся, кнутом их стегают, чтоб выгнать блажь, утихомирить.
А у вас…
Острый, словно скребущий железом по камню, сухой, бездушный вопль вещуньи, казалось, срезал ветви трепещущих ив, и от него шарахалась в страхе стена камышей.
Гейзерих бесстрастно толмачил:
– Слушай, русс! И знай: от того, что ответишь – быть тебе живому, или умереть.
…Удачен булгарский набег.
…Мы давно их ждем в камышах.
…Хотим на Тану напасть, добычу отбить.
…Помоги. Наши деды вместе громили ромеев. Булгары – тебе враги, как и нам, народу гутанс. То есть готам.
Сейчас Гейзерих двинется в Тану.
Свежей рыбы ему дадут. Булгары увидят, решат: гот сам наловил. И не станут его допекать – где слонялся всю ночь, Удастся – он руссам закинет словечко. Пусть будут готовы готов поддержать. Но вот незадача; для них он чужой. А вдруг, мол, подвох. И потом – кто допустит, после событий вчерашних, Гейзериха к пленным? Он у булгар на примете…
А руссов надо непременно на нашу сторону склонить. Много булгар, трудно сломить. Изнутри бы их разломить. Верно, да? Поэтому, когда наш струг подступит ночью к Тане и отряд, разделившись, подкрадется к городку, клич ты бросишь своим прекрасным русым руссам, ладно? Ты показал себя в минувшей стычке смелым человеком. Тебя – услышат. Поймут. За тобою – пойдут.
Захватим Тану – разделим добычу.
Руссы – о, эти руссы! – вернутся домой. Подумай, разве не удаль, не честь: где-то пропасть, попасть в полон – и вдруг самому явиться к родичам с полоном, с женами узкоглазыми. Вас «бояны» всю жизнь будут славить, петь о вас на пирах. А захотите, останетесь с нами. Ну, там поглядим. Главное – Тану взять. Пойдешь?
– А Кубрат?
– Его судьба в деснице божьей,
– Я – пойду. Пойду! – Как звали жену Кубрата? Смуглая Удаль. Вот она, Удаль Смуглая. Ах ты, старуха! Бедовая… – Как они нас тащили. Секли… Я – пойду. Хоть сейчас. За всех, За Идара. За Баян-Слу…
– Хорошо. Но сперва – испытание. Ты перейдешь в нашу веру. В нашу старую готскую веру.
– Зачем?
– Чтобы мы знали: не подведешь.
– А Кубрат?
– Забудь о нем. Ты думай о себе. Я, мудрая провидица Туснэльда, вижу: юный русс устал терпеть. Он хочет мстить. Он хочет убивать. Или не так?
– Так.
– Поклонись же готскому грозному богу! Что дал тебе твой деревянный бог? Русь – рядом, а ты в цепях. Где он, хваленый Перун? Где Род?…
… А мы – повсюду на воле. Свирепый Оден, повелитель бурь и битв, – везде, где дико воет ветер, грохочет гром, звенят клинки. Где буйствует сердце молодецкое. Он покровитель лихих, неприкаянных, хмурых.
Таких, как мы.
Таких, как ты.
Жизнь – война. Смерть – награда за добрый воинский труд. Тех, кто крепко бился с врагами и весело пал от копья и меча, стрелы и секиры, Оден возносит в светлый чертог – Валгаллу, где храбрецы проводят день-деньской в пирах и редкостных забавах.
А предателей, трусов скверные реки, полные льдин и острых мечей, влекут в черную пропасть, к Настранду,– берегу мертвых, и Нидгогер, дракон подземных полей, с урчанием гложет тела охладелые. Фенрир, волк исполинский, что сидит на цепи в бездонных пещерах, чавкая, рвет на куски трупы бесславно погибших…
Знай – предстоит гибель богов и людей.
Фенрир, путы сорвав, ринется кверху из жутких огненных недр. И встанут за ним несметные рати гнусных чудовищ.
И в море сверкнет чешуей зловонный Змей мировой, Фенриров брат, и смерть Гэль, их сестра, стуча клыками, начнет поедать все живое.
Рухнут горы. Море закипит. И по горячим волнам, зловеще качаясь, двинется с дальнего севера мрачный корабль Нагльфар, что будет сделай из ногтей покойников. И заклекочет в тучах гнусаво Серый Орел, трупов пожиратель. Солнце станет черным, как уголь. Его догонит, проглотит скорый Сколль, мерзкий волк, а гадкий волк Гати разорвет луну.
…Руслан, уже не пьяный, а безумный, взглянул на солнце. Черное пятно. И струг – сшит весь из желтых ногтей, и вокруг, костями гремя, столпились скелеты. А сам он вовсе не Руслан – Идар, и ему нестерпимо хочется в огонь. В огонь. Скорей в огонь…
Он заскрежетал зубами, протянул ладони к яркому костру, пылавшему пред ним, ослепшим, в образе блестящей золотой старухи.
И в ладони его лег большой топор.
Он увидел Кубрата. Оголен до чресел, руки – в путах, за спиной. Два гота подвели булгарина к пустому медному котлу.
«А ладно сбит старик,– подумал весело Руслан. – В одежде нелепой не видно было, как статен, хорош. Ишь, крепыш».
И вдруг до него смутно дошло, сквозь угар: старик-то скроен ладно, это так, а вот делают с ним, да и с Русланом, что-то неладное.
– Эй! Оставьте. Зачем связали?…
– Так надо. Молчи.
– К чему он тебе? Не жалей.
– Ты белый, он желтый.
– Старый дикарь. Животное степное.
Неужто будут варить? Но ведь котел не подвешен. И огня нету под ним…
Кубрат на коленях. Он обратил к Руслану тихое лицо. И узнал юный смерд в строгих глазах пастуха чей-то еще, страшно знакомый, до боли, до крика знакомый, – а чей – он забыл, успел позабыть в суматохе) – долгий взыскательный взгляд. Он запечатал рот ладонью. Ничего. Так надо. Так надо.
Туснэльда вынула меч, пригнула к котлу пастухову чубатую голову. Ну и что? Пускай. Кем-то больше, кем-то меньше. Чего тут старика какого-то жалеть, если даже богам суждено околеть. Жалел он иных. А где они? Не стоит шуметь. Хватай, что можешь, пока живешь. Ешь, пей – и бей. Надоело трястись над кусками: И всех бояться. Всякий пес паршивый верх над тобой хочет взять. Вечно – угрозы. Довольно! Не все кому-то нас обижать. Чем мы хуже? Тоже можем обидеть. Пусть теперь полезут к нему…
Он отыскал свой путь.
Место его – среди этих лихих, сильный людей. Как их бога зовут? Водень? Да. Вот – истинный бог.
…Кровь хлестала в котел, готка водила пальцем по алым узорам и ворковала, как горлица: «Гут, гут». Затем оттащила труп от котла, положила на спину, вспорола живот, сунула руки внутрь. Вскочила. Вскинула руки, до локтей измазанные кровью. Закричала. И все закричали. Даже Руслан. Хоть и не знал, зачем кричит. Значит, так надо. Вещунья с льдистой улыбкой кивнула Руслану, сказала что-то Гейзериху.
– Ты нам счастье принес, – изрек Гейзерих. – Гадание сулит большой успех.
Гейзерих слез в челн.
Руслан подхватился, кинулся к нему, Уедет – с кем говорить? Больно остаться немым. Этим что – тукают «гут» да «гутайс». Черт их разберет.
В хмельной голове чуть забрезжила ясность.
– Неймется,– прошептал рыбак, берясь за шест.
– Кому это – мне?
– Тебе? Ты помалкивай…
Ночь. Плывут, держась поближе к черным камышам. От холода Руслан трезвел, но только начинал озираться, стараясь понять: зачем он здесь, на готском струге, куда плывет, и что впереди., и хорошо ли то, что затеяно, как рослый сосед пихал ему под нос большую флягу, к которой и сам частенько припадал, и смерд опять косел, до пят проникаясь удалью новых друзей.
Славно плыть наугад сквозь разбойную ночь! Вот она, воля. Веселая злость. Бесшабашность. Ну-ка, посмейте затронуть. Сам себе – господарь, князь именитый. Все дозволено. Режь. Сокрушай. Погодите, собачьи дети. У меня – топор. И я вам покажу.
Но когда судно пристало у Таны к высокому берегу и половина грабителей вместе с Русланом (Туснэльда осталась на струге) звериной украдкой сошла на мглистую сушу, юноше стало не то, чтобы стыдно, а тошно.
Куда я иду?
И с кем?
И зачем?
«Я иду на стенных сволочей ради своих русичей», – утешал он себя, но в отговорке этой чуял сам какую-то отвратную ущербность.
Готы вновь совещались.
Слышит Руслан:
– Гейзерих, Гейзерих.
Нет Гейзериха. Видно, должен был встретить, но опоздал, нерасторопный. Спит, дурень? Тот гот, что угощал Руслана вином, с пьяным небрежением махнул рукой. Мол, ничего! Нечего ждать. С нами – господь.
Скорей бы кончалась, что ли, канитель…
Она кончилась скоро.
Только Руслан подполз к стене, его хватили по темени – так, что память сразу улетучилась.
Очнулся в оковах, Гейзерих, тоже в цепях, рядом сидит. Лохматый. Побитый. Готы, все в путах, кучей поодаль, Буйное застолье – унылое похмелье.
Дряхлый булгарин – хромой и нелепый, желтый, костлявый как вурдалак, Туенэльду с жутким смехом гладит по бедру.
– Это – баба! Женой будешь, ладно? А то старуху нашу Хан-Тэнгре унес…
«Нашел утеху,– скривился Руслан. Думалось трудно, ошметками мыслей кривых. В башку словно клин вколотили, больно мигнуть. – Погоди, она взрежет тебе тощее брюхо».
Гейзерих, с горьким злорадством:
– Возмездие! Предки Тану разнесли, потомки сидят на руинах в оковах…
– Умник! Смеешься? Как это вышло?
– Следили.
– А может, кто выдал?
– Тише, родной.
– Не ты ли? Уж больно доволен.
– Тебе-то зачем это знать?
– Мои русичи…
– Глупый! Молчи. Твоих русичей тотчас отвезли 6 на ромейский торг.
– А посулы?!
– Верь им.
– Обман?…
– Если и выдал кого Гейзерих, значит, так надо было. – Гот сунул пальцы в кудлатые волосы, сник. Совсем как Добрита, вспомнил Руслан. Тогда, в землянке. Или – в лодке…
– Там, в Тавриде, – жестко сказал Гейзерих, вскинув белую голову, – не только пираты живут. Есть и люди. Много людей. Добрых людей. Кому б ни молились по воле судьбы – Одену, Тору, Христу, потреба у всех одинакова: жить в тишине. Землю пахать. Рыбу ловить. Растить плоды в садах. Растить детей.
…Что предки? Потомки за них не ответчики. Занесло сюда дедов – не ворошить же в могилах ветхие кости, жечь их, топтать. Их надобно чтить. Но и не следовать заветам древних без разбору. Их время и нравы – одно, наши – другое.
Раз уж осели в чужих краях, будьте людьми средь людей. Жизнь – война, говорите? Э, уж когда б человеки дотла истребились. Никого на земле. Всюду – кости. Лишь кости. Поля белых костей. Однако людей – вон их сколько. Смеются. Хлопочут. Значит, живы чем-то иным?…
Он глядит уже не на Руслана – на готов своих, будто к ним, бледный и злой, держит речь.
– Но эти стервецы… провидицы, жрецы… не дают человеку спокойно работать! «Война… Войну. На войну». Нет проходу от них, ошалелых. Под окнами бродят ночами. Торчат на дорогах. Женщин сбивают с пути, мужчин принуждают нивы бросать, где-то гибнуть за деньги в наемных войсках. Или – грабить в горах. На море разбойничать… Зуд кровавый! Гниль. Проказа
А отвечать кому? Разорили б нынче булгар… завтра булгары, хазары – готов под корень всех подсекли. Изрубили в отместку баб, ребятишек. Среди тех ребятишек есть и мои. Я от бешеных псов в Тану сбежал, чтоб жить не мешали. Нет, негодяи, и здесь нашли. Таскают. Стращают. Семью, мол, изведем, – она у них в руках, в Тавриде. Не булгарин вчера жилье обшарил, когда вы в яме сидели. Один из этих. Невмоготу.
Гейзерих отвернулся от хмурых сородичей, подтянул, гремя цепями, ноги. Испугался, что ли: достанут.
– Думаешь, – слезно вздохнул Гейзерих,– легко мне было их выдать? Тот, угрюмый и длинный,– кивнул он на гота, с чьей флягой не раз встречался ночью юный смерд, – брат мой родной. Я долго молчал. Видишь, пытали булгары. Молчал. Хоть на куски изрежьте. Но, раскинув мозгами, решил: выпал случай – не упущу. За всех отплачу. Своим? А Кубрат… он тоже был не чужой. Рыбу вместе ловили. Уху из одного котла хлебали…
Кубрат? А! Жил на земле такой человек. Недавно. Рядом ходил. И – нету его. Почему бедный старик ничего не сказал перед смертью? Мол, помоги. Или – прощай. Нет. Ничего. Умер без слов.
То есть как не сказал? Сказал глазами.
И вспомнил Руслан, чьими глазами пастух глядел на него перед смертью. Глазами Калгаста. Извет! Это слово дурное, зловеще дремавшее где-то внутри, проснулось, блеснуло, как лезвие. Донос. Клевета. Он предал Калгаста. Теперь – Кубрата, пусть косвенно, предал Руслан.
Жизнь! Треклятая жизнь. Я негодяй, это верно. Чьими, однако, глазами смотрел на меня перед казнью Калгаста волхв Доброжир? Не твоими ли, темными, хитрыми, чертова жизнь? Я – негодяй? Я ко всем… ко всему – с чистым сердцем… А мне – лгут и лгут. Меня самого предают на каждом шагу. Что я могу? Всюду сволочи. Все – негодяи.
Стой. Все ли? А Калгаст, Идар, Кубрат? И Гейзерих? Если б не гот Гейзерих, куда забрел и кем бы стал Руслан, плетясь за Туснэльдой безумной. Спасибо, друже. Уберег.
«Но от чего уберег? – взметнулось в душе. – И для чего? От вольной, пусть и нечестной, зато развеселой и сытой жизни для этих цепей?» Уж лучше – Туснэльда. Туснэльда? Нет. Ни за что. Не по нутру ее путь. Он выстлан костями.
«…Но и холопом не буду, – хмуро сказал он себе. – Никогда не буду холопом. Пусть в оковах. Сейчас – все равно их сниму. Она – поможет». Руслан ощупал на груди сверток с днепровской землей. Она не даст пропасть. И нестерпимо, хоть головой о камни бейся, его потянуло домой. В свою землянку. К пустому кувшину. Но домой путь отрезан. А попал бы туда, не смог уже жить, как прежде, тихо сидеть в землянке. И пробавляться кувшином пустым. Прошлое прошло. Не вернуть. А впереди? Несет его бешеной жизнью, как молодого лося – половодьем, кидая, точно от острова к острову, где злобно рычат то волк, то медведь, от идола к идолу, от одной ощеренной пасти к другой. И тех же Калгаста, Идара с Кубратом, и Гейзериха – совестливых, бедных чудаков, лучших из всех, с кем столкнулся Руслан средь грязных волн – мечет красный поток, топит, разбив об углы алтарей. Муть и смерть,
Неужто нету нигде за синей, глухой и холодной, как очи грозной Туснэльды, сумрачной далью ясного лика, теплых приветливых рук – рук, не запачканных кровью?
…Если б не Руслан, никто наутро не узнал, кто это сделал. На него самого могли бы свалить. Так тихо (в цепях!) подполз лиходей, сумев не встревожить ни караульных, ни пленных.
– Тебя-то зачем заковали? – сказал Гейзериху вечером хворый Руслан, улегшись в пыльный бурьян во рву. – Ты их спас. Должны отпустить.
– Жди от них. И разве я… ради беков булгарских старался? Чтоб милость от них заслужить? Ну их к бесу. Отделили меня от сородичей милых – и ладно.
– Боишься?
– Помнил, на что иду. А все-таки хочется жить,
– Откуда им знать?…
– Не обманешь…
Руслан услыхал – сквозь сон беспокойный – возле себя худую возню, удар и хруст, подавленный вздох – и, догадавшись, вскочил, закричал, поймал в темноте чью-то крепкую руку. Факелы. Стража. Немой Гейзерих, сотрясая оковы, бил ногами твердую землю. И мучительно острым, отрывистым, резким и кратким звоном цепей будто молил: «Стой! Перестань, отпусти».
Голова – черный ком в черной луже. И над нею, с камнем в застывшей руке, белый гот очумелый. Браг Гейзерихов…
Ветер. Северный ветер. И солнце.
Изменчива матерь-земля. Не увидишь сам – не поверишь, что может она быть этакой гладкой, просторной. И голой, чистой насквозь и пустой. На двадцать верст все открыто глазу окрест – хоть бы веха где показалась,
Наткнешься на боярышник колючий, и тот – гнется у ног приземистым кустиком, чахлый, кривой.
Лишь у речек редких уныло качались то ясень, то клен, дуб или тополь. Местами деревья смыкались в скудные рощи; Руслану мерещилось – не Баян-Слу ли там шепчет зовуще, таясь в своем платье лесном за стволами шершавыми…
Готы, которых вели позади, обособленно от русичей, дурея от шума осенней листвы, принимались тягуче горланить. Похоже, Одену, забывшему про них, на долю скверную плакались.
…А ковылей – ими всю степь обмело, словно хвостами белых, буланых, чалых коней; самих-то коней не видать – будто плотно сошлись и ровно, огромным немым табуном, бегут – не бегут, а плывут навстречу тебе, а гривы, хвосты, на ветру трепеща, извиваясь, стелятся поверху. Вся степь струится, рвется из-под ног волнистой сизой пеленой, течет в неясную полуденную даль. И все живое скачет и ползет, спешит туда, на юг. Стрепеты. Дрофы и зайцы. И зайцем прыгающее перекати-поле.
Караван, и сам не скорый, настигал стада медлительных овец, верблюдов, кочевые повозки булгар, – правда, они попадались реже, чем даже деревья. И так – от Дона, что там от Дона – от дальних порогов днепровских: идешь, идешь день за днем… и за чудо сочтешь, если встретишь сотню-другую безмолвных, печальных людей.
Неужто горе – пастухи и есть те воины лихие, что способны на быстрых конях, не мигнув, сто и триста верст одолеть? Скучные, тихие. Если – они, то, может, не в крови у них свирепость: что-то иное их понуждает грабить и жечь?
Мало народу в степи.
Меньше, чем птиц и зверей. Караван, в свой черед, обгоняли: в вышине – косяки журавлей, сбоку, держась в стороне,– табуны лошадей, диких, степных, стада горбоносых сайгаков. Но всех опережал синий ветер, еще не студеный, солнцем нагретый, но уже по-осеннему свежий и крепкий…
– Эй. – Руслана схватил грозно-сдержанный взгляд желтых глаз. Конник. Откуда такой? В Тане охрана частью сменилась: многих булгар, что вели русичей от Днепра, не видать,– наверно, и этот из новых. Лицо – точно камень точеный; рус, крутонос и на редкость пригож: сокол степной, да и только, В шапке лохматой, и свита не по-нашему сшита, а что-то близкое в нем, но забытое.-Там, позади, один человек… о тебе вспоминает.
– Кто? – Чует Руслан: готы тревожат. Вернее, один из них. Он, проклятый. Тот самый. Убил человека – простили, для острастки при всех отхлестав. Что проку в убитом, хазарам нужен живой.
– Говорит, брат Гейзерихов. Поклон велел передать. Ты что – готской веры?
– Русич.
– Имя?
– Руслан.
– Ну? – радость в желтых глазах. – Аланское, наше.
Руслан удивлен: – Это как же?
– Рус-Аланы. Урусы. Предки так назывались. Правда, ромеи переиначили их в «роксолан» да «аорсов», но такой уж певуче-трескучий язык у ромеев. Всякое слово, попав к ним в уста, обрастает углами.
– Слыхал я от старших, – устало сказал юный смерд, – будто русь это скуфь.
– То есть, скута – стрелки. Мы тоже их ветвь.
– Да? И боги у нас – этаких нету у прочих славян: Хорс да Семарг. К примеру, Карась, с кем вместе иду, – из Хорсовой веси, я – из Семарговой.
– Ну? Наши боги! Старые боги. Теперь – Христос, Уацилла, Из древних – Фальвар, Тутыр и Авсати. Хорс – он хороший и солнечный. Верно? Может, от Хорса ваше название, а? Хорс, аорсы – и Русь. Ну, а Семарг… идол такой. Три птицы в нем.
– И у нас он крылат.
– Выходит, урусы – аланских кровей.
Рассмеялись.
– Ты откуда? – спросил довольный Руслан. Бог с ними, с богами – человек попался хороший.– Как зовут?
– Урузмаг. Я в Тане пристал, хазарам служу. Не служил бы – старый Сароз, горемыка, мир его праху, – был у нас царь такой… назад лет сто пятьдесят – ха-ха! – помог, неразумный, аварам (по-вашему – обры ) против хуннских последышей. Авары дальше ушли – и пропали, а булгары, хазары остались – и за алан, бедных, взялись.
– От Роси иду – слышу славянскую речь. А самих-то славян не видать. Кроме нас, неудачных.
– Погоди. Еще встретишь.
Сунул руку в суму переметную, грозный взор – на булгар; дернув щекой, подмигнул русичам – не убьют, обойдется, склонился и быстро вложил Руслану в ладонь белый дырчатый сыр.
– Хлеба нету. Готу тому что сказать?
– Пусть боле не лезет с поклонами.
– Ладно. – Отъехал.
…Сдружились, которые раньше, на родине, вовсе не знались или еле здоровались, даже насмерть враждовали. Чем шире растекался мир, куда их кинула судьба, тем теснее смыкались они – как пальцы сжимались в кулак.
Хлестнет кого буйный страж – звереют, зубами скрежещут. Прут плотной стеной на тугой, по-степному злобно свистящий ременный прут,– и страж, испуганно бранясь, спешит свернуть свою плеть. Осмелели пленные после Таны.
Чем дальше уводили русичей, тем ближе они сходились
И надо же в чертову пасть попасть, вдосталь отведать плетей, чтоб оценить крепость сдвинутых плеч. Будто там, на Руси, никак уж нельзя было бросить раздоры, друг друга чтить, уважать.
Глядишь, не очутились бы в чужих краях…
– Экая даль, – вздохнул Карась со смутной досадой: в ней и тоска по дому, и восхищение певучей необъятностью. Теперь он шагал в паре с Русланом.-
Сколько земли нетронутой, пустой. Распахать бы, засеять – горы зерна, милый мой, можно б насыпать. Вместо этих курганов постылых,– кивнул он на цепь замаячивших слева синих бугров. – Такую-то землю, жирную, сытую – и без толку держать, стадами топтать. Эх, дурачье.








