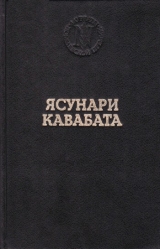
Текст книги "Озеро"
Автор книги: Ясунари Кавабата
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Такие сны мне не снятся.
– Видишь ли, желание быть абсолютно откровенной с подругой – не что иное, как прихоть больной фантазии. Лишь на небе или в аду не может быть секретов от других. Но не в обычной земной жизни. Если у тебя нет никаких секретов от Онды, значит, ты как самостоятельная личность просто не существуешь, не живешь своей собственной жизнью. Положа руку на сердце, подумай, о чем я тебе говорю. Честно подумай.
Хисако не сразу поняла, куда клонит Гимпэй, зачем пытается внушить ей эти мысли.
– Вы считаете, что в дружбу верить нельзя? – попыталась она возразить.
– Не может существовать истинной дружбы, когда нет друг от друга секретов. И не только дружбы, но и всяких иных человеческих чувств.
– Что вы говорите?! – Хисако никак не могла понять его. – Я делюсь с Ондой всем, что считаю важным.
– Так ли это?.. Думаю, о самом важном, как и о самой мелочи – вроде малюсенькой песчинки в дюнах, – ты ей не рассказываешь. К примеру, насколько важной ты считаешь экзему, от которой страдают твой отец и я? Наверно, по важности она стоит у тебя где-то посредине?
Слова Гимпэя прозвучали столь язвительно, что Хисако побледнела и готова была вот-вот расплакаться. Он заметил это и продолжил в более мягком тоне:
– Неужели ты сообщаешь Онде все подробности о вашей семье? Наверное, нет. И о секретах, связанных со службой твоего отца, тоже не рассказываешь. Или, к примеру, ты написала сочинение об учителе – обо мне, должно быть. Думаю, не обо всем, что там написано, ты говорила Онде.
Хисако поглядела на Гимпэя полными слез глазами. Но не произнесла ни слова.
– Кстати, чем занимался твой отец после войны? Каким образом удалось ему так преуспеть? Хоть я и не Онда, но хочу, чтобы ты мне когда-нибудь подробно о нем рассказала.
Гимпэй говорил равнодушно, как бы не придавая этому особого значения, но в его словах прозвучала явная угроза. Он подозревал, что отец Хисако сколотил состояние незаконными операциями на черном рынке, – как иначе смог бы он сразу после войны приобрести такой роскошный особняк? Он решил на всякий случай припугнуть Хисако, рассчитывая, что теперь уж она будет держать язык за зубами и не проговорится, как он тайно следовал за ней до самого дома, хотя верил, что Хисако и так никому о нем не рассказала, иначе навряд ли пришла бы сегодня на занятия, да еще принесла лекарство и написала сочинение «О моем учителе».
Он пошел следом за Хисако бессознательно, словно во сне или в опьянении, влекомый ее женскими чарами. По-видимому, она уже тогда поняла это, осознала силу своей привлекательности, и это внушало ей самой тайную радость. Что до Гимпэя, то он почувствовал, что его околдовала необыкновенная девушка.
Припугнув Хисако и решив, что цель достигнута, Гимпэй огляделся по сторонам и заметил Нобуко Онду. Она стояла в конце коридора и наблюдала за ними.
– Ну, пока… Вон твоя близкая подруга заждалась. Наверно, беспокоится за тебя, – сказал Гимпэй.
Хисако не бросилась вперед, опережая учителя, как поступила бы обыкновенная девочка. Потупившись, она медленно шла по коридору за ним следом, все более отставая.
Спустя несколько дней Гимпэй поблагодарил ее за лекарство.
– Спасибо тебе, оно прекрасно подействовало. Теперь я совершенно здоров.
– Я рада. – Щеки Хисако порозовели, на них появились симпатичные ямочки.
Однако радость Хисако была недолгой. Не посчитавшись с подругой, Онда донесла на нее и Гимпэя, и дело кончилось тем, что его выгнали из колледжа.
С той поры минуло много лет, и вот теперь в турецкой бане Гимпэй вдруг представил, как в том роскошном особняке отец Хисако, восседая в кресле, сдирает кожу на зараженных экземой ногах…
– Человеку, больному экземой, турецкая баня категорически противопоказана. Влажный пар вызывает невыносимый зуд, – пробормотал Гимпэй. – Среди твоих клиентов попадались больные экземой?
– Как вам сказать… – уклончиво ответила девушка.
– Таким, как я, экзема не угрожает. Она – привилегия богачей, у которых на ногах мягкая, нежная кожа. Микробы вульгарной болезни поселяются на благородных ногах – такова жизнь. А на ногах вроде моих, похожих на обезьяньи, с грубой, жесткой кожей, бактерии просто не выживают, – произнес Гимпэй, наблюдая, как девушка своими белыми пальцами массирует подошвы его уродливых ног. – К ним даже экзема не захочет пристать, – повторил он опять и нахмурился.
Зачем именно сейчас, когда он испытывает настоящее блаженство, понадобилось ему затевать с этой симпатичной банщицей разговор об экземе? Может быть, чтобы повторить ту ложь, которую он сказал Хисако?
Тогда, у ворот ее дома, он неожиданно солгал, будто у него на ногах экзема и нужно лекарство. Потом он солгал снова, когда спустя несколько дней поблагодарил ее за лекарство, от которого якобы ему стало лучше. На самом деле никакой экземы у него не было. Он не соврал тогда на уроке, что об экземе ему ничего не известно. А лекарство, принесенное Хисако, он выбросил. Он и уличной женщине говорил, будто не может ходить из-за экземы. Одна ложь порождала другую и, раз высказанная, уже неотступно следовала за ним по пятам. Ложь преследовала Гимпэя подобно тому, как Гимпэй преследовал женщин. То же и преступление: единожды совершенное, оно преследует человека, порождая новые преступления. А плохие привычки? Однажды увязавшись за женщиной, Гимпэй уже не мог совладать с желанием преследовать других. Привычка столь же прилипчива, как экзема. От нее невозможно избавиться. Казалось бы, вылечился от экземы – глядь, на будущий год в летнюю пору она появляется снова.
– У меня нет экземы. Я вообще не знаю, что это такое, – пробормотал Гимпэй, словно упрекая себя за ложь. Как это могло ему прийти в голову: сравнивать удивительное, восторженное ощущение, какое он испытывал, следуя за женщиной, с отвратительной болезнью? Неужели впервые произнесенные им слова лжи были способны вызвать подобную ассоциацию?
Внезапная догадка возникла у него в голове: не от того ли, что у него безобразные ноги, не от ощущения ли своей неполноценности солгал он тогда Хисако, будто у него экзема? И не потому ли, что у него безобразные ноги, он следует по пятам за женщинами – ведь передвигается-то он за ними на этих ногах! Гимпэй был поражен этой внезапно озарившей его мыслью. Неужели уродливая часть его тела жаждет красоты, стремится к ней? Так, может, это закон небес, может, так предопределено свыше, что уродливые ноги должны следовать за красивыми женщинами?
Дедушка начала массировать колени и икры. Теперь его ноги были прямо перед ее глазами.
– Ногти постричь? – услышал он приятный голосок банщицы.
– Ногти? Ты имеешь в виду ногти на ногах? Неужели ты согласна постричь даже эти ногти? – воскликнул Гимпэй и, чтобы скрыть замешательство, добавил: – Они, должно быть, очень большие?
Девушка опустила ладонь на подошву и мягким нажатием распрямила скрюченные и длинные, как у обезьяны, пальцы.
– Немного длинные… – сказала она и стала аккуратно подстригать ногти.
– Как чудесно, что тебя можно всегда здесь найти, – заговорил Гимпэй. Он перестал наконец смущаться и предоставил ей заниматься ногтями. – И что я смогу приходить сюда в любое время, когда захочу тебя повидать… А если пожелаю, чтобы ты сделала мне массаж, достаточно назвать твое имя?
– Да.
– Ты ведь не случайная прохожая. Не посторонняя, чье имя и адрес мне неизвестны. Ты не такая, как те, кого я теряю в этом мире без надежды когда-нибудь встретить, если только сам не пойду за ними. Впрочем, тебе может показаться странным то, о чем я говорю…
Никогда и ни перед кем он так откровенно не выставлял свои уродливые ноги, как перед этой девушкой, которая тем временем, придерживая одной рукой его стопу, аккуратно подстригала ногти. Эта мысль вызвала у него на глазах слезы умиления.
– Да, тебе могли показаться странными мои слова, но я говорю правду… Приходилось ли тебе испытывать чувство горького сожаления, когда человек проходит мимо и навсегда исчезает? Мне оно так знакомо. Я говорил себе: «Ах, какой приятный человек!», «Какой изумительной красоты женщина!» – или: «Никогда в жизни не приходилось встречать кого-либо столь привлекательного». Это случалось на улице, когда я оглядывался на прохожего, или в театре, когда я любовался женщиной, сидевшей в соседнем кресле, или после концерта, когда я спускался по лестнице рядом с незнакомым человеком. И я думал: через мгновенье мы разойдемся в разные стороны и больше не встретимся… Нельзя ведь вдруг остановиться и заговорить с совершенно незнакомым человеком! Такова жизнь – и с этим ничего не поделаешь. Но всякий раз меня при этом охватывает такая смертельная тоска… Я испытываю такую опустошенность, что словами это не передать. И появляется неудержимое желание последовать за этим человеком даже на край света, хотя и понимаешь, что это невозможно. Единственный выход – 1лишить его жизни.
Гимпэй умолк, почувствовав, что его занесло куда-то в сторону, и, переводя разговор на другое, сказал:
– Кажется, я говорил несколько напыщенно, но что мне безусловно приятно – это возможность услышать твой голос: ведь достаточно набрать номер телефона… Но тебе, по-видимому, не всегда это удобно. И в отличие от посетителей у тебя нет свободы выбора. К примеру, тебе понравился посетитель, ты хочешь, чтобы он пришел снова, и с нетерпением ожидаешь его, но ведь это от тебя не зависит, это целиком зависит от его желания: прийти или нет. Может, больше он вообще никогда не появится. Грустно, правда? Но неизбежно, и с этим надо смириться. Такова жизнь.
Гимпэй наблюдал, как двигались лопатки у банщицы, когда она стригла ему ногти.
Покончив с ногтями, девушка замерла в нерешительности, потом, не поворачивая головы, спросила:
– А на руках?..
Гимпэй поглядел на свои руки, скрещенные на груди, и сказал:
– Вроде бы на руках ногти не такие длинные. И не такие грязные, как на ногах.
Но поскольку он не отказался, девушка постригла ему ногти и на руках.
Гимпэй догадывался, что напугал девушку своими неожиданными и зловещими высказываниями. Они и у него самого оставили в душе неприятный осадок. В самом ли деле конечной целью преследования должно быть убийство? Он всего лишь подобрал сумку Мияко Мидзуки, и трудно сказать, доведется ли ему вновь ее встретить. Ему помешали встречаться с Хисако, и нет никакой надежды, что когда-нибудь он ее увидит. Он не довел преследование этих женщин до конца, не совершил убийства. По-видимому, и Хисако и Мияко для него навсегда потеряны – обе они остались где-то в недоступном ему мире.
Перед его глазами с удивительной ясностью всплыли лица Хисако и Яёи, и он сравнил их с лицом банщицы.
– Ты делаешь это так тщательно и с таким умением. Было бы странно, если бы посетители не приходили к тебе снова.
– Зачем вы так меня хвалите? Ведь это моя работа.
– Как чудесно ты сказала эти слова: «Ведь это моя работа».
Девушка отвернулась. Гимпэй смущенно закрыл глаза. Сквозь узкие щелки между веками он видел белый лифчик банщицы…
– Сними это, – сказал он однажды Хисако, ухватившись пальцами за край лифчика.
Хисако отрицательно покачала головой. Он рванул лифчик на себя, обнажив ее грудь. Хисако испуганно глядела на лифчик, а он сначала сжал его в кулаке, потом отбросил и сторону…
Гимпэй открыл глаза и поглядел на правую руку банщицы, которой она стригла ему ногти. Насколько Хисако была моложе ее? На два года, а может, на три? Стало ли тело Хисако теперь столь же прекрасным и белокожим, как у этой банщицы? Гимпэй ощутил запах краски, какой бывает окрашена темно-голубая хлопчатобумажная ткань курумэ. В юности он носил кимоно из такой материи, но сейчас этот запах напомнил ему юбку Хисако из голубой саржи. Надевая юбку, Хисако заплакала, да и у самого Гимпэя выступили на глазах слезы…
Он почувствовал, как внезапно обессилели пальцы, с которых девушка обрезала ногти, и вспомнил: то же самое случилось, когда он и Яёи, взявшись за руки, шли по намерзшему озеру близ родной деревни матери.
– Что с тобой? – удивилась тогда Яёи и повернула к берегу.
Наверное, если бы силы в тот миг не покинули Гимпэя и он удержал бы Яёи, он сумел бы все же проломить лед и утопить ее.
Яёи и Хисако не были для него первыми встречными. Он не только знал их имена и адреса – некоторым образом с ними была связана часть его жизни. И при желании он мог всегда их повидать. Но его вынудили расстаться с этими женщинами…
– Как насчет ушей? – спросила банщица.
– Ушей? А что ты собираешься делать с моими ушами?
– Прочистить. Сядьте, пожалуйста…
Гимпэй приподнялся с топчана и сел. Девушка слегка помяла мочку уха, потом сунула в ушную раковину палец и стала осторожно его вращать. Он ощутил, как застойный воздух выходит из уха, и, по мере того как она продолжала. вращать. палец, придерживая его свободной рукой, чувствовал легкую вибрацию, и множество новых звуков проникло в его ухо.
– Как тебе это удается? Мне кажется, будто я погрузился в чудный сон! – воскликнул Гимпэй и повернул голову. Но собственного уха он, конечно, увидеть не смог.
Тем временем банщица просунула палец в другое ухо и стала медленно его вращать.
– Похоже на нежный любовный шепот. Как мне хотелось бы, чтобы все людские голоса исчезли из моих ушей и в них звучал лишь твой чудесный голосок. Пусть исчезнут вообще все лживые голоса!
Полуобнаженная банщица вплотную придвинулась к Гимпэю. Ему почудилось, будто все его существо наполнилось неземной музыкой.
– Вот и все. Извините, если что-то было не так, – сказала девушка.
Она натянула на ноги Гимпэя носки, застегнула на рубашке пуговицы, надела ботинки и завязала шнурки. Единственное, что пришлось сделать ему самому, – повязать галстук и затянуть на брюках ремень. Пока Гимпэй пил прохладный сок, девушка стояла с ним рядом, потом проводила его до двери.
Гимпэй вышел в сад, и в вечерней тьме ему вдруг привиделась огромная паутина. Вместе с различными насекомыми он заметил в паутине двух, а может, трех белоглазок. Он обратил внимание на четкие белые кружки на их синих крылышках и вокруг глаз. Взмахнув крыльями, они вполне могли бы разорвать тенета, но крылья их были сложены и опутаны паутиной. Если бы паук приблизился к белоглазкам, они заклевали бы его, поэтому он оставался на почтительном расстоянии, в самом центре паутины, отвернувшись от них.
Гимпэй поднял глаза выше и поглядел на темную зелень деревьев. Ему вспомнился ночной пожар на дальнем берегу озера, там, где была деревня его матери. Пламя пожара, отражавшееся в озере, неудержимо влекло к себе.
Гимпэй зря бежал в Синею, спасаясь от преследования. Если кто и преследовал его, то, по-видимому, только деньги, которыми он теперь обладал. Дело было не в самом факте воровства, а именно в деньгах.
* * *
Потеряв сумку с крупной суммой денег, Мияко Мидзуки тем не менее не сообщила об этом в полицию. Это был чувствительный удар по ее бюджету, но по некоторым причинам она решила не заявлять о пропаже. Поэтому Гимпэй понимал, что совершил преступление. Но он не считал, что отобрал у Мияко деньги. Разве он не пытался ее окликнуть, предупредить, что она уронила сумку? Да и сама Мияко не считала, что ее ограбили. Она не была даже вполне уверена в том, что Гимпэй присвоил ее деньги. Когда она швырнула сумку, кроме Гимпэя, поблизости никого не было, и само собой подозрение в первую очередь пало на него, но Мияко не видела и потому не могла утверждать, что именно Гимпэй подобрал сумку, – это мог сделать кто-нибудь другой.
– Сатико, Сатико! – позвала она служанку, как только вошла в дом. – Я потеряла сумку, кажется, около аптеки. Сходи поищи ее. Беги туда сейчас же – не мешкай! Иначе кто-нибудь подберет.
Тяжело дыша, Мияко поднялась на второй этаж. Тацу, другая служанка, поспешила за ней.
– Барышня, вы уронили сумочку? – Тацу, мать Сатико, раньше была единственной прислугой у Мияко, но со временем ей удалось пристроить сюда и свою дочь, хотя Мияко жила одна в маленьком домике и ей не было нужды держать сразу двух служанок. Тацу воспользовалась двусмысленным положением хозяйки и сумела поставить себя выше, чем обыкновенная служанка. Обращаясь к Мияко, она называла ее то «госпожа», то «барышня». Но когда приходил старик Арита, всегда величала хозяйку госпожой.
А все оттого, что однажды в минуту откровенности Мияко призналась ей: «Когда мы остановились в отеле в Киото, служанка называла меня „барышня“, если я была одна в номере. В присутствии же Ариты говорила „госпожа“. Какая уж я там „барышня“ – смешно сказать! Наверно, служанка презирала меня. Мне же тогда казалось, будто она сочувствует моему положению: вот, дескать, попалась бедняжка старику в лапы! – и от этого мне становилось так грустно…» «Позвольте и мне к вам так обращаться», – предложила Тацу.
С того времени так и повелось.
– Все же странно, барышня, как вы на дороге могли уронить сумочку и не заметить? Ведь других вещей у вас не было, – сказала Тацу, внимательно разглядывая Мияко своими маленькими, округлившимися глазками.
Ее глаза оставались круглыми, даже если она не раскрывала их широко. Когда Сатико, которая была как две капли воды похожа на мать, широко раскрывала глаза, они становились удивительно красивыми. У Тацу же глаза были неестественно выпучены – все время настороже.
Лицо у Тацу было тоже круглое и маленькое, шея толстая, груди большие, а дальше ее тело как бы все утолщалось книзу и заканчивалось малюсенькими ножками, которые странно сужались у казавшихся сплющенными щиколоток. От всего ее облика веяло хитростью и коварством. Мать и дочь были маленького роста.
Толстый, мясистый затылок не позволял Тацу поднять голову, и Мияко, стоявшей перед ней, казалось, будто служанка, уставившись прямо ей в грудь, видит ее насквозь.
– Я ведь сказала, что уронила ее! – сердито прикрикнула она на служанку. – Ты же видишь, у меня ее нет.
– Но барышня!.. Вы сказали, что уронили сумочку возле аптеки, верно? Значит, вы запомнили место, где это произошло, и оно поблизости от дома. Почему же вы ее не подняли?
– Еще раз тебе говорю – уронила!
– Можно бы еще понять, если б вы забыли ее где-нибудь, как зонтик. Но просто выпустить из рук… Это все равно что обезьяне с дерева свалиться! Так не бывает, – сказала Тацу, приведя довольно странное сравнение. – Но даже если и уронили, вы ведь могли остановиться и подобрать ее.
– Что за глупости ты говоришь?! Конечно, я бы так поступила, если бы сразу заметила.
Мияко только теперь обратила внимание, что поднялась на второй этаж, не переодевшись. Правда, ее платяные шкафы с кимоно и европейскими костюмами находились здесь же, в маленькой комнате, рядом с большой, в восемь татами. Так было удобнее переодеваться, когда приходил старик Арита. Но в этом проявлялась и своеобразная власть Тацу, которая считала нижний этаж своей вотчиной.
– Сходи вниз, смочи полотенце холодной водой и. принеси сюда. Я немного вспотела.
– Слушаюсь, барышня.
Мияко рассчитывала, что она успеет раздеться и вытереть пот, пока Тацу будет внизу.
– Я добавлю в воду немного льда из холодильника и оботру вас, – предложила Тацу.
– Спасибо, я сама, – сердито ответила Мияко.
Когда Тацу спустилась вниз, стукнула входная дверь.
– Матушка, я прошла от аптеки до улицы, по которой ходит трамвай, но сумки нигде нет, – донесся до Мияко голос Сатико.
– Так я и знала… Поднимись на второй этаж и доложи госпоже. Ты сообщила в полицию о пропаже?
– Нет. А нужно было?
– Что стоишь как дурочка? Пойди сейчас же и заяви.
– Сатико, Сатико! – позвала ее Мияко. – Сообщать и полицию не надо. Ничего ценного в сумке не было…
Сатико промолчала. Тацу поставила таз с водой на деревянный поднос и поднялась на второй этаж. Мияко уже сняла юбку и была в одной рубашке.
– Позвольте вытереть вам спину, – слащавым голосом предложила Тацу.
– Не надо, я сама. – Мияко взяла у служанки отжатое полотенце, вытянула ноги и начала их обтирать. Тацу подобрала ее чулки и стала складывать.
– Оставь, все равно буду стирать, – сказала Мияко и бросила ей на руки полотенце.
Тем временем к ним поднялась Сатико. Она остановилась у двери и низко поклонилась, коснувшись ладонями порога.
– Я ходила, но сумки там нет. – Сатико выглядела мило и в то же время несколько комично.
Тацу приучила дочь быть всегда учтивой с хозяйкой. Сама же она, в зависимости от обстоятельств, то вела себя с Мияко до тошноты вежливо, то чуть ли не по-приятельски, а подчас даже нахально и грубо. Она надоумила дочь завязывать шнурки на ботинках Ариты, когда тот уходил. Старик страдал невралгией и нередко опирался о плечи Сатико, чтобы встать на ноги. Мияко уже давно разгадала план Тацу: сделать так, чтобы Арита бросил хозяйку и сблизился с Сатико. Правда, ей не было известно, рассказала ли Тацу об этом плане своей семнадцатилетней дочери.
Мать приучила Сатико пользоваться духами, а когда Мияко, узнав об этом, удивилась, та ответила: «От ее тела слишком сильно пахнет».
– Почему вы запретили Сатико сообщить о пропаже в полицию? – спросила Тацу.
– Какал же ты настырная…
– Разве можно примириться с такой пропажей? Сколько в сумке было денег?
– Там денег не было вовсе. – Мияко закрыла глаза, прижала к ним холодное полотенце и замерла, чувствуя, как часто бьется сердце.
Мияко имела две сберегательные книжки. Вторая была на имя Тацу, у которой она и хранилась. О последней старик Арита ничего не знал. Именно Тацу посоветовала ей так поступить.
Двести тысяч иен Мияко сняла со своей книжки. Она сделала это втайне от Тацу, опасаясь, как бы Арита не прознал об этом, иначе обязательно потребует объяснений, на что она их потратила. И Мияко решила соблюдать максимум осторожности, чтобы случайно не проговориться.
Двести тысяч иен – это была компенсация Мияко за потерянную юность, за краткую пору расцвета, отданную полумертвому седому старцу. Деньги были оплачены ее молодой кровью. Но теперь они пропали. Мияко все еще никак не могла поверить в случившееся. Одно дело, когда деньги истрачены, – тогда хоть помнишь, на что их потратил, и после того, как их не стало. Совсем другое, когда просто так теряешь сбережения, которые копил годами, – остается лишь горькая мысль: зачем было копить столько лет?
И все же Мияко не могла отрицать, что, потеряв деньги, ощутила на миг радостное волнение. И убежала она не из страха перед преследовавшим ее человеком, а потому, что испугалась неожиданно охватившей ее радости. Но, как и Гимпэй, она не могла бы ответить на вопрос: ударила ли она своего преследователя сумкой или просто бросила ее в его сторону? Безусловно, Мияко знала, что вовсе не роняла сумку. У нее тогда вдруг сильно заболела рука, и эта боль пронзила ей грудь, все тело. Мияко на миг даже замерла в некоем болезненном восторге. Будто неясные чувства, забродившие внутри нее, пока ее преследовал мужчина, вырвались наружу и вспыхнули ярким пламенем. Словно в единый миг ожила ее юность и мстила за себя, за годы, отданные в жертву старику Арите. И если это было действительно так, то Мияко получила мгновенную компенсацию за долгие годы стыда и ощущения своей неполноценности, когда она копила эти двести тысяч. Значит, деньги пропали не зря.
Но дело оказалось вовсе не в деньгах, не в этих двухстах тысячах иен. Когда Мияко размахнулась, она позабыла о деньгах и далее не заметила, как сумка сорвалась у нее с руки. Не вспомнила Мияко о сумке и тогда, когда, повернувшись, бросилась бежать. Следовательно, она вовсе не лгала, сказав, будто уронила сумку. Честно говоря, она и думать забыла о ней и о лежащих там деньгах еще до того, как ударила Гимпэя. Всем сердцем она ощущала лишь одно: ее преследует мужчина, и в тот миг, когда это ощущение достигло вершины, сумка сорвалась с ее руки.
Радостное чувство не покидало ее и когда она вошла в дом. Должно быть, поэтому Мияко постаралась незаметно проскользнуть к себе на второй этаж.
– Иди вниз, я хочу переодеться, – сказала она, обтерев шею и руки.
– А почему бы вам не переодеться в ванной? – спросила Тацу, с подозрением поглядывая на хозяйку.
– Лень туда идти.
– Скажите, вы точно помните, что уронили сумочку около аптеки? Я все же схожу в полицейский участок – надо предупредить о случившемся.
– Сейчас уже и не помню.
– Это почему?
– Меня преследовал мужчина… – проговорила Мияко. Ей так хотелось поскорее остаться одной, прийти в себя от радостного возбуждения, что признание невольно сорвалось у нее с языка.
– Опять?! – Круглые глазки Тацу недобро сверкнули.
– Опять. – Мияко кивнула и сразу почувствовала, как радость испарилась и ей на смену пришла опустошенность.
– А вы сразу возвратились домой? Или, может быть, решили поводить за нос вашего преследователя?.. Наверно, поэтому и потеряли сумку. – Заметив, что дочь все еще находится в комнате, Тацу прикрикнула: – Сатико, а ты чего здесь околачиваешься? Ну-ка, спускайся вниз!
Девушка с любопытством прислушивалась к их разговору, забыв, что он вовсе не предназначен для ее ушей. Она покраснела и поспешно покинула комнату.
Собственно, для нее уже давно не было секретом, что на улице за Мияко часто увязываются мужчины. Знал об этом и старик Арита. Однажды посреди Гиндзы [1]1
Гиндза – центральная улица в Токио.
[Закрыть]Мияко сама шепнула ему:
– Какой-то человек идет за мной следом.
– Да? – Старик хотел обернуться.
– Не оглядывайтесь, – предупредила она.
– Разве нельзя? А почему ты решила, что он тебя преследует?
– Почувствовала. Он недавно шел нам навстречу. Высокий такой… в синей шляпе.
– Я не обратил внимания. Но, может, ты подала ему знак, когда он проходил мимо?
– Глупости! Неужели я похожа на женщину, способную заигрывать с первым встречным?
– Но тебе, наверное, приятно, что он обратил на тебя внимание?
– Может, и правда стоит с ним познакомиться… Давайте пари: до какого места он будет идти за мною? Договорились? Только вряд ли что-нибудь получится, если рядом со мной он увидит старика с палкой. Вы зайдите вон в ту мануфактурную лавку и понаблюдайте оттуда. Если он пойдет за мной до конца улицы и обратно, с вас белый летний костюм, но только, пожалуйста, не полотняный.
– Ну а если проиграешь?
– Если проиграю? Дайте подумать… Я позволю вам всю ночь отдыхать, положив голову мне на руку.
– Учти, будет нечестно, если ты обернешься к нему или заговоришь.
– Само собой.
Арита заранее знал, что проиграет пари, но был уверен, что и в случае проигрыша Мияко позволит ему отдыхать на ее руке. Правда, кто знает, не выдернет ли она руку из-под его головы, когда он уснет, с горечью подумал Арита. Наблюдая за Мияко и следовавшим за ней мужчиной, он вдруг почувствовал, будто к нему возвращается молодость. Он вовсе не ревновал. Ревность вообще была под запретом.
У себя дома старик содержал в должности экономки миловидную женщину лет тридцати. Она была старше Мияко почти на десять лет. Лежа рядом то с одной, то с другой – обе они подкладывали ему руку под голову или обнимали за шею, – этот семидесятилетний старец каждую из них воспринимал и как мать. Ведь только мать способна дать забвение от страхов, которыми полон этот мир. Так он думал. Экономке и Мияко было известно о существовании друг друга. Он сам рассказал им об этом, а Мияко предупредил: если она начнет хоть чуточку ревновать, он либо изувечит ее, либо умрет от разрыва сердца. Наверно, так Арита пытался обеспечить себе спокойную жизнь. Он страдал от невроза сердца, и Мияко об этом знала – всякий раз во время приступа она мягко поглаживала ему грудь, нежно прикасалась к ней щекой.
Что до экономки, которую звали Умэко, то она, по-видимому, не могла подавить в себе ревнивое чувство. Мияко вскоре стала догадываться: если старик Арита приходил к ней в хорошем расположении духа и баловал ее, значит, в тот день экономка доняла его ревностью. Как только может эта молодая еще женщина ревновать немощного старца? – с презрением думала Мияко.
Арита нередко хвалил экономку, называл ее примерной, домовитой хозяйкой. Мияко из этого делала вывод, что в ней, в отличие от Умэко, он хотел видеть лишь девицу для развлечений. Но и от Умэко и от Мияко он прежде всего жаждал проявления материнского чувства. Когда Арите было два года, отец развелся с его матерью и привел в дом другую женщину. Старик часто рассказывал Мияко эту историю и в заключение всякий раз говорил:
– Как был бы я счастлив, если бы место мачехи заняли такие женщины, как ты или Умэко.
– Не знаю, не знаю! Может, я изводила бы пасынка. Наверно, в детстве вы были противным мальчишкой.
– Нет, я был послушным ребёнком.
– Должно быть, в воздаяние за то, что мачеха изводила пасынка, вам на старости лет достались две добрые мамаши. Разве вы не счастливы? – однажды иронически заметила Мияко. На это Арита вполне серьезно ответил:
– И правда! Я так благодарен тебе.
«Ах, значит, он благодарен!» – злилась Мияко и в то же время думала: есть чему поучиться у этого семидесятилетнего старца.
Похоже, Ариту, который по-прежнему трудился, несмотря на возраст, раздражал праздный образ жизни Мияко. Предоставленная себе Мияко чуралась всякой работы. Молодость безвозвратно уходила, а ее уделом было бессмысленное ожидание визитов Ариты. Мияко удивляли старания служанки Тацу как можно больше выжать из старика. Это она пыталась надоумить Мияко, чтобы та утаивала часть платы за отель, когда Арита отправлялся с ней в путешествие. Тацу посоветовала договориться с метрдотелем, чтобы тот выставлял завышенные счета за помер и разницу делил с Мияко. Но Мияко не захотела унизиться до таких махинаций.
– Раз вам это не по душе, попытайтесь хотя бы утаить кое-что из чаевых. Ради престижа старик не станет скупиться, а вы рассчитывайтесь в соседней комнате. К примеру, получите от него три тысячи и, пока идете расплачиваться, суньте тысячу иен за пазуху или под пояс кимоно.
– Перестань! Противно слушать – до чего же ты жадная и мелочная.
Но это вовсе не было для Тацу мелочью, если учесть ее мизерное жалованье.
– При чем тут жадность, госпожа? Деньги копятся понемногу. Песчинка к песчинке – глядь и гора выросла. Нам приходится копить день за днем, месяц за месяцем… Мы ведь сочувствуем вам, госпожа. Жалко глядеть, как этот старый кровопийца сосет вашу молодую кровь.
Когда приходил Арита, Тацу мгновенно менялась, даже голос у нее становился слащавым, как у торговки, завидевшей покупателя. Это сейчас в разговоре с хозяйкой у нее проскальзывали сердитые нотки. Мияко чувствовала, как в ней поднимается раздражение. Его причиной были даже не трескучий голос и попреки Тацу, а скорее страх. Как проходит жизнь! Как день за днем, месяц за месяцем исчезает молодость! Гораздо быстрее, чем копились деньги.
Мияко воспитывалась совсем в иных условиях, чем Тацу. До того как Япония проиграла войну, родители ей ни в чем не отказывали, и она росла, как говорится, «среди цветов и мотыльков»; поэтому немыслимо было и предполагать, что Мияко согласится присваивать себе даже мизерную часть того, что Арита выдавал для оплаты гостиницы. Но попытки Тацу толкнуть ее на мелкий обман вызывали – и не без оснований – у Мияко подозрение: наверно, сама Тацу не упускает случая кое-что урвать для себя из ее денег. Она давно уже заметила: лекарство от простуды обходилось на пять-десять иен дороже, когда за ним ходила Тацу, а не Сатико. Мияко любопытно было узнать, какая же гора денег накопилась у Тацу на книжке из этих песчинок? Можно бы расспросить Сатико, но Тацу вряд ли показывала дочери сберкнижку: она не давала ей денег даже на карманные расходы. В общем-то Мияко смотрела на это сквозь пальцы, но, с другой стороны, не могла не обратить внимание на удивительную бережливость Тацу, которая с трудолюбием муравья таскала песчинки в свой дом. Так или иначе, Тацу вела, можно сказать, деятельный образ жизни, Мияко же – нет. Мияко отдавала безвозвратно свою юность и красоту, Тацу же не поступалась абсолютно ничем. Поэтому, когда Тацу вспоминала о том, как над ней измывался муж, погибший во время войны, Мияко с тайной радостью и даже с неким вожделением спрашивала:








