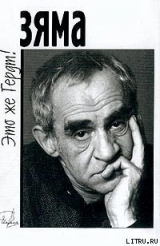
Текст книги "Зяма – это же Гердт!"
Автор книги: Яков Гройсман
Соавторы: Татьяна Правдина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
О Константине Райкине
«Тася, ты меня подмаргиваешь всем телом», – говорит двенадцатилетний Костя, прерываясь в своем рассказе, обращенном к нам. Он говорит увлеченно и радостно, видя наше полное внимание, и сердится на желание Таси скорректировать накал его речи. Дело происходит в шестьдесят третьем году на берегу озера под Черновцами, где, организовавшись вместе, отдыхают: Алеша, трехлетний сын Кати Райкиной и Юры Яковлева с нянькой, Костя с Тасей, Зяма, шестилетняя Катя и я. Какое-то время проводят там и взрослые члены райкинского семейства – Катя, Юра и Аркадий Исаакович. Тася – няня, домработница, прожившая всю жизнь у Райкиных, командующая и Ромой (хозяйкой), и Аркадием, конечно, зовущая их «на ты», обожающая всех, но больше остальных – Костю, вернее Котю, иначе его никто и не называл. Не знаю, говорила ли она, будучи татаркой, по-татарски, но, даже прожив весь век в Ленинграде среди хорошо говорящих по-русски, и про себя и про других, независимо от пола, употребляла в глаголах только мужской род. Это никому не вредило, но иногда шутя и дети, и взрослые начинали говорить «как Тася», она ворчала, но хохотала вместе со всеми.
Я знала Котю и до этого лета, но никогда не общалась наедине. А тут мы вместе жили, ели, пили, гуляли. Мне было интересно с ним все время. Я не люблю определение «вундеркинд», в нем мне слышится некий негатив – ведь в «чуде» всегда есть и некоторая странность. Котя не был вундеркиндом, он сразу был талантом. Корней Иванович Чуковский, написав в своих дневниках о встрече с семнадцатилетним Костей Райкиным, употребил в описании его слово «драгоценность». И правда, ведь стань Костя не актером, а математиком, чего особенно хотели и что очень советовали, видя его редкие способности в этой науке, его школьные преподаватели, он наверняка был бы замечательным ученым. Это тоже, конечно, чрезвычайно важно, но жизнь одна – в науке отдача людям отдалена, а сейчас его еще, не дай Бог, «скрали» бы американцы. Но нам повезло. Преодолев груз такой громкой фамилии (а псевдоним брать было глупо – все равно все знают, что сын), он сумел стать совершенно отдельным, безусловно выдающимся артистом, дающим огромному числу людей радость участия в искусстве театра – сопереживать в веселье и драме. Сравнивать, конечно же, не следует, но есть вещи, которые, по-моему, великий Райкин не смог бы – Костя ведь и трагик. А его пластика? Когда мы гуляли тем летом, он находил какие-то стенки-заборы и, взобравшись на них, при моем тихом ужасе от их высоты, показывал, как ходит лошадь, как крадется или потягивается пантера. Я не знаю второго человека, который так чувствует покой и движение, – он собой может показать вам и зонтик, и массу других «предметов», и мчащегося леопарда!
У Коти были замечательные родители. Он очень близко с ними дружил. Мама, Рома, артистка райкинского театра, но еще и скромная, с редкостно теплым, совершенно своим юмором, писательница. Про папу не буду, все знают – он великий. Так что гены – шикарные. Я их вижу главным образом в том, что, как и Аркадий, Костя играет каждый раз так, как латиноамериканцы играют джаз, – как будто в последний раз. И еще в редкостном постоянном фанатизме в работе. Так случилось, что в начале лета шестьдесят седьмого года Зяма лежал в больнице в Ленинграде, а я тревожно и неуютно жила в гостинице. Рома и Аркадий поддерживали меня, и я для душевного отдохновения иногда вечером после больницы приходила к ним. Однажды Аркадий позвал меня в кабинет и в течение полутора часов с полной отдачей проиграл мне одной (!) всю свою готовящуюся программу. «Как тебе не лень?» – спросила я. «Сколько зрителей – не имеет значения. Ты хорошо слушала, а только это и важно», – объяснил он мне. Костя – такой же! Добиваясь максимума возможного в спектаклях, он загоняет артистов до упаду, но себя больше всех.
Зяма любил Костю, радовался его успехам и очень высоко ставил его актерскую серьезность и личностную самостоятельность: «Всё, что Костя сделал, он сделал сам!»
Поэтому с честью, не по наследству, а по художественному соответствию Райкин-младший возглавляет театр, носящий имя его великого папы.
Сегодня, когда я звоню, мне очень трудно выговаривать: пожалуйста, Констинтина Аркадьевича – для меня он Котя, хоть и повзрослевший до того, что, обращаясь ко мне, деликатно отбрасывает «тетя» и говорит просто «Танечка».
Правда ведь, драгоценный мальчик!
Константин Райкин
ОН ПОМОГАЛ МНЕ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
Я помню его с раннего детства. Он дружил с моими родителями. Всегда веселый, остроумный, очень обаятельный, очаровывающий, праздничный, артистичный, с умным завораживающим голосом… хромой, но невероятно элегантно двигающийся и превративший хромоту чуть ли не в достоинство своей походки. Он всегда естественно и на равных со мной разговаривал – не было сюсюканья и поддавков, столь обычных при общении взрослых с чужими детьми. Я почему-то, будучи еще ребенком, сразу поверил, что ему со мной очень интересно. Он действительно увлеченно со мной беседовал, внимательно слушал, а больше всего мне нравилось, как он хохочет от каких-то моих рассказов и показов. Наши отношения всегда, с моего раннего детства до последнего телефонного разговора пятилетней давности, были одинаково сердечными. Спустя много лет, когда я уже был актером, он любил напоминать мне о моих детских фантазиях. «Помнишь, – говорил он, – как ты показывал соревнования по прыжкам в воду с вышки высотой 10 000 м? Как прыгун сначала страшно боится, долго с ужасом смотрит вниз, потом, закрыв глаза, отчаянно бросается и летит. Потом потихоньку привыкает к полету, расслабляется, начинает смотреть по сторонам, летит то боком, то вверх ногами, то как будто развалившись на диване, – в общем, уже совершенно развязно и нагло потому, что судейская бригада сидит гораздо ниже самой воды и до нее еще далеко. И только подлетая к воде, он собирается, вытягивается в струнку и проносится мимо судей в идеальном виде. Я тогда сказал Аркадию: „Ты бы не смог такого придумать. Ты бы смог показать прыжок со 100-метровой вышки, ну, с 50-метровой, но с вышки в 10 000 метров тебе бы не пришло в голову“.
Вообще он очень поддерживал мою веру в себя. Особенно в начале моего актерского пути, когда я, измученный самоедством, придавленный тяжестью отцовской фамилии, все-таки пытался выжить и так нуждался в поощрении.
Думаю, что он всегда понимал, как мне сложно заниматься этой профессией, будучи сыном Райкина.
Он приходил ко мне за кулисы после спектакля и говорил: «Никто в мире не сыграл бы эту роль так, как ты». Мне кажется, он всегда это делал специально, чтобы меня поддержать. Так же как и то, что строил свои отношения со мной подчеркнуто отдельно от отношений с моим отцом. Мы с папой очень любили друг друга и были чрезвычайно близкими людьми, но я навсегда благодарен дяде Зяме за независимую оценку моей личности. Для меня это было необходимо, особенно учитывая его собственный огромный авторитет. А уважение и восхищение, которые он вызывал своим талантом, остроумием, интеллектом, трудно передать словами. Он был интеллектуальным символом времени. Его магический голос, переводивший фильм «Возраст любви», придавал картине едва ли не большее обаяние, чем сама Лолита Торрес, исполнительница главной роли. А когда он, переводя текст песни героини, запел вместе с ней, это производило на меня неизгладимое впечатление. Кино казалось лучше, чем было без перевода. Вообще если в фильме звучал голос Гердта – фильм не мог быть пустым.
А его знаменитые фразы, шутки, остроты, каламбуры…
Говоря про одного артиста: «Хороший актер, но есть серьезный изъян – несексуальной привлекательности». – «А это обязательно?» – «Для ведущего артиста – да!» Вспомним своих любимых артистов – у всех у них это есть…»
Зрителям на своем творческом вечере, сочувствовавшим его хромоте и предложившим ему присесть на стул на сцене: «Ничего, ничего… Вы сидите за свои деньги, а я стою – за ваши».
Ощупывая у себя чуть появившийся животик: «Комок нервов»…
Подпись под очень вежливым посланием негодяю: «Искренне преданный Вами Зиновий Гердт».
Встретившись со своим тезкой Зиновием Паперным: «Сколько лет, сколько Зям!»
А эти знаменитые застолья у него на даче или в московской квартире!..
Во-первых, сама компания! За столом собирались Булат Окуджава, Орест Верейский, Александр Твардовский, Петр Тодоровский, Михаил Козаков, Александр Ширвиндт, Валерий Фокин… Всегда очень вкусно! Жена дяди Зямы – Татьяна Александровна готовила замечательно… Но еда и выпивка – повод. Мне не столько елось и пилось, сколько слушалось и смотрелось! Господи, как было интересно!.. Какая плотная насыщенность таланта, юмора, ума возникала за этим столом! Какие замечательные звучали стихи…
Дядя Зяма совершенно уникально, неповторимо читал стихи. По моему ощущению, он читал Пастернака, Твардовского и Самойлова лучше, чем кто-либо другой. Вообще поэзия была его стихией. Он становился прекрасным, от него нельзя было оторвать глаз. Он говорил мне, что знает наизусть все стихи Пастернака. Рассказывал, что однажды на своем творческом вечере в Ленинградском Доме искусств играл с залом в игру, когда ему называли первую строчку из любимого стихотворения Бориса Леонидовича, а он наизусть читал его до конца. И все же не это самое главное и удивительное. Главное, как он их читал! Он это делал абсолютно ясно по мысли, без шаманств и подвываний, при этом невероятно личностно и эмоционально. Одновременно высоко и просто.
Кто он был, дядя Зяма Гердт?
Конечно – замечательный артист. Уникально одаренный человек. Но разве только это! Он олицетворял собой духовную элиту нашего времени, общепризнанным аристократом духа от актерского цеха. Конкретно для меня он был человеком, который помог мне почувствовать себя полноценной личностью, поверить в собственную творческую состоятельность.
При нем я чувствовал себя талантливым.
Я помню наш последний телефонный разговор. Я уже знал, что он очень болен, но счел необходимым пригласить его на вечер нашего театра, посвященный памяти отца. Его 85-летию. Он быстро, как-то вскользь поблагодарил и сразу стал говорить мне необыкновенно ласковые, нежные слова про меня, мой театр, мои роли. Я слышал, что физически говорить ему трудно, но говорил он как-то внутренне покойно, светло и возвышенно.
С незабываемой добротой…
Я понял, что он со мной прощается…
Спасибо Вам, дядя Зяма…
О Галине Шерговой
Зяма знал Галю с первого дня без войны – 9 мая 1945 года, то есть за пятнадцать лет до моего появления в его жизни. У них были дивные воспоминания о бесшабашных веселых первых послевоенных годах. Я же принять участие в этих воспоминаниях, естественно, никак не могла. Галя сразу понравилась мне и тем, что поэт, и тембром голоса, и статью. Но познакомились мы по-настоящему благодаря счастливой случайности – не сговариваясь, оказались в одно время в Сочи в санатории «Актер». Галя приехала лечиться в Мацесту, а мы с Зямой, оба не любя «казенного отдыха», прибегли к нему всего три раза за нашу совместную жизнь, и это был – первый. Мы ужасно обрадовались друг другу, потому что вокруг были в основном толстые громогласные театральные администраторы, носящие брючные ремни ниже животов.
Люди познаются не только в работе и «разведке», но иногда и в дурацких, но сложных обстоятельствах. Мы с Галей поняли ценность друг для друга, как это ни смешно, «по пьянке». Это сегодня никого не удивляет многообразие самых разных ресторанов, а почти сорок лет назад «Кавказский аул» был экзотикой. И мы, конечно, не побывать там не могли. Ожидания наши оправдались, еда и вино были первоклассные, и мы, будучи и без того в хорошем настроении, все втроем, что называется, «надрались вусмерть». Надо было возвращаться, и для сокращения пути мы, полностью потеряв бдительность, пошли к стоянке такси по крутой скользкой глинистой тропинке. Много раз падая, мы хорошо ее обтерли, при том что все были одеты в светлое. Шофер подстелил что-то на сиденья, и мы прибыли к санаторию, где у входа после ужина стояла большая группа его обитателей. Все они, естественно, знали Гердта, но никто не кинулся, вероятно, совершенно обалдев от представшей перед ними картины, помочь нам с Галей, измазанным в глине, тащить такого же, но уснувшего Гердта от машины к лифту. Очевидно, от обилия публики мы совершенно протрезвели и молча, не обмениваясь ни единым словом, несли его так, как будто это обычное, привычное наше дело.
Пустяковая, действительно дурацкая мелочь. Но, я думаю, многие знают, как иногда из как бы несущественных деталей поступков, речи, словоупотребления складывается представление о человеке. Когда вместо «есть» говорят «кушать», а вместо «скажите, пожалуйста» – «вы не подскажете?» – я понимаю, что этот человек, наверное, по большей части «не моей крови». Так же как при большой беде ты держишься, а мелкая неудача, вроде спущенной петли на чулке или трудно надеваемого сапога, последней каплей обрушивает тебя в тяжкие рыдания. И в искусстве – легкое движение брови актера, козленок на каждой картине Шагала, неожиданная пауза у музыканта-исполнителя и многие другие подобные «незначительности» как раз так много значат.
После того проходного, в общем смешного происшествия возникла какая-то другая волна отношений. Галя, с дивным лицом, статуарностью, внешней решительностью, стоически перенесшая и без стонов продолжающая переносить дикие физические страдания, внутренне – лирический поэт да еще одарена самоиронией и тонким чувством юмора. Редкое умение ценить чужие достижения и уважать других.
Меня особенно восхищает ее уважительное отношение к близким – дочке, внучкам, мужу. От своих так трудно отстраниться! Она им – товарищ, а не начальник и поэтому истинная всему голова.
А недавно праздновали Галину и Леши (вообще-то он Александр) Юровского золотую (!) свадьбу. Это в наше-то сумасшедшее время! В моей жизни это была всего лишь вторая золотая свадьба (первая – моих родителей, которые прожили «во грехе», в незарегистрированном браке пятьдесят пять лет). Оказалось, что это событие было редкостным для многих. Счастьем было видеть радостные лица детей, учеников, коллег и друзей, отношения с которыми исчисляются десятилетиями. Мало кто так достойно живет!
Поначалу, любя Зяму, Галя приняла меня, доверяя ему, а после «пьянки», и уже много лет, у нас с ней свои, открытые отношения. А сегодня, когда Зямы нет, она редкостно понимает меня и просто – друг.
Галина Шергова
ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он в отличие от известных персонажей не был чужим…
Разумеется, я должна тут одернуть себя – больно уж ударилась в восточно-вычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А во-вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто – он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения: 9 мая 1945 года.
В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его. Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Всё! Они с нами уже ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами.
И вправду: все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А доставалось ему достаточно всяких испытаний.
Так вот. В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть – мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго.
И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а – он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливалой, а виночерпием.
Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем, подгоняемая зямиными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу питья: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!»
Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рождение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья…
Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий – великодушный хромой бес.
Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его повадке. Даже имена реалий, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская.
Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кособокой хибаре. Жалкой и немощной. Как-то подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал:
– Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт».
Обряжать притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды шутки – удел избранных. Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так – обряжать с легкостью – Гердт умел.
Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонорары, мы, шикуя, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг – Фатьянов, высокий, могучий:
– Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим.
На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежку «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплуа выступало это самое пальто. И так во всем.
Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятьское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это: «детский лепет».
Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самозабвенно и бескорыстно.
Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов В. Полякова и И. Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда И. Прут, оглядевшись по сторонам, сказал задумчиво:
– А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили!
Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес:
– На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату – 17 квадратных метров. Понимаете – квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно.
Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой.
Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):
– Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?
Даже не улыбнувшись, он отвечал:
– До конца жизни.
– Что, как у Асеева, «из бесчисленных – единственная жена»? – мы любили разговаривать строчками.
– Отсюда – в вечность. Аминь. А может – омен, возможны варианты.
Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью.
Профессия настоящей жены – это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун… Таня – блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности.
Когда Зяма был уже безнадежно болен и терзаем болями, отхлынувшими силами, сомнениями, только она умела сказать: «Зямочка, надо». И он собирался. И как гумилевский герой, «делал, что надо». Она «учила его, как не бояться и делать, что надо». Хотя этот маленький, хрупкий и немолодой человек и сам был мужественным до отваги. Но ведь и отважных оставляют силы…
За три месяца до кончины Зяма снялся в фильме по моему сценарию. Как? Это непостижимо – ему уже был непрост каждый шаг. Видимо, Таня сказала: «Зямочка, надо. Ты должен оставаться в форме». А может, и сам он решил, что нельзя потакать недугу. Да и дружбе он оставался верен, как умел это делать всегда.
Он вышел на съемочную площадку, и никто даже не заподозрил, чего это ему стоило. И в перерывах он был Гердтом – праздником для всех, виночерпием общей радости.
Ночью после съемок я мысленно перебирала подробности, детали нашей многолетней дружбы. «Детали», – произнесла я про себя. Детали. И их великий бог.
Стихи читают все, и почти никто не делает это адекватно стиху. Поэты, сплошь и рядом, торопят суть в ритмах и аллитерациях, актеры пересказывают содержание. Смоктуновский уверял меня, что стихи нужно читать как прозу. Великий Качалов читал стихи удручающе-смехотворно. За всю жизнь я слышала пять-шесть человек, в чьем произнесении звук и смысл были бы сопряжены. Одним из них был Гердт. Он заключал в себе целую звуковую библиотеку поэзии.
Убей бог, не помню антуража того чтения. Потому что открывшееся мне тогда было важнее зримости окружавшего нас. Помню только, что это были времена, когда я училась в Литературном институте и школярски постигала поэтическое ремесло мэтров. А среди них были такие виртуозы стихостроения, как Павел Антокольский, Илья Сельвинский, для которых звучание слова и конструкция строки – безоговорочная подвластность материала. Казалось, мне уже открыты их секреты.
Зяма читал Пастернака. Всем ведомо, как знал он его и как любил. Он произнес:
Великий бог деталей,
Великий бог любви
Ягайлов и Ядвиг…
– и повторил это дважды. То ли на мгновение остановившись перед следующей строкой, то ли подчеркивая значимость произнесенного. И продолжал. Но я уже не слушала.
Тогда я еще ничего не знала про Ягайло и Ядвигу, не стояла у их каменной усыпальницы, куда поколения влюбленных несут заклинания о счастье в любви. И стихи эти, к своему стыду, cлышала тогда впервые.
Разумеется, всех литературных бурсаков учили важности подробностей для повествования. И тем не менее провозглашенное Гердтом было открытием. Открытием важнейшего, что в искусстве и любви – равнозначно: ими правит Великий бог деталей. Не мастер, даже пристальный, а великий бог.
Подробности – понятие перечислительное. Деталь – самоценность каждого атома бытия в сложнейшем взаимодействии этих частиц, которыми правит их бог. Только исполненный деталей многозначный мир может стать искусством. Или любовью. Родство с этим богом – посвящение в художники.
Гердт был из посвященных. Во всех его работах детали звучания, смысла, жеста были бесчисленны и единственны для того жанра, в котором он в данный момент творил.
Жест – особый инструмент в его мастерской. Руки Гердта, красивые, разговаривающие и ваяющие. Именно ваяющие нечто из пространства, из плоти пустоты. С их помощью слово обретало вещественность, зримость. Действо наполнялось бытием и со-бытием деталей.
Да, он работал не только в разных жанрах, но и в разных видах искусства. Гетевскому Мефистофелю не претило рассказать о повадках морских котиков. В собственном закадровом тексте документального фильма, а захочется – о них же киплинговскими стихами. Оставаясь тем же, особым Гердтом, и всякий раз – иным. Потому что управление деталями ему по плечу.
Стихосложением, мастерским жонглированием рифмами, он тоже владел. Причем, чуткий к феномену стилистики, был и прекрасным пародистом. Играл в чужую манеру, играл звукосочетаниями.
К юбилею Л. О. Утесова он сочинил музыкальное поздравление. Знаменитого утесовского Извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре:
«Здесь при опере служу и при балете я…»
И по-ребячьи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку:
«В день его семи-деся-ти-пяти-летия…»
Леонид Осипович был в восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся… Впрочем, нет, не буду, не буду тасовать байки про Зяму. А то выходит какой-то дед Щукарь с изысканным мышлением и живописно-интеллигентной речью. Но и без баек – Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключен его способ общения с миром. Веселый и дружеский. Жизнь таких, как он, всегда потом расходится в апокрифах.
А то, что ему бывало трудно, невыносимо больно, что в каждой работе он проходил через борения и сложнейшие поиски, – известно только ему. Да, может быть, еще Тане. Однажды он сказал мне:
– Я вот что обнаружил: бывает так паршиво на душе, чувствуешь себя хреново, погода жуткая, словом – все сошлось. И тогда нужно сказать себе: «Всё прекрасно», гоголем расправить плечи и шагать под дождем, как ни в чем не бывало. И – порядок».
Господи, какой простейший рецепт!..








