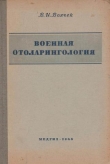Текст книги "Военная"
Автор книги: Вячеслав Сукачев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Глава тринадцатая
Ночью пошел дождь. Серафима проснулась и слушала, как монотонно, уже по-осеннему, барабанит он в окно, по шиферной крыше, как из слива на правом углу дома падает вода в бочку и, выплескиваясь через край, стекает в огород. Хорошо было под одеялом, уютно в такую-то мокрядь, и Серафима покойно лежала с широко открытыми глазами. На диване посапывал Никита, укрывшись с головой. Привычка, наверное, оставшаяся у всех фронтовиков. А вот Серафима такому сну не обучилась – стоило прикрыть голову, она задыхалась, не хватало воздуха, и лучше уж был яркий свет, чем это неприятное ощущение задушенности, как при сильном беге в противогазе.
Потом Серафима вспомнила, что завтра похороны, и опечалилась. Даже и не завтра уже, а сегодня, так как внизу, в Покровке, отпели первые петухи и тонко прогудел рейсовый почтовый водомет из райцентра. Да, сегодня уже, и мало хорошего в том, что на самом исходе лета занудил этот дождь – расквасит землю, затопит релки и мари, раскинется на обе стороны по берегам Амур – и ни рыбы не взять, ни ягоды. Но главное, конечно, похороны. Оно и так на душе муторно, а в такую занудную погоду и подавно. Хорошо хоть копали вовремя управились, а еще лучше, если догадались прикрыть чем-нибудь могилу. Хоть и мертвый человек, а все одно в мокрую могилу не с руки его дожить.
И опять ненароком припомнилась ей война и то, как хоронили товарищей, в воронках, окопах, едва присыпая землей, торопливо, если были патроны, салютуя и не всегда успевая поставить фанерный обелиск со звездой, и тогда над холмиками земли оставалась простая каска или пилотка, и уже те, кто шел за ними следом, не знали, кто здесь похоронен и как смерть от войны принял. И сколько их, таких-то вот могилок, земляных холмиков под пилотками и касками, осталось на земле. И всех приняла земля, и новых людей взамен дала, и кому ведомо, лучше они тех, под холмиками, красивее или же не удались статью, не вызрели душой. Кому это ведомо – никому. Они выросли без войны и, слава богу, научились жить хорошо и от жизни многое требовать, и это не беда, пусть требуют, пусть живут в счастье и радости, потому как на этот век бед и зла и без того достаточно. Только бы не забывали, что это счастье беречь надо, беречь пуще своего глаза и жизни своей, потому как добывалось оно слишком уж дорого, чтобы растерять его за здорово живешь, по лености или тугодумью.
Фронтовиков-то, прав Никита, все меньше остается, рано уходят они, чаще всего и до пенсии не доживают, слишком много сил пришлось им отдать в те четыре года. А кто еще, как не сами фронтовики, могут рассказать о войне всю правду. И такие рассказы никакие фильмы не заменят, никакие книги не осилят, как бы хорошо там все ни писалось и ни показывалось. Только на ее, Серафиминой, памяти сколько случаев таких было. Пусть знают все. И то, как трупы молевым сплавом по рекам шли, и то, как в разведку боем ходили и как прорвавшихся из окружения солдат встречали. Был случай, спрашивает ее Колька Кадочкин, мол, тетя Сима, цветы-то вам дарили на войне или нет? А она вот что-то за всю войну и цветов не припомнит, и бог их знает, были они тогда на земле или нет. А даже и были, то какие же это цветы, если они на крови всходили, если вся земля этой кровью как губка напиталась…
Серафима заворочалась, захотелось ей курить, но она боялась дымом потревожить сон Никиты и перемогла, стерпела это желание и опять прислушалась к дождю, и припомнилось с болью ей, сколько таких-то вот сиротливых ночек пережила она за свою жизнь, одиноко ворочаясь в постели и с грустью думая о том, кого уже давно не было на земле, да и в самой-то землице вряд ли чего осталось. И казалось, затаить бы ей обиду на неудавшуюся свою жизнь, на тех, кто лучше устроился, кто быстрее от войны сумел отойти, от памяти о ней, но нет, не было такой обиды в Серафиме, никогда не приходила она к ней, даже в самые горькие минуты, даже в самые тяжелые часы. Она сама, без принуждений и натуги, выбрала свой удел и сама, без жалоб и сетований, справлялась с ним. Только однажды… Да нет, и однажды не было. Было что-то жалостное, скорее материнское, чем бабье…
Тот мальчик-председатель, тот бывший комсомольский работник, Сергей Иванович Козлов, вдруг начал уж как-то больно сильно заботиться о ней. Придет она домой, а во дворе целая машина дров лежит, напиленных и наколотых, в другой раз кто-то сарайку перекроет, огород вскопает. А однажды и того чище – два кубометра теса завезли, потом из этого леса летнюю кухоньку соорудили, и опять без ее ведома. Она еще и в толк ничего взять не успела, а по селу уже слухи пошли, и Матвей вдруг разом перестал с ней здороваться. Тогда Серафима пошла к председателю. Шла сердитая, готовая наговорить ему черт знает чего, даже из колхоза выйти, но как вошла в кабинет и увидела густой румянец на председательских щеках, его виноватые и покорные глаза, так все разом из головы и выскочило. От его смущения и сама смутилась, так как в деле хваток был молодой председатель, тверд и строг. Спросила его:
– Это вы все?
Он кивнул и стул ей подставлять бросился.
– Зачем?
– Помощь от колхоза, как одинокой фронтовичке. Вы заслужили.
– А люди что думают?..
– Ну что вы! – Он опять покраснел, даже большие уши покраснели, склонился над столом и тихо сказал – Я ведь вам от всего сердца.
– Я знаю, но только больше не надо. – И, уже поднимаясь, неожиданно для себя сказала:
– Заходите в гости, раз интересуетесь моей жизнью. Вот и увидите, что я не хуже остальных живу.
Через два дня он пришел. Вначале смущался и прятал это смущение за напускной строгостью, но она-то видела, и понимала его, и жалела почему-то. А он все приходил и однажды остался, и она как-то разумно и спокойно согласилась с этим. Но когда увидела, что все заходит слишком далеко и что сама уже скучает по нему, если он где задерживается, испугалась. Ночью сказала:
– Сережа, что-то надо делать.
– Что такое? – не понял он.
– Молод ты еще, Сережа. Я против тебя старуха.
– Тебе тридцать лет, Серафима, какая же ты старуха?
– Я не годами старуха, Сережа, а жизнью. Ты не поймешь.
– Нет, отчего же, пойму.
Ей было грустно, что он так легко собирается понять всю ее жизнь, когда она и сама ее толком не понимает.
– Тебе, Сережа, хорошую девушку искать надо. А я баба, я истратилась уже вся до донышка, и ничего такого, что в тебе есть, во мне давно нет.
– Что же делать, Серафима, я без тебя не могу.
– Не знаю. Но что-то делать надо. А врать я не умею, Сережа.
Жизнь, как всегда, распорядилась по своему усмотрению, и Сережа, Сергей Иванович, уехал на пять лет учиться. К тому времени уже оправились колхозы после войны, подросли ребята, да и управлять хозяйством было кому, вот Сергея Ивановича и отпустили на учебу, и хоть клялся и божился он, что непременно вернется – не вернулся. Но письма присылал ей долго, звал к себе, сам грозился приехать – она запретила.
…А дождь все лил, и сквозь эту морось начал проступать мглистый рассвет. Вначале выбелилась из тьмы та стенка, что была напротив окон, потом уже можно было разглядеть потолочные доски и черную тяжелую матицу.
Никита спал без просыпа, видимо, все-таки уработался за день, да и годы не те, как ни бодрись, а все чаще приходит какая-то беспричинная усталость, растекается по телу, вяжет мысли, и в такие минуты начинаешь понимать, что чувствуют люди перед смертью. Вернее, догадываться, потому что понять это не дано человеку ни до, ни после нее.
О чем думалось Матвею? Что вспомнил он? Чужой, а вроде бы и близкий человек, так хорошо понятный ей. Вспомнил ли он свою молодость или последние дни жизни? А может быть, то и другое враз? Вспомнил ли он ее или Варвару Петровну, или их обеих? Кто это может знать? Человек прожил жизнь, и все, что он успел сделать, осталось на земле, а то, что успел узнать от нее, унес с собою. Как ни говори, а свой опыт страданий и счастья на земле никому не передашь и никого им не научишь, каждый должен испить свою, только свою долю, и как это лучше сделать, ни у кого не узнаешь…
В последний раз приходил Матвей с месяц назад. Она его долго не видела и поразилась тому, как он изменился за этот срок. Седой, задыхающийся, с обвисшими усами, сутулый и худой, он долго не мог начать разговор, глотая воздух открытым ртом и хватаясь рукой за грудь. Она испугалась его вида, растерялась и не смогла вовремя все это спрятать, утаить от него. И он, когда отдышался, откашлялся, с вымученной улыбкой спросил:
– Что, Сима, сильно я сменился с лица?
– Похудел, а так-то…
– На скелет смахиваю, – перебил Матвей, – врать-то ты не умеешь и никогда не могла, а теперь уж и не учись.
– Чай будешь пить, Матвей? – спросила она.
– Я ведь проститься к тебе пришел. В этот раз слег, дак все боялся, что не повидаюсь под конец, и шибко худо мне от того было.
– Спешишь, Матвей, – сердце у нее сжалось от спокойной уверенности Матвея в своем конце, – спешишь, а напрасно. Она и без нас знает, когда ей прийти, а ты ее подгоняешь. Зачем?
Но Матвей, наверное, не слышал ее, потому что ровным глуховатым голосом продолжал спокойно говорить:
– Нескладно жизнь-то у меня получилась, Сима, нескладно. Не понял я тебя тогда, ночью, не понял, а потому и ударил. Прости.
– Да господи, – удивилась Серафима, – нашел о чем говорить.
– Отец, покойник, похоже, и то лучше в тебе разобрался. Может быть, потому все так и получилось, что я-то не разобрался. И еще одна моя вина перед тобою – за дочь. Прости, Сима, если можешь. Тяжело мне с таким грехом на тот свет собираться, а ведь сделанного не воротишь. Простишь ли? – С робкой требовательностью он смотрел на нее, и видно было, как пульсирует на руке, ниже большого пальца, маленькая голубая вена.
– Давно уже простила, Матвей.
– Спасибо, Сима… Я ведь старался, Сима, все силы прикладывал, но осилить Варвару не смог – она Ольгу по-своему воспитала. Уже выросла когда, повзрослела, сколько раз просил: сходи к матери, поговори, ведь родная она тебе, исстрадалась. Бросила, говорит, она меня, знать такой матери не хочу. Характером-то в тебя – упрямая, да только упрямство это не туда повернуто… Дай чего попить, Сима, что-то в груди жжет.
– Чаю?
– Давай чаю, только сахар не клади.
– Бог ей судья, Матвей. Она ведь по-своему тоже права.
– Она не по-своему права, а по-Варвариному. Если бы по-своему – можно и смириться.
– Тебе-то легче теперь?
– Легче.
– А то ляг, отдохни. Я диван разберу.
– Дал бы бог, – вздохнул Матвей, переводя дыхание после чая и наваливаясь спиной на стену, – у тебя на руках помереть, а больше ничего не хочу. Все перехотел и все уже отжалел… Я болел, так думал, Сима, от войны-то схоронился, за бронь спрятался, а она меня и дома нашла. Нашла и раздавила, как червя земляного, и поделом. Осип вон пьет, тоже жизни нету, а и он счастливее меня. На праздник, Девятого мая, он вместе с тобой в президиум поднимается, а я в зале сижу.
– Кто-то ведь и здесь должен был остаться, – возразила Серафима, – всем нельзя.
– Должен, – согласился Матвей и прикрыл глаза, – но и здесь надо было по совести оставаться, а я по боязни сидел. Работал, конечно, не хуже других, а фронта боялся. Вот и весь секрет.
– Устал?
– Устал. Пойду сейчас. Я вот еще чего хотел тебе сказать. Ольге-то я напишу или сам скажу, если приведется, она должна последнюю мою волю исполнить. Так ты ей все расскажи, меня не жалей, не надо. То, что я тебе сегодня рассказал, тоже доложи. Не должно так все время быть, не по справедливости… Ну, пойду. Хватится – шуметь будет.
– Поправишься, приходи еще.
– Приду, – он усмехнулся, поднялся с трудом, посмотрел на нее долго и попросил: – Поцелуемся?..
Серафима вышла проводить Матвея и с болью смотрела, как медленно и неловко ковыляет он по тропе, низко опустив голову и широко расставляя слабые ноги…
Серафима не выдержала, потянулась за папиросой в чиркнула спичкой, и тут же Никита проснулся, приподнялся на диване, удивленно посмотрел на нее:
– Не спишь, Сима?
– Не сплю.
– Дождь, что ли?
– Всю ночь поливает.
– А я сон видел. Что-то мои привиделись. Наверное, вспоминают. – Никита зевнул и сладко потянулся, выгнувшись широкой грудью над подушкой. – Я лет пять как на мирные сны перешел, а то все такое снилось, что вскочишь в поту и не знаешь, за что хвататься. Один раз спросонья комод перевернул, окапывался, значит, ну моя Мотря и выдала мне по первое число. А то плакал. Проснусь, а подушка мокрая. Вспоминаю, чего во сне видел, вспомнить не могу. А теперь-то чего не спать, то работу какую во сне делаешь, то ребятишки приснятся. Хорошо.
– Хорошо, – откликнулась Серафима.
Глава четырнадцатая
– Никита, ты ордена не взял?
– Нет, Сима, планки только прицепил. Да и нет их у меня, орденов-то, пацанва моя растаскала.… А чего ты хотела?
– Так ты тогда костюм с планками надень.
– Надену.
– Осип тоже наденет. Я ему говорила.
– А зачем, Сима?
– Похороны сегодня, Никита. Мужа моего хоронят. Он хоть и не воевал, а от войны тоже дай бог вынес, вот мы его по-фронтовому и почтим. Ты уж прости меня, Никита, но сегодня с нами сходишь, а?
– Конечно, Сима, чего я один-то буду делать?
– Отдыхать приехал, в отпуск, а тут…
– Брось, Серафима, – недовольно перебил Никита, – а то ведь у меня и наряд схлопочешь. И вообще, чего это ты со мной как с чужим обходишься, или и правда чужой?
– Ладно, Никита, не буду больше.
Серафима, достав из чемодана военную форму, разложила ее на коленях и глубоко задумалась, не замечая, как чутко и торопливо ощупывают пальцы сукно, проверяют штопки, пуговицы и еще какие-то ей лишь одной известные мелочи.
– Сохранила? – удивился Никита. Он сидел за кухонным столом и направлял утюг, развалив его до последнего болтика.
– Сохранила, – вздохнула Серафима и погладила сукно руками. – Я от войны, Никита, все сохранила.
Задернув легонькую шторку на дверях, она медленно переоделась и долго стояла у комода, перебирая безделушки, которые в разные годы и по разным причинам покупала в магазине, и никак не решалась подойти к зеркалу. Потом взяла гребень, тщательно расчесала все еще густые и черные волосы, собрала их в узел на затылке и, закалывая шпильки, опять задумалась, так и оставшись с поднятыми руками. Никита что-то говорил – она не слышала. С неприятно поразившим ее удивлением Серафима поймала себя на том, что с тоскою думает о войне. Нахмурившись, она решительно подошла к зеркалу на стене и увидела, что помолодела до неприличия. И это опять неприятно удивило ее.
Она села на кровать и закурила. Пилотка лежала на комоде, ее она так и не решилась надеть. Сильно заболело сердце. Память упорно стучалась к ней, и она так же упорно гнала эту память от себя, боясь не осилить, не справиться с ней.
– Сима! – весело окликнул Никита. – Покажись-ка.
И она очнулась, на ходу прихватила пилотку, точным, заученным движением (словно и не было тридцати лет после войны) надела ее чуть набок и на два пальца над бровями. Отдернув шторку, вышла к Никите.
– Симка! – вытаращил тот глаза. – Сгинь, Симка!
Она смутилась и, невольно подтягиваясь, прошла по кухне.
– Вот это фокус, – пристально и удивленно разглядывал Серафиму Никита, – да неужто и я бы так помолодел в форме-то? Ну-ну. Тебя, Сима, впору под венец вести. А ну повернись еще. Н-да. А ремень-то есть?
– Есть.
– Надень-ка.
Серафима перетянулась ремнем и, тоже привычно, расправила под ним гимнастерку, согнала морщины.
– Вот ведь как помолодела, – загрустил вдруг Никита, – тебе форма идет.
– Увидел, – усмехнулась Серафима.
– Так пойдешь?
– Хотела, да не знаю…
– А чего тут знать. Иди так.
– Нет, Никита, гимнастерку я сниму, кофту надену.
– А ордена?
– Перецеплю. Долго ли.
Она ушла в горенку и еще раз глянулась в зеркало и только теперь приметила, что у нее были старые глаза. Форма омолодила только ее фигуру, глаза же ничем нельзя было омолодить, потому что все, что они увидели за пятьдесят с лишним лет, осталось в них. А ведь они видели много страшного, чего человек видеть не должен. И особенно если этот человек – женщина.
Серафима, сразу уставшая и тихая, сняла гимнастерку, подержала ее в руках и принялась отвинчивать ордена и медали. Когда она сделала это, и награды, холодно звякая, с трудом уместились в ее руке, гимнастерка как-то разом осиротела, стала до неузнаваемости серой и обыденной. И Серафима долго с удивлением смотрела на нее…
– Куда, куда прешься, идол? – зашикали, завозмущались старухи на Кольку Кадочкина, который, нарушив порядок, показался в дверях с обитой красным сатином крышкой гроба.
– А чего нести-то? – недовольно нахмурился Колька.
– Венки, как чего, поди, не знаешь?
– Господи, помрешь, и схоронить-то ладом не смогут.
– Ничего к ним не пристает, все как от стенки отскакивает. Хоть бы это уж запомнили.
– А зачем? В городах, слышь, жечь наловчились. Вот им и без разницы.
– Они-то как хотят, а мы христиане, и пусть хоронят нас по-христиански.
– Они схоронят! Еще вперед головушкой выпрут, ума хватит.
Но дальше все шло по правилам, и старухи примолкли, поджимая сухие губы…
Не переставая, с самой ночи, продолжал моросить мелкий, по-осеннему холодный дождь. Он сыпал и сыпал из низких сплошных туч, которые сползли с хребтов и вяло тянулись над Амуром в южную сторону. За этой тоскливой мутью едва проглядывали сопки на левой стороне реки, и все в мире как бы сузилось и потеряло свои размеры и очертания. Земля раскисла и, уже не в силах принимать влагу, покрывалась мелкими лужицами, в которых одиноко плавали первые опавшие листья. По этим лужицам и по листьям, по сырой раскисшей земле медленно продвигались десятка три людей в сторону кладбища, что было расположено у подножия небольшой сопочки и густо поросло кустами боярышника да березами. Ярко рдеющие горьковато-сладкие ягоды боярышника источали крепкий запах, и поэтому, когда люди подошли к кладбищу, вобрали этот запах в себя, многие удивились – откуда, словно раньше никогда и не замечали его.
Все, кто шел сегодня хоронить Матвея Лукьянова, были в чем-то похожи друг на друга: почти у всех были одинаковые плащи, косынки и кепки, и даже старухи в своих черных плюшевых жакетках не нарушали общего впечатления, и лишь один-единственный неожиданно яркий (красный, с голубыми цветочками) зонтик сильно выделялся в толпе. Он медленно и празднично плыл над головами, и на него было как-то странно и тяжело смотреть. Словно бы этот зонт, помимо воли его хозяина, надсмехался над людьми, холодным дождем, далекими сопками и даже над самим покойником. Давно бы не выдержали старухи, укорили хозяина, да шла под этим зонтиком Ольга. И Серафима, чувствуя неловкость и огорчение, мысленно умоляла Ольгу, чтобы та убрала зонт хоть до той поры, пока не опустят Матвея в могилу. Но дочь, как и всегда, не слышала ее.
Едва опустили гроб на землю возле прикрытой досками могилы, как, разбрызгивая грязь, подкатил колхозный «газик», и из него легко выскочил председатель. Был он человек еще довольно молодой, с образованием, а потому начисто лишен деревенских предрассудков. На ходу, цепляясь ногами за корни деревьев, он успел опечалиться лицом и выдернуть из-за пазухи лист бумаги. Председатель не заметил, что на его машину смотрят с удивлением и укором, что и сам он как-то быстро и неуместно появился здесь с еще более неуместной бумажкой в руках, и с ходу, резко осадив себя над гробом, звучным баритоном сказал:
– Разрешите, товарищи…
Председатель уткнулся в бумажку и начал читать:
– Все мы знали Матвея Петровича как добросовестного труженика, всю свою сознательную жизнь отдавшего родному колхозу. Не перечислить всех добрых дел, которые он сделал для нас с вами и которые еще долго будут жить, напоминая нам о скромном и удивительном труженике, выходце из народа… Учитывая заслуги Матвея Петровича, правление колхоза постановило занести имя Матвея Петровича Лукьянова в книгу Почета и посмертно наградить его Почетной грамотой колхоза…
Наверное, он и еще что-то хотел сказать, так как лист бумаги был исписан на машинке с двух сторон, но не нашелся, как продолжить свою речь, и поспешно отступил в сторону.
Началось прощание, и Варвара Петровна, упав коленями в грязь, красивым голосом запричитала. Ее как-то быстро подняли и отвели в сторону. Старухи было сунулись к ней с положенными утешениями, но она строго посмотрела на них и твердо сказала:
– Умирают все.
Изрядно выбитые из ритуального порядка похорон речью председателя, старухи опешили и долго не могли понять, что им делать дальше, потом кто-то из них догадался перекреститься, и замелькали в воздухе тонкие, сухие руки в странно широких рукавах жакетов.
Пошла к покойнику Серафима, следом за нею двинулись Осип и Никита. У самого гроба Серафима словно бы споткнулась, почувствовав на себе чей-то тяжёлый и пристальный взгляд. Она подняла голову и увидела Ольгу, которая в упор смотрела на нее. От этого взгляда Серафима тихонько охнула, обмякла на ногах и уже не помнила, как подходила к гробу, как прошептала: «Прощай же, Матвей, пухом тебе земля» – и как отошла прочь, с трудом унося на себе этот невыносимо тяжелый взгляд.
Гроб подняли на веревках и опустили в могилу, в то последнее место на земле, где должно теперь было лежать Матвею.
Варвара Петровна первой бросила в яму горсть земли. Потом бросили все. И у всех от мокрой земли остались на руках грязные потеки, и все сорвали тут же по клочку желтой кладбищенской травы и ею вытерли руки.
Председатель подошел к Варваре Петровне и, видимо, договорил ей то, что не сумел сказать из-за смущения.
Закапывали долго, в молчании. Земля мокро шлепалась в могилу, прилипая к лопатам, и мужики то и дело колотили ими по молодой березке, и комки грязи тяжело сползали с лопат.
Серафима украдкой следила за Ольгой, которая безучастно стояла под своим ярким зонтиком, изредка переговариваясь о чем-то с Варварой Петровной. Когда шли на кладбище и когда председатель произносил речь, Серафима еще надеялась, что как-нибудь выдастся случай, который поможет ей поговорить с дочерью, познакомить ее с Никитой, рассказать, кто он и почему приехал к ней, и перед Никитой похвастать хоть и получужой, но дочерью ведь. Теперь же она и думать забыла об этом. Серафима не хотела признаться себе, но она почему-то начинала бояться Ольгу, ее пристального холодного взгляда и всегда спокойного выражения лица. Что-то в ней было такое, или мертвое уже, или усталое преждевременно. Но Серафима сдерживала в себе эти мысли, гнала прочь, беспокойно отыскивая оправдание дочери. И вдруг она услышала спокойный, намеренно громкий голос Варвары Петровны:
– Этого допустить нельзя. Ведь не хочешь же ты, чтобы она испортила нам поминки.
– Как знаешь, мама, – спокойно ответила Ольга.
Серафима вздрогнула и прикрыла глаза; вся ее жизнь, со всеми муками и лихом, мгновенно встала перед нею. И вся эта жизнь, прожитая бедно и сурово, была посвящена человеку, который равнодушен к ней. За что? Неужели только за то, что она поступила так, как велела совесть, как велел разум? Неужели только за то, что она ушла защищать землю, по которой бегала на слабеньких еще ножках русоголовая девочка – ее дочь? Неужели только за то, что она всеми мыслимыми силами, всем разумом и материнской любовью, совершенно не сознавая этого, сохранила свою жизнь для той девочки – ее дочери? Как же тогда устроен человек, если это возможно?
Без слез, с широко распахнутыми глазами, Серафима медленно повернулась и побрела с кладбища, не различая земли и неба, и медали под ее плащом тихо звякали, и напоминало это звяканье далекий погребальный звон. Она не видела, как гордо и обиженно поджали губы старухи и молча пошли за ней, и как бросилась останавливать и уговаривать их Варвара Петровна, и как ничего у нее из этого не вышло: старухи молча и упрямо обходили ее, шли дальше, сурово глядя перед собой. Не видела она и того, как тихо и быстро сказал Колька Кадочкин что-то Ольге на ухо, от чего она вмиг покраснела и поперхнулась, и, отшвырнув лопату, пошагал за старухами. Лопату подобрал председатель, неумело повертел ее в руках и передал шоферу, и тот в одиночестве доложил холмик, обровнял его и сверху приложил пластами…
И все еще сыпал дождь на дома, могилы, сопки, на четырёх человек, как-то сиротливо и неуместно стоявших над могилой: Варвару Петровну, Ольгу, председателя и его шофера, симпатичного молодого паренька, через месяц собиравшегося в армию.
В первый раз тяжело и устало поднялась Серафима к себе, вошла в дом, и не успела снять плащ, как чинно и чопорно проследовали по двору старухи, разулись в сенках и в шерстяных носках прошли в дом. Серафима растерялась и не знала, что сказать, а уже следом тащили Никита, Осип и Колька ящик вина, тяжело оскальзываясь на камнях.
– Ну, Серафима, не задерживай, давай-ка вместе поминки готовить, – строго сказала бабка Кадочкина, – вон уже и мужики с водкой подоспели, а у нас еще ничего не готово.
И бабки согласно зашелестели губами, закивали узкими и высокими головами.