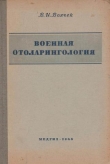Текст книги "Военная"
Автор книги: Вячеслав Сукачев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Глава третья
– Товарищ старший сержант, рядовая Лукьянова прибыла в ваше распоряжение.
Девушка, в длинной шинелишке, аккуратно приткнув пальцы к виску, хотела разом охватить взглядом все: и его, старшего сержанта Боголюбова, и передовую, и расположение батареи, и бегущего по овражку с термосами повара Хамида. И по этому взгляду Никита догадался, что девушка на передовую попала впервые и все ей здесь в диковинку, все кажется великим и геройским.
– В мое распоряжение? – притворно удивился Никита, пристально разглядывая ее. – Вот это дела-а.
– В распоряжение…
Девушка не закончила, так как внимательно прислушивавшиеся батарейцы не выдержали и хохотнули. Подоспевший Хамид удивленно раскрыл рот, и из его рта тонко струился пар.
– И? – спросил Никита.
– Сержант, не томи, дай я ее расположу, – весело крикнул Коля Бочарников, – моя шинелка самая теплая, гагачьим мехом подбита. Дай…
Через два часа Коля Бочарников лежал на своей шинели, в своей крови, а Никита Боголюбов, морщась и чувствуя тошноту, зачем-то присыпал землей оторванную кисть Колиной руки. Земля была уже на изморози, комковатая, и все разваливалась, и бледные пальцы проступали из-под нее, словно ободранные корни.
Девушка бинтовала культю, встав над Бочарниковым на колени. Прядки волос выбились из-под пилотки, и выражение ее лица нельзя было разобрать.
Колю унесли, и еще двое ушли сами, виновато оглядываясь на батарею, невольно спеша и усиленно стараясь не показать этого.
– Страшно? – спросил Никита.
– Что?
– Страшно было?
– Н-нет.
– Ты не ври. Не надо. Мы и сами не каждый день прямой наводкой бьем. А страшно всем, и мне в том числе, потому как человек не для войны родится… Привыкнешь.
– Постараюсь.
– Как звать-то?
– Серафима.
– Сима, значит. Ну, Сима, будем воевать. Не каждый день к нам танки прорываются.
– Не каждый, товарищ старший сержант.
– Давно воюешь?
– С августа.
– Ну и добре, что к нам попала. С нами до Берлина дойдешь, там и замуж выдадим.
– Так я замужем.
– Ну?!
– И дочка у меня уже есть. Три годика.
– А муж?
– Там, – Сима неопределенно махнула рукой, и Никита понял, что дальше расспрашивать не надо.
Лежало перевернутое вверх колесами орудие, на огневой валялись еще теплые гильзы, и сладко щекотало в носу от порохового пара из казенников. Батарейцы зарывались в землю, где-то долго и тревожно бил пулемет.
– Никита?
– А?
– Ты помнишь, как я впервые на батарею пришла?
– Ну еще бы.
– Я тогда из госпиталя сбежала.
– Ты рассказывала.
– Ага, сбежала, Никитушка. А ты предписание не спросил. Потом бой, не до этого было.
Никита пьянел долго, тяжело. Какая-то стынь появилась в его добрых, широко поставленных глазах. Грузные плечи обмякли, опустились, и видно было, что он еще не дошел, а когда дойдет, то бог знает что из этого получится.
– Ты бы хоть рассказал, Никита, как жил все это время, чем занимался?
– Как жил? – Он улыбнулся и посмотрел на Серафиму ласково. – Разно жил, Симушка. Разно. Мы ведь воевали и думали, вот победим, придем домой, и почет нам за победу на всю жизнь будет. Дня три дома гулял, потом в норму начал входить и чую, чего-то в доме не хватает. Ну, все вроде бы на месте, ан нет – какая-то пустота, а какая – в толк не возьму. Тогда я к мамане, так, мол, и так. Она в слезы. Как же, говорит, хватать будет, если коровы нету. Повела она меня в стайку, а там уже и навоз давно простыл. Этим же вечером привел я с колхозной фермы себе коровенку. Ну, не без шума. Гвозданул по лбу сторожа. Пять лет потом на стройках народного хозяйства вламывал, там и женился. Вернулся – маманя долго жить приказала. Ну и подались с жинкой из села. Два года с геологами в Саянах, два года омуля на Байкале ловили, а потом в лес потянуло, на природу, и двинули мы в леспромхоз. Там и осели, детишек нарожали, живем. Ничего. Заработки хорошие, я уже двенадцатый год в бригадирах хожу, жена курсы закончила и десятницей при мне. Живем, Сима, не жалуемся. – Никита помолчал, покатал хлебную крошку на столе и глухо повторил – Не жалуемся.
– Значит, и тебя судьба не больно-то жаловала?
– Да я не о том. Кой хрен жаловать, когда я вот он, жив, руки, ноги целы, голова на плечах. Другим хуже пришлось. А я… – Никита махнул рукой и умолк. Потом взял стакан, посмотрел его на свет и спросил неожиданно – А у тебя звездочка на воротах, как проходили, видел. Почитают?
– Почитают, – усмехнулась Серафима. – И чем дальше, тем почета больше. Раньше, бывало, приедешь в город и уж по выправке через одного фронтовика узнаешь. Потом выправки не стало, и смешались фронтовички со всем людом, а теперь уж и сами вояки в редкость. Еще лет десять пройдет, и остальные отбегаются. И на этом наше поколение кончится. Отвоевали, отжили, ушли.
Никита выпил еще, закусил огурцом, широко вздохнул. Посидел в задумчивости и вдруг грохнул кулаком по столу. Тарелка с огурцами полетела на землю, перевернулась рюмка с водкой и покатилась к краю. Серафима подхватила ее и без всякого удивления поставила на место.
– Прости, Сима, но не могу, – глухо, со скрытым напором, уже пьяно и обиженно заговорил Никита. – Я, может, потому и тебя разыскал, к тебе поехал, что еще годков пять – и не свидимся уже. Ты вот про фронтовиков говорила, которые по городу ходили, а я безногих и безруких вспомнил, которые в колясочках катались. Сразу после войны их много было. Куда они делись, Сима? Умерли от нездоровья? Они от боли утихли, Сима… Я в Новосибирске Петьку Липина встретил. Помнишь, как он говорил? Мол, побьем Гитлера, вернусь домой, женюсь и двадцать пять детей нарожаю, чтобы на каждый год войны их по пять выходило. А тут вижу, катит в колясочке инвалид. Когда узнал меня, расплакался. Кому, говорит, я нужен, уж лучше бы убило… Всех перекрутила война, всех переломала, здоровых и калек, и сегодня еще тешится, тридцать лет прошло, а ей все мало.
Никита скрипнул зубами и потянулся за бутылкой, но на полпути рука его замерла, он виновато посмотрел на Серафиму и словно бы протрезвел на мгновение, так по– человечески тепло и удивленно сказал:
– А ведь не все плохо-то, а, Сима? Дети растут.
– Повырастали уже, – мягко ответила Серафима, – наши выросли.
– Много ты куришь, Серафима. Не бросала?
– Нет, Никита, не бросала.
– Кашляешь?
– Кашляю.
– Бросила бы.
– Теперь поздно.
Разговор сменился быстро, как это бывает за выпивкой, и Никита уже вскоре рассказывал Серафиме о своих ребятишках, звал в гости, добродушно улыбался, и лишь правое веко пульсировало безостановочно.
Когда солнце коснулось вершины хребта, на тропинке к дому показался Осип.
– Явился, не запылился, – усмехнулась Серафима.
Осип молча достал поллитровку вина и молча поставил на стол. Две орденские планки сияли на его груди.
– Зачем принес-то, у нас и так хватает.
– Пусть будет, – коротко сказал Осип и протянул руку Никите: – Осип Степанович Пивоваров.
– Никита Боголюбов.
– За знакомство…
Уже поздним вечером вынесла Серафима гармонь, и пока Осип настраивался, нервно и быстро пробегая худыми пальцами по клавишам, побежала в село. Долго дозванивалась до райцентра, потом в больницу, когда дозвонилась, ей сказали, что Матвей Петрович Лукьянов скончался два часа назад.
Глава четвертая
– Сима!
– Ну?
– Задержись на минутку.
– С чего бы это?
– Поговорить надо.
– Интересуюсь, о чем?
Матвей попытался обнять ее, но она сильно, с неожиданной яростью, оттолкнула его.
– Ты говорить говори, а руки не распускай.
– Не буду.
– Так что скажешь-то?
– Выходи за меня…
Матвей был старше ее одним годом. Невысокий, плотный, с белесыми ресницами и толстыми губами, он в красавчиках не ходил. Но было у Матвея одно преимущество– упрямство. Уж и гоняла она его, и высмеивала как угодно, а он все одно ходил за нею неотступно, терпеливо дожидаясь своего часа. И она уступила.
Свадьбу сыграли шумную, напоказ, вот, мол, мы какие, ничего нам не жаль. В первый же вечер Матвей перепился и спал на коврике у кровати. Она смотрела на его потное и жалкое во сне лицо и не спала. Утром Матвей полез к ней на кровать. Она, сонная, толкнула его, и Матвей обиделся, отвернулся, и целую неделю еще они спали поврозь.
Жизнь их налаживалась хоть и не без труда, но прочно. Поставили свой дом, справили новоселье, пора было и рожать. И она родила девочку. Олю.
– Не мог постараться, – ворчал на сына Петр Гордеевич.
Матвей смущался и уходил на улицу, а она говорила свекру:
– Сына на войну возьмут, да и убьют там, а дочь дома останется и жива будет.
– Тьфу на тебя, дура, чего каркаешь, – беленился свекор, – или у тебя одной дети?
– Тогда Оленьку не трогайте. Родилась и пусть живет.
– Ты че это, девка, – пугался свекор, крепкий и веселый старик, – ты че, белены объелась или так, тронулась умом? Да кто твою Ольку трогает?
– Сами же и говорите.
– Да мало что я говорю, ты слушай больше. Положено так, вот и говорю.
Свекор уходил, и она слышала, как он сердито выговаривал сыну:
– Олух царя небесного, и за себя-то вступиться не можешь, все на нее сваливаешь.
Серафима родилась и выросла на берегу Охотского моря, куда ее предки пришли еще на кочах осваивать суровые и дикие окраины России. Ее отец был рыбак-промысловик, старатель, плотник, лоцман, смолокур и пьяница. Грустно это признавать, но многие таланты русские сгубили себя на вине, и в чем тут причина – трудно сказать. Идет ли это от просторов наших или от просторов души, от желания забыться или вспомнить все, но пили даровитые люди много, бесшабашно, словно торопились сжечь себя зачем-то. Леонтий Маркелович – отец Серафимы – пил и буянил часто. Стоило по приморской деревушке прокатиться слуху, что Леонтий Охлопков пьян, как все мужики спешили по домам, затворяли запоры, и тогда Леонтий шел на пристань, где отстаивались китобои. Те промысловики, что уже его знали, убирали трап, и на этом дело заканчивалось, а другие долго и остервенело, большим количеством, подминали Леонтия, били, вязали по рукам и ногам и выбрасывали на берег. Всего этого Серафима долго не знала, так как домой отец приходил тише воды ниже травы. Даже окрика или громкого слова не слышала она от него. Зато мать, маленькая и щуплая, поднимала шум на весь дом. И отец, смущенный, растерянный, старался твердо стоять на ногах, просил:
– Даша, Дашенька, ну не ругайся, не надо. Не буду больше, вот истинный крест – не буду.
Но водку отец почитал больше истинного креста.
В десять лет Серафима научилась грести веслами и бить белку. Отец часто и охотно брал ее с собой и всем говорил, что научит Серафиму лупить своего мужика, чтобы самой битой не остаться.
Но только научить ее чему-нибудь он так и не успел – повел котиковых бойцов к Командорам и больше не вернулся. А через год странно и нелепо погибла мать – пекла хлеб и угорела в собственной избе. Тогда-то и забрала ее в Покровку дальняя материна родственница.
Серафима смерть родителей переживала тяжело, долго и болела, и почему-то ненавидела людей. Не отдавая себе отчета, она винила их в своем несчастье, и больше всех дальнюю родственницу, бабку Матрену. И долго потом стыдилась Серафима, как только вспоминала ее доброе, широкое и морщинистое лицо.
Однако годы и молодость взяли свое – боль отступила, горечь прошла, и осталась только память о великой доброте людской, которая ничему не обязывает и не обременяет, а просто существует на земле, как существуют воздух и вода. И эта память исподволь научила ее и самой быть доброй, щедрой на привет к людям, отзывчивой на их доброту. Так-то в миру все и ведется: ты к людям с шилом – и они рылом, ты с пирогом – и они лицом.
А уже пришли новые времена, и новые песни пелись над Амуром. Были они задорные, вызывающие. Человек, он, как малость оклемался, в себя пришел, и рад-радехонек, что есть он на земле, и сама земля есть, и воздух над нею чист, и птицы певучи, да солнце ласково. А схлынет первая радость, человек уже и задумается, засомневается, и смысл для себя какой-то в жизни ищет, и сам себя в этой жизни познать хочет. Любопытное существо. Талантливое и печальное. Печаль – она от леса, от той поры, когда жег человек первый костер посередке земли и со страхом смотрел на деревья, туго и впервые размышляя: а не вернуться ли туда опять? Может быть, и вернулся бы, да уже хвост отстал, цепляться за ветки нечем, вот он, человек, и ударился в талант: что ни шаг – выдумка. Так вот до наших дней и дошел. Одна беда, талантливость человеческая разно проявляться стала, а не случись этого, с чего бы человеку печалиться.
Серафима улыбалась жизни, как могут улыбаться ей только очень добрые и очень молодые люди. Семнадцати лет она поехала строить Комсомольск, потому что многие тогда потянулись из села на большие новостройки, и она не осталась в стороне. Жизнь в молодом городе была бурной и интересной. Днем она штукатурила дома, а вечером ходила на курсы медицинских сестер. Ей нравился труд сам по себе, нравилось ощущение усталости, сознание силы своей и возможности быть полезной тому обществу, среди которого она выросла и воспитывалась.
Когда тихо и достойно скончалась бабка Матрена, завершив свой многолетний путь по земле, Серафима уже знала, что этого не избежать и жить вечно невозможно.
И следом шла новая мысль – кто-то должен на земле заменить бабку Матрену, иначе земля очень скоро может опустеть. И поэтому она вернулась в село, получив специальность штукатура-маляра и удостоверение младшей медицинской сестры.
Матвей никогда не был ей дорог так, как может быть дорог самый близкий человек. Но он был отцом ее дочери, и она старательно и упрямо пыталась делить свою любовь поровну. Впрочем, очень скоро она поняла всю беспредельность того пространства, которое отделяет притворство от правды. Нельзя, невозможно любить землю и не ненавидеть зло. Самое странное тут в том, что не ты идешь к земле, а она сама стремится к тебе, со всем своим простором, певучестью и теплом. И ты не в силах устоять, как бы черств и жесток ни был душой. Вот и она пыталась угнаться за любовью, ухватить ее, притянуть к себе, пока не поняла, что любовь – пава с характером и приходит она только по своему желанию. Казалось бы, тут и точка семье Серафимы, предел, ибо жить с нелюбимым человеком – что может быть хуже такого наказания? Но русская женщина издревле славится добротой, и доброта эта, может статься, ничего, кроме бед, не дает ей, но отними доброту от нее – и лишится земля, может быть, самого безалаберного и самого прекрасного детища своего. И Серафима, нисколько не тяготясь и не ставя себе это в заслугу, искренне и безропотно несла свой нелегкий бабий крест до той поры, пока не пришла привычка.
И вот замышляет человек свою жизнь, прикидывает, стремится наперед угадать, и кажется ему, что теперь вот уже все известно и, слава богу, вроде бы неплохо должно это все сложиться, а в это же время совершенно обалдевший от неожиданной фортуны человек, ловко оболванивший в общем-то неглупый народ, кричит с трибуны: «Нах остен!»
Стихийное бедствие – всегда неожиданность: дома горят ночью, реки разливаются в солнечную погоду. Но была и остается самой неожиданной на земле – война! Как бы ни готовил человек себя к ней, как бы ни вооружался, он до последней минуты не верит тому, что она возможна, ибо война противна человеку.
С первых же дней потянулись из Покровки мужики на фронт. Но ушли не все, некоторых оставили на брони, и среди них Матвея, как бригадира рыболовецкой бригады.
Ночью Серафима спросила мужа:
– Матвей, а ты и в самом деле на фронт не пойдешь?
– Дак оставляют, чего же идти, – ответил Матвей.
– Шел бы, – ласково попросила Серафима. – А я уж тут умру, но за двоих управлюсь.
Матвей заворочался в постели, засопел, потом сердито пробурчал:
– Не твоего это ума дело. Спи лучше! Там знают, кого отправлять, а кого здесь придержать. Или ты от меня решила избавиться?
Серафима не ответила, чувствуя, как что-то тугое и жаркое зарождается в груди.
– Другим бабам-то в радость, – обиженно говорил Матвей, – а ты, бесстыжая, и скрыть-то своей нелюбви не можешь.
– Тогда я пойду, – спокойно сказала Серафима.
– Что? – Матвей приподнялся на локте. – Ты че буровишь-то, дура полоумная?
– Кому-то ведь надо идти, – вздохнула Серафима, – из каждой семьи должен быть солдат. Иначе мы его не одолеем. – Подумала малость и решительно добавила – Тут вот и повестку мне, как младшему медперсоналу, доставили, так что…
– Да я, – вскочил Матвей, – я тебе ноги повыдираю и спички вставлю, только сунься попробуй в военкомат. Вояка нашлась… Я тебе покажу повестку, а ребенок у тебя? Ее-то куда? В Амур или в приют прикажешь сдать? Или на меня надеешься – не надейся! Я в няньках ходить не собираюсь…
– Иди тогда ты!
Матвей коротко и сильно ударил ее в лицо. Свекор завозился, кашлянул, потом медленно и спокойно сказал:
– Еще раз стукнешь ее, как собаку удавлю и шкуру сдавать не буду.
Глава пятая
– Подожди, подожди, – Никита тяжело опустил руку на стол, – ты как думаешь, почему мы войну выиграли, почему мы, а не они? Вот как ты на этот счет думаешь?
– Надо было, вот и выиграли, – щупленький Осип в этот раз был на удивление трезв и сосредоточен: Серафима давно уже не помнила его таким и тихо удивлялась. – Народ захотел победить и победил, чего уж тут хитрого?
– А ты думаешь, фашисты не хотели победить? – Никита, кажется, был доволен ответом Осипа и, благодушно улыбаясь, гнул в разговоре какую-то свою линию. – Им, может быть, эта победа в сто раз нужнее была, а они вот взяли и проиграли нам войну. Почему?
– Ну, командующие у них, наверное, были похуже наших, – неуверенно ответил Осип, – да и сам немец потрусливее русака.
– Стоп! Никита поднял руку. – Стоп, Осип. Это ерунда. Немец завсегда хорошим воином почитался, иначе бы он под Москву не закатился. Иначе бы нам грош цена, что так далеко допустили.
Серафима, до этого почти не обращавшая внимания на их разговор, теперь насторожилась и прислушалась. Вернувшись из села, она ничего мужикам говорить не стала, чтобы не испортить им вечера, и одиноко переживала случившееся, как умеют переживать только много выстрадавшие и одинокие люди. Горя она не ощущала, нет, ибо давно привыкла к смерти, да и не тем человеком был для нее Матвей, чтобы удариться в безутешное бабье горе, скорее печаль какая-то подступила к ней, так как вместе с Матвеем ушел из жизни большой и грустный период ее судьбы. И Серафима прислушивалась к себе, к своим ощущениям и чувствам, тайно удивляясь покою, который снизошел вдруг к ней.
– Тогда почему же? – начал сердиться Осип, не понимая, куда гнет Никита и что он вообще хочет от этого разговора. А Никита, видимо, только и дожидался такого вопроса, и обрадованно хмыкнул ему, и значительно помолчал, прежде чем начать ответ.
– Из-за дисциплины, – сказал Никита и торжественно посмотрел вначале на Осипа, а потом на Серафиму. – Да, Осип, из-за дисциплины.
– Как это? – Осип нахмурился, усиленно соображая, и даже потряс головой на длинной худой шее.
– А очень просто. Ты видел, как ходит немец в наступление?
– Ну?
– Вот видел, а ничего не понял.
– Да я…
– Подожди, – решительно перебил Никита, – дай до конца скатать. Ты думаешь, я сразу сообразил? Хрена лысого. Я, может быть, тридцать лет над этим голову ломал, прежде чем самостоятельно додуматься смог. Так вот, как наступает немец? Дали ему задание взять деревню Н. Я к примеру говорю, дали ему такое задание, и он пошел. Пошел через поле брать деревню Н. А слева наша огневая точка. Сидят двое хлопчиков, хорошо замаскировались и ждут своего часа, когда в дело вступать надо. Ну, как полагается, провели артподготовку, пробили по квадратам и так просто пробили, на всякий случай, и поперли фашисты. Идут уверенно, смело – назад не поворотишь. И вот попадают они под прострел наших хлопчиков. Та-та-та, поливают хлопчики, а немец прет, у него задача: взять деревню Н. Выбили хлопчики роту, немец вторую шлет, кончилась вторая, немец резерв подтягивает, опять артиллерией обстреливает и опять идет. А хлопчики строчат да бога молят, чтобы прямым не накрыло. Ну, наконец, прорвался немец в деревню Н, потери большие понес, но приказ выполнил. А что в деревне? Три пустые хаты да одичавшая кошка. Наши-то давно отошли и на более выгодные позиции встали. Что немец выиграл? – ничего. Задачу он осилил, правильно, но сколько боевых единиц потерял и для чего – чтобы тоскливую от голода кошку увидеть? Теперь слушай сюда. Как эту самую деревню Н. будет брать Иван? Получили Иваны приказ, артобстрел провели – и вперед. Иваны знают, что первым задачу поставил командующий армией, потом командиры корпуса, дивизии… и так до командира роты, до взводного – и пошли. Иваны знают, что задачу надо выполнить во что бы то ни стало, что за этим выполнением следит грозное начальство и свои маневры планирует. Вот и пошли Иваны. Прошли половину поля – мать твою так – с левого фланга пулемет ударил. Идти дальше – верная смерть, и плюхнулись Иваны на землицу-матушку. А как только плюхнулись, тут же и окапываться давай. Ведь он, фашист проклятый, знай строчит из пулемета. Окопались Иваны, брустверочки из земли насыпали, очухались и давай из-за этих брустверочков потихоньку выглядывать.
Серафима и Осип улыбнулись. Осип заерзал на скамейке, хотел что-то сказать, но Никита строго поднял толстый короткий палец, требуя внимания.
– Выглядывают, значит, они и соображают, как бы немца перехитрить да задачу выполнить. А в это время связной из роты, в чем дело, мать-перемать, почему задачу не выполняете? Успеется, говорят Иваны, и дальше осматриваются. Опять связной пришлепал – результаты запрашивают. Да взяли уже мы эту Н., так и скажи, передают Иваны. Связной видит, что не взяли еще, однако докладывает, видит это и ротный, но тоже докладывает, взяли, мол, чего беспокоитесь. А Иваны лежат, однако знают, что сообщение пошло и через несколько часов могут двинуть сюда силы прорыва, и если к тому времени деревню Н. не взять – быть беде. Конечно, можно будет сказать, что деревню отбили немцы, что их там несметное количество, но это уже шиш, хреновина на постном масле, так до Берлина не дойдешь, и Иваны ищут выход.
Никита умолк, значительно и строго глядя на Осипа, перевел взгляд на Серафиму и откашлялся.
– Ну а дальше-то как? – заинтересованно спросил Осип.
– Дальше как? – Никита прищурился и сплюнул между ног. – Дальше так. Смотрит один из Иванов, а по полю межа идет, да так она ловко идет, что под пулеметным прострелом мертвой зоной получается. Набрал Иван полный рот воздуха и дунул в ту межу – только ошметки из-под сапог летят. Залег и опять же осматривается, а как осмотрелся, так и попер по-пластунски. Смотрят Иваны – проскочил, и следом посочились. Всыпались в деревеньку, а там та же кошка мяукает, дали ей сухарика, русская же кошка, наша, при немцах, можно сказать, в подполье обитала, и дальше соображают – как огневую точку подавить. Но тут уже ерунда, подробности – с тыла, да с гранатою, кто того дела не справит? Заняли деревеньку Н., потери – ноль. Дисциплину нарушили? Так какая в том беда, если это нарушение только на пользу пошло. А вот немец, он не нарушит, не та нация. Ему любой ефрейтор может за это челюсть набок свернуть, и он того ефрейтора пуще нашего пулемета боится. Вот и прет на верную смерть.
Помолчали. Осип спросил:
– Дак что, каждый раз межа, что ли?
– Ну не межа, так овражек, не овражек – еще что-нибудь, – задумчиво ответил Никита, – разве дело в этом. Вся хитрость в солдате. Начальство планирует, размышляет, хитрые операции придумывает, а выполняет-то все это солдат. Он без начальства – ничего, но начальство без него– дважды ничто. Солдат воюет, и ему на месте виднее, как в том или другом случае поступить. А немец этого не учел и проиграл нам.
Уже тихие сумерки опустились над Амуром, и внизу, в Покровке, во многих домах загорелись огоньки. Где-то лениво, басом брехала собака. Прошел лесовоз, тяжело груженный елью, слепо тыкались в сумерки его включенные подфарники. Серафима устала за день, от выпитого легонько кружилась голова, но она знала, что сна долго не будет и ночь к утру покажется длиннее жизни.
– А я вот под конец войны в шпионы угодил, – вяло, бесцветно сказал Осип, потянулся за рюмкой, разом выплеснул водку в себя и закашлялся. Никита несколько раз хлопнул его по спине. – Брось, – откашлялся Осип и вымученно улыбнулся, – это не от того, этот кашель хлопками не выбьешь. Серафима, а ты чего молчишь-то сегодня?
– Вас слушаю.
– Вот всегда так, – словно бы пожаловался Никите Осип, – молчит. Курит одну за другой и помалкивает, ровно ей и сказать нечего.
– А чего говорить-то? – вздохнула Серафима. – На свете много говорено и без моего.
– Так вот, в шпионы я попал. – Осип выжидающе посмотрел на Никиту, а потом вдруг изумленно возмутился – Четыре года провоевал – и шпион. Ах, дышло тебе поперек горла, тьфу! – Осип опять закашлялся, и Никита с жалостью смотрел на него. – В разведку нас послали, троих… А немец на прорыв пошел. Двоих-то и уложило, а я в овражке схоронился… Через два дня немца отбили, я к своим, едва живехонек добрался, а меня – под конвой. Почему, говорят, один вернулся? Дак убило двоих-то, отвечаю… А почему ты живой? Дак бог милостив, спасся на этот раз, повезло, значит… Ну а почему немец на прорыв пошел, когда мы резервы на другой фронт бросили? Дак это вы его спросите, говорю им. А мы тебя спрашиваем, потому как ты в это время на той стороне линии фронта был и странным образом в живых остался. Вот так и пошло-поехало. Домой вернулся в пятьдесят четвертом – мне руки не подают. Спасибо вот Серафиме, оборонила. Себе беды нажила, но выручила, а так бы – каюк.
– Какая уж там беда, – отмахнулась Серафима, – да я не я одна, а Мотька Лукина, а Иван Новосельцев? Или забыл уже?
– Так они уже после тебя, – возразил Осип, – как ты меня в дом пустила да добрым словом согрела. Тогда уж и не только они, многие мнение переменили. А сразу– то… То-то же. Матвей первым кричал, что изменникам Родины в селе делать нечего, а уж Варька Рындина и рада была стараться.
– Ладно, Осип, будет старое поминать-то, – встала из– за стола Серафима, – или больше говорить не о чем? Давайте лучше почаевничаем, да Никите и отдохнуть с дороги пора.
– Да я ничего, – начал было Никита, но Серафима строго заметила:
– Пора, Никитушка. Не те годы уже, чтобы сон не соблюдать.
– Не те, – согласился Никита.
Чай пили в молчании и уже при звездах. Каждый думал о своем и о всех вместе.
– Пойду, – поднялся Осип.
– Иди, – не стала удерживать Серафима.
– Ты гостя-то дома не держи, – посоветовал Осип, – пусть наши места посмотрит.
– Посмотрит. Ты бы мотор наладил да на рыбалку с ним съездил, а то ведь и сам уже позабыл, какой он, простор-то наш.
– Налажу, – пообещал Осип, – завтра же и налажу. Там делов на два часа.
– Ну и славно. А теперь ступай, на стол не косись, больше ничего не будет. Ступай.
И Осип покорно пошел по тропинке между светлыми проемами стволов.
Серафима быстро убрала посуду, постелила гостю, задернула занавески на окнах и сказала Никите:
– Ну, Боголюбушко, спасибо тебе на веки вечные, что навестил. Уж и не знаю, как благодарить тебя.
– Ну что ты, Сима, – смутился Никита, – чего там.
– Спи, Никитушка, мы еще с тобой наговоримся. – Сухими губами она поцеловала его в щеку и ласково повторила – Спи.
Сама же она вышла из дома и направилась на утес, откуда далеко окрест просматривались днем приамурские дали, а по ночам отражались звезды в реке, и казалось что плывет утес в какие-то неведомые края, мягко покачиваясь на мелкой волне.
Ночь была светлая и теплая. Наверное, одна из последних теплых ночей. Серафима села на круглый гладкий камень, оправила юбку на коленях и закурила. Огонек папиросы тихо мерцал в ее руке, а высоко в небе, круглобоко и ярко, катился в пространство желтый шар…