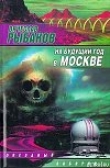Текст книги "Кндр против ссср"
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Вячеслав Рыбаков
КНДР[1]1
Куча Независимых Деревень России.
[Закрыть] ПРОТИВ СССР[2]2
Союз Советских Социалистических Республик.
[Закрыть]
Впервые опубликовано (с сокращениями): «Нева», 1994, № 10
В последнее время модно стало говорить, что история учит лишь тому, что ничему не учит. Этот тезис очень на руку тем, кто и не хочет ничему учиться; они его и повторяют чаще других, лицемерно сокрушаясь по поводу его несокрушимости. Похоже, он на руку и сонмищам президентов, в одночасье, как зубы дракона, взошедших и заколосившихся на российской земле. Каждому из них мстится, что он принципиально умнее и хитрее всех своих предшественников, и поэтому, делая, в сущности, то же, что и они, добьется принципиально иных результатов. Практика показывает, что таки нет.
Национальную – а вернее, многонациональную катастрофу, постигшую нашу страну в девяносто первом году, в некоторых кругах принято именовать «распадом последней империи». Подразумевается, что слово «империя» есть ругательство; тогда слово «распад» автоматически приобретает благостный характер. Язык вообще очень хитрая штука. Охотно верю, что для мусульманина слово «неверный», по-русски весьма отвлеченное и выспреннее, звучит с такой же предметной отвратительностью, как для нас, например, слово «падаль» или «гнида». И как тогда, скажите, оставаясь в рамках языка, продолжая говорить на нем, научить веротерпимости? «Нужно уважать падаль»? «Гниды тоже люди»? Легко представить реакцию публики на подобные призывы. То же и тут. Распад плохого – всегда хорошо. Но если отрешиться от догм, унаследованных демократической общественностью прямо от столь справедливо порицаемого ею «Краткого курса истории ВКП(б)» (Российская империя есть тюрьма народов), и попытаться, поразмыслив, слущить собственные эмоции с явления, можно увидеть, что в конце XX века империя – это всего лишь многонациональное государство, с большей или меньшей степенью жесткости управляемое из одного наднационального центра. В отличие от государств столь же или даже более централизованных, но относительно мононациональных – назовем их, чтобы подобрать термину «империя» столь же современно звучащий антоним, «королевствами». Но тогда и оплот Свободного Мира, Североамериканскиее Штаты, вполне тянут на империю. И уж, во всяком случае, живут и здравствуют – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! – такие явные империи, как Бразилия, Индия и, тем более, Китай.
Чем же империя хуже королевства? Политиканы и там, и там одним миром мазаны. И там, и там примерно одинаковый процент людей обожает армию и армейские порядки. Можно, правда, провести деление по иному принципу: в империи на порядок больше, чем в королевстве, нарушаются права нацменьшинств. Но тогда нам придется признать, что гибель Союза в одной только Балтии привела к образованию целых трех о-очень кошмарных империй. И словно специально для того, чтобы никто уже не мог сомневаться на их счет, некоторые даже проявляют классическую, буквально по «Империализму как высшей стадии», тягу к территориальной экспансии. А сопровождавшаяся геноцидом с обеих сторон грузино-абхазская империалистическая война за обладание приносящими миллиардные прибыли курортами? И вот нечестная игра сразу кончается, все встает на свои места. Распад он и есть распад; корень тот же, что и в слове «падаль».
Когда я начинал заниматься средневековой китайской бюрократией, в глубине души я лелеял надежду отыскать в тогдашнем административном праве, регулировавшем деятельность чиновничества, некий секрет, который смог бы затем на блюдечке поднести Отечеству и тем помочь ему сделать более дееспособным чиновничество собственное. Я уже тогда, в конце семидесятых, как и многие, понимал, что живу в бюрократической державе. Но уже тогда видел, что, скажем, в Китае бюрократия была способна обеспечить стабильность общества на протяжении полутора-двух веков (потом, хоть тресни, коррупция все проедала, и происходили неизбежные, циклически повторяющиеся срывы), а у нас речь идет о гораздо более коротких периодах. Фактически они ограничиваются сроком функционирования одного поколения, и при каждой перепасовке власти от предыдущего поколения к последующему происходит судорога. Скорая неизбежность очередной перепасовки была очевидной, и вероятность новой судороги была более чем велика. Опасения, как мы теперь видим, полностью оправдались.
Скоро я понял, что никакого чисто административного секрета нет. Разумеется, уголовное право предусматривало мелочную, до дикости, с нашей точки зрения, дотошную регламентацию административного функционирования – что и давало многим мыслителям всласть поговорить о поголовном рабстве на Востоке. Ну хотя бы: каждые двадцать минут в учреждениях должны были проводиться проверки наличия служащих на своих местах. Кого не заставали, тот подлежал наказанию двадцатью ударами палок; кого не заставали дважды – сорока ударами и так далее. Или иное, относящееся уже не к производственной дисциплине, а к общественной морали: чиновник, зачавший ребенка в период траура по кому-либо из родителей – а длился подобный траур чуть не три года, – подлежал увольнению как растленный тип. И пусть зачатие произошло в законном браке – не в этом дело! Нельзя устраивать себе такую радость, когда надлежит исключительно печалиться… Эти примеры, подчас столь же гротескные с нашей точки зрения, можно множить и множить. Но суть-то была отнюдь не в строгих наказаниях за малейшие отклонения от должного поведения.
Единственная китайская династия, Цинь она называлась, которая попыталась управлять страной исключительно при помощи раздаваемых центром кнутов и пряников, не продержалась и сорока лет; ее просто смело. Не помогли ни колоссальная, лучшая в том регионе армия, ни казни типа варки в малом котле, варки в большом котле и так далее. То было время – аж за два века до Рождества Христова, – когда государственные деятели Поднебесной впервые поняли, что можно не просто соблюдать сложившиеся нормы поведения и карать за отступления от них, но придумывать, конструировать удобные для государства законы и с их помощью конструировать общество, вдавливая эти законы в жизнь наградами за их соблюдение и наказаниями за их нарушения. Открытие было ошеломляющим. Завораживающим. Казалось, теперь с людьми можно вытворять, что угодно, можно управлять ими, как марионетками.
Оказалось – нет.
Буде закон идет вразрез с человеческой природой – скажем, перемещаться дозволено исключительно прыгая на одной ноге (благородное оправдательное объяснение человек для любого маразма может подобрать, на то и мозги в бестолковке. Скажем, в целях увеличения пропускной способности дорог и тропок и наиболее рационального использования жилплощади), то, даже если выплачивать всем прыгающим изрядный пенсион, а ослушникам усекать грешную ногу, общество развалится. Сначала люди начнут притворяться, что прыгают, и ходить нормально, когда никто не видит. Таким образом, все окажутся формальными преступниками и будут ощущать себя преступниками. Тогда вздыбится вал коррупции. Я, сержант Чун, вчера видел тебя, любезный, на двух ногах. Плати. Или: не хочешь за меня дочку отдать? А если я сообщу куда следует, что ты в сортире сидишь на корточках – то есть на двух ногах? То-то. А приданого побольше! Все стимулы встанут с ног на голову. Государственные награды и наказания будут бить мимо цели, доставаться не тем, для кого придумывались. А искренней любовью народной начнут пользоваться исключительно одноногие – неважно, кто из них подонок, кто праведник, лишь бы нога была одна. И лишь потом, когда все попытки людей приспособиться к нелепице по-хорошему, без революции, приведут к полному бардаку и бардак осточертеет всем, тогда грянет взрыв. И слово «закон» еще долго будет бранным, а слово «власть» надолго станет синонимом слову «топор». И награда, даже честно заслуженная, еще долго будет восприниматься, как расстегнутая ширинка или блевотина на манишке. И наказание, даже вполне правомерное, еще долго будет восприниматься, как нимб святого.
Не правда ли, знакомая механика? Только у нас вместо прыгания на одной ноге была любовь к Партии. А скоро, возможно, будет любовь к демократии. Или желание покупать акции МММ. Или что-нибудь еще, столь же естественное и насущное. Или опять любовь к какой-нибудь партии. Какая в сущности, разница…
Опыт многому научил тогдашних китайских теоретиков. К шестисотым годам нашей эры они уже прекрасно понимали, что сами по себе карательные и даже поощрительные санкции государства мало что решают. Идеальным состоянием общества – недостижимым, разумеется, как и всякий идеал, – было ими объявлено состояние, когда «наказания установлены, но не применяются». Потому что их незачем применять, не к кому применять. Преступников нет.
Да как же такое может быть?
А вот как.
Правильное, надлежащее поведение для человека и для общества столь же естественно, как и любой спонтанно протекающий природный процесс. Как, скажем, рост картошки. Вовремя вылезает на свет ботва, вовремя, с нормальным количеством лепестков, распускается цвет, вовремя вызревают клубни. И, главное, безо всякого вреда для соседей. И ей хорошо, и остальным хорошо. Разумеется, если какая-то дура-мутантка вздумала цвести в октябре, оставить это так просто нельзя. Вдруг других заразит. Цветочки мы ей оборвем, чтобы знала на будущее, чтобы потомства не было. А ежели сия тварь ухитрилась пару десятков соседок подговорить к столь же противоестественному акту, тогда что? Правильно, усекновение клубней, равно как сожжение ботвы.
Что же это такое – правильное, естественное поведение, не требующее понукания свыше, не ориентированное на подачки со стороны компетентных органов и вовсе не имеющее среди своих стимулов страх уголовного наказания? Да то, которое освящено устоявшейся моралью, вековой традицией, впитавшейся в плоть и кровь так, что человек, следуя ей, ощущает удовлетворение, ощущает себя хорошим, гордится собой, а нарушая – испытывает угрызения совести, даже если нарушения никто не видел.
Строго говоря, у общества есть лишь два основных стимула самоорганизации, поддержания единства и порядка – страх человека перед наказанием и желание человека оставаться хорошим. Первое связано с нарочно придумываемыми законами, второе – с естественно сложившейся культурной традицией, потому что «плохо» и «хорошо» зачастую суть понятия специфические для данной культуры. Если исчезает стремление быть традиционно хорошим, остается лишь стремление не быть наказанным. Вот почему все государства, ломающие традицию, волей-неволей делаются тоталитарными: кроме как на страх наказания, им не на что опереться, упорядочивая повседневную жизнь народа.
Поэтому так опасно сталкивать лбами мораль и закон.
Неизбежное в этой ситуации разрушение морали дает себя знать еще долго после того, как право возвращается к разумному состоянию. Почетным-то, престижным-то уже стало не твердое соблюдение, а умелое нарушение закона, ловкое увиливание от него. За правовую атаку на мораль, произведенную в III веке до нашей эры, Китаю пришлось затем платить возведением любого аморального или хотя бы малоприглядного поступка в ранг уголовного преступления. Попытавшись было сурово наказывать за сокрытие, скажем, совершенного братом преступления, там начали, усмотрев в подобном подходе явную опасность для семейных связей, наоборот, наказывать столь же сурово за сообщение властям о таком преступлении. По суду наказывались, например, брань в адрес родителей или случайное разрушение чьих-либо могил…
Сетка моральных приоритетов регламентирует поведение людей куда более мелочно и дотошно, нежели самый изощренный уголовный кодекс. Но она не обладает присущей праву однозначностью. Более того, для человечества она отнюдь не едина: наряду с интегральными позициями в ней есть масса позиций, специфических для данной культуры. Скажем, оказавшись с семьей в тонущей лодке, добродетельный европеец первым делом, скорее всего, будет спасать своего ребенка, потому что дети – цветы жизни, потому что ребенок беспомощнее любого взрослого, потому что в него уже столько вложено, потому что ребенок – это шанс на бессмертие. Добродетельный китаец в той же ситуации начнет, скорее всего, с отца – потому что отец дал ему жизнь и воспитание, потому что детей можно других народить, а отца другого себе не сварганишь, потому что отец стар и слаб, но мудр, и без него в жизни, как в потемках… И та, и другая позиции оправданны, и даже не скажешь, какая из них лучше. Нет критерия, который позволил бы взглянуть на проблему объективно, сверху, извне культуры, взлелеявшей ту или иную модель. Вне культуры – это начать спасение с себя.
Но европеец, последовавший китайской модели, равно как и китаец, последовавший европейской, всю жизнь потом мучились бы ощущением непоправимой, роковой ошибки; и вдобавок соседи, отнюдь не по указке околоточного, а по совести, не подавали бы им руки.
А стоит только одну из моделей узаконить, сделать обязательной для всех и вдобавок объявить отклонения от нее наказуемыми – она мигом превратится в прыганье на одной ноге.
В Китае времен династии Тан из этого тупика – по крайней мере, в криминальных ситуациях – выходили так: если на территории империи происходил правовой конфликт между людьми, принадлежащими к одному и тому же роду-племени, к одной и той же традиции, он разбирался по обычаям данного племени. Если же конфликт происходил между людьми, принадлежащим к разным племенам, разным традициям (пусть среди них не было даже ни одного собственно ханьца) – решение выносилось по общеимперским законам. Не Бог весть какая богатая вроде бы идея – но основополагающая. И потом, прошу учесть: до нее догадались полторы тысячи лет назад…
Где-то тут и спрятан баснословный секрет. Единственный. Недаром вплоть до XX века любой китайский реформатор, обращаясь к трону или к народу, формулировал свои предложения примерно следующим – для нас довольно-таки смехотворным на первый взгляд – образом: «Конфуций (или кто-либо из иных древнейших мудрецов) как-то раз сказал то-то и то-то. Большинство позднейших комментаторов сходится на том, что это надо понимать так-то и так-то. Поэтому…» И дальше что-нибудь о необходимости учиться строить пароходы.
Всякое крупномасштабное движение государства по отношению к своему народу, если государство не хочет повиснуть в собственной стране, как в вакууме, без воздуха и без опоры, не хочет вызвать катастрофу, которая его же, государство, и раздробит, должно совершаться в рамках культурной традиции. Закодировано ее, традиции, кодом. Даже если целью самого этого движения является некая корректировка, некое назревшее изменение традиции – все равно. И даже – тем более. Тут нет никакого противоречия. Удачная, перспективная политика – это всегда удачная попытка примирить непримиримое.
Верно и обратное. Единственным механизмом, который как-то смягчает социальные встряски, как-то ослабляет сопровождающее их повальное остервенение, является культурная традиция. Культура. Не в смысле начитанности, эрудиции или знания наизусть таблицы логарифмов, а в смысле почти инстинктивной ориентированности на моральные стереотипы поведения. Он не совершенен, этот механизм, – увы, совершенства нет в сем мире. Он хрупок, его не так уж сложно разладить. У него есть свои недостатки, прежде всего – неизбывный, имманентный консерватизм. Но иного механизма нет вообще. Все иные – это сила на силу, власть на власть, принуждение против принуждения.
Срабатывает этот амортизатор на двух уровнях: идейном и бытовом. На первом – через извечное интеллигентное брюзжание и ерничанье, через соблазн на любом солнце отыскать пятна, любой бездумный восторг высмеять и вымазать так, чтобы стала очевидной его абсурдность. На втором – через столь же извечное стремление жить так, как привык, по старинке, придерживаясь ороговевших ценностей, меняя поменьше, сохраняя побольше. Объективно же функционирование первого уровня старается не допустить, чтобы какая бы то ни было идея сделалась фетишем, вызывающим обвальный, массовый восторг, чтобы ни одно лекарство не могло быть объявлено панацеей от всех бед. А функционирование второго уровня назначено природой для того, чтобы не допустить вдавливания подобных фетишей и связанной с ними деятельности в повседневную жизнь людей. На первом уровне придумывают новые идеи, там же их и развенчивают, придумывая контр-идеи. На втором чихать хотели на все это, там просто растят свою герань и своих детей, а из идей усваивают в самом упрощенном виде лишь те, что вроде бы могут помочь растить герань и детей.
Поэт опасался, что социализм канарейками будет побит. Но побили его не канарейки, а как раз стремление оных передавить, не оставив людям для души ничего, кроме проваливающихся в какую-то бездонную прорву сверхплановых процентов и бронетанковой борьбы за мир во всем мире.
При всем антагонизме первого и второго уровней культуры в интересующем нас вопросе они выступают как две рессоры одного и того же транспортного средства. На первом – замедляют, разрыхляют, рассеивают любую внезапно рухнувшую лавину, на втором – так организуют, так структурируют ее, чтобы средний человек, ведя себя по возможности привычно, мог с наименьшими потерями просочиться между ее струйками. Тяжелее, конечно, когда фетишем оборачивается стремление вернуться к какому-нибудь золотому веку – например, к временам то ли до Переяславской рады, то ли до смерти Брежнева… Сопротивление на бытовом уровне резко ослабевает, и уже сама традиция начинает играть роль катализатора истерии и безумия. Но эта ситуация может возникнуть лишь как ответ, как реакция на оголтелое, бездумное, провокационное разрушение традиции властью. Сама по себе она не возникает.
Можно сказать еще сильнее. Можно сказать, что вообще основной функцией культуры являются (если допустимо говорить о функциях применительно к явлениям, хоть и порождаемых человеком, но не зависящих от его индивидуальной воли в той же степени, что и явления природные. А почему нет? Основной функцией дождя является естественное орошение полей. Помимо этого, дождь иногда порождает радугу, которой можно любоваться. Если бы дождь не орошал поля, все перемерли бы с голоду, поэтому, даже если бы он продолжал порождать радугу, любоваться ею было бы некому) смягчение, замедление, парирование лавинообразно нарастающих социальных процессов, которые, не будь этого смягчения, то и дело взрывали бы общество.
Подобные лавины проявляются через иррациональные вспышки тех или иных массовых чувств у более или менее значительных групп населения. Это значит, во-первых, что культура всегда находится в состоянии прямого антагонизма с любым стадным чувством, и, во-вторых, она всегда находится, в лучшем случае, в состоянии вооруженного нейтралитета с властью. Потому что власть, всегда заинтересованная в массовом героизме солдат, массовом энтузиазме рабочих и тому подобных массовых чувствах, всегда, в большей или меньшей степени, апеллирует именно к ним, паразитирует именно на них, культивирует именно их.
И все вроде в порядке: никто не ругает, все подлаживаются и поют оды, а кто не поет – отхрямкать ему грешную ногу. Но стоит только из-за какого-то неожиданного толчка знаку стадного чувства поменяться с плюса на минус – власть оказывается беззащитной перед обвалом бессмысленных, истеричных претензий.
Умная власть понимает, что должна балансировать между культурой и стадными чувствами, примирять непримиримое, – только пока это удается, опоры надежны. Она, более того, должна сама же и финансировать вроде бы враждебную ей опору или так организовывать правовое пространство, чтобы кому-то с чисто меркантильной точки зрения выгодно было финансировать ее – в особенности первый ее уровень, который по самой природе своей деятельности не способен прокормить себя сам, производя не пипифакс, а всевозможные идеи на любой случай жизни. Так, чтобы все эти злопыхатели могли делать свое великое дело – злопыхать; пока дела идут хорошо, их все равно мало кто всерьез слушает – но иммунитет к безоговорочному доверию любому ругательному мнению их нескончаемое злопыхание дает людям немалый (а то помните, как было: полная правды газета «Правда» и лживая буржуазная пропаганда, а потом полюса вдруг поменялись, и стали полная подлой и лживой партийной пропаганды «Правда» и полные искренней заботы о народах СССР, без единого направдивого слова передачи Би-Би-Си). Злопыхать на все лады, максимально разнообразно. Не пресмыкаясь перед властью из-за куска хлеба. Потому что, пресмыкаясь, они будут производить лишь те идеи, которые нравятся власти сегодня в полдень, но отнюдь не те, которые, вполне возможно, завтра на рассвете эту власть спасут.
Катастрофы семнадцатого и девяносто первого годов произошли не в последнюю очередь из-за того, что культура в массе своей утратила амортизирующие способности и оказалась в первых рядах стада, огульно, без тени осмысленности отрицающего существующие структуры и ценности.
Конечно, дело было и в ошибках власти. Абсолютно невостребованное разнообразие мнений, то есть ощущение самой культурой своей полной ненужности приводит к тому, что она вся пропитывается стадными чувствами и стремится себя же упростить, сведя к двум полюсам – причем отрицательным полюсом всегда окажется власть, культурой пренебрегающая, и следовательно, все мнения, эту власть так или иначе оправдывающие.
Несколько примеров из китайской жизни. Только прошу помнить – я отнюдь не идеализирую и не создаю очередной фетиш. Люди не ангелы, идеальных рецептов нет; все было: и императоров травили, и министры подсылали друг другу наемных убийц, и семьи бунтовщиков вырезались до энного колена… Но, в конце концов, самая демократическая страна нашего времени уверенно держит первое место по насильственным смертям своих президентов. Речь сейчас не о том, происходят преступления или нет, хотя, разумеется, всегда хочется, чтобы их было поменьше. Речь о том, устойчива ли структура. Потому что распад структуры всегда сопровождается хаосом, на много порядков более кровавым, чем любое преступление.
На протяжении двадцати веков Поднебесная управлялась прослойкой людей, которую мы с полным правом можем назвать матерным словом «номенклатура». Это была воспроизводившаяся отчасти наследственно, отчасти кооптированием проявивших некие таланты представителей средних слоев прослойка кадровых управленцев, не имеющих, как правило, никакого специального образования, зато назубок знающих тогдашние диамат и истмат, – эту роль выполнял конфуцианский этико-административный канон. Но уж, к слову сказать, ребята его действительно знали. И считалось, что подобная эрудиция делает человека пригодным для использования в сфере управления любой конкретной деятельностью. Существовали, разумеется, ярко выраженные таланты, способные руководить лишь в какой-то определенной сфере, зато незаурядно. Но источники пестрят фразами типа: «Начальник Палаты церемоний назначен командующим армией, идущей в поход на…» Или: «Старший секретарь Палаты наказаний назначен начальником Управления императорских жертвоприношений». Сразу чувствуется что-то родное и незабвенное, правда?
Но. Две тысячи лет есть две тысячи лет. Чиновник стал фигурой почти священной. С одной стороны, он непосредственно служит государству – а культ государственности был чрезвычайно развит, мы еще поговорим об этом. С другой, именно потому, что он удостоен служить государству, он не может не восприниматься – и не стараться быть – средоточием всех возможных человеческих добродетелей. Даже, скажем, квалификационный экзамен, который должны были в присутствии императора держать люди, желавшие резко ускорить свою карьеру, назывался не «научный феодализм» какой-нибудь и не «некоторые аспекты домашнего рабовладения», а «экзамен на звание мудрого, порядочного, непреклонного и справедливого, способного говорить прямые слова и увещевать императора до последней крайности». Правда, бывали ситуации типа «Ню Сэн-жу на экзамене так исчерпывающе вскрыл недостатки текущей политики, что канцлер в слезах пожаловался императору, и Сэн-жу был выслан». Что ж – на то и политика. Не сумел человек примирить непримиримое, сбалансировать критику и такт. И, кстати, такой казус отнюдь не помешал этому Ню Сэн-жу десять лет спустя самому стать канцлером.
Право бдительно стояло на страже чиновничьей «порядочности». Для чиновника предусматривалось чуть ли не вдвое-втрое большее количество деяний, подлежащих наказанию, чем для простого человека; стоит только вспомнить запрет на зачатие во время траура. Но ни один из этих запретов не принимал характера запрета на хождение двумя ногами. С наших дуболомов и садистов, обуреваемых стремлением законодательно улучшить человека, сталось бы запретить на три года вообще приближаться к женщинам, что сразу бы открыло простор для извращений, для повального нарушения закона и для потока доносов, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть (кто там свечку-то держал?), – и, следовательно, решение по делу априори зависело бы исключительно от умения угодить судье…
Но это к слову.
Конечно, не правовые запреты делали порядочным. Они – лишь для срывов. Дело в том, что престиж деятельности был столь высок, что именно здесь человек чувствовал себя способным наилучшим образом реализовать действительно имеющиеся у него добродетели. И, начав действовать в сфере управления, он испытывал моральное удовлетворение, спокойствие, удовольствие, гордость, ощущение наличия в жизни смысла, когда вел себя должным образом, приносил реальную пользу, реализовывал в поведении именно добродетели, а не что-то иное. Опять-таки, естественно, и интриг хватало, и грызни – политика и политиканы, что с них взять; но функционирование аппарата в целом, донизу, было ориентировано на ценности, в значительной степени блокировавшие своекорыстное перерождение и стремящуюся стать нормой халатность; и тот же Ню Сэн-жу, интриган неутомимый, с каменным лицом не раз рисковал достоянием и жизнью ради государственного блага, как он его понимал.
И потому, во-первых, на эту структуру идеально легла новомодная коммунистическая иерархия. В конце концов, что за разница, какой именно документ у тебя в кармане – партбилет или гаошэнь (так назывались удостоверения на должность тысячу лет назад). Важно то, как ты понимаешь связанные с ним обязанности и права. А если твое понимание таково, что не идет вразрез с реальностью и не ставит, ежели реальность меняется, перед выбором: начать насиловать реальность или начать изменять понимание – тогда, как показывает китайская практика, можно затем обойтись и без департизации.
А мы-то как кудахтали! Я выхожу из партии! А я не выхожу из партии! А мы отменим партию! А мы восстановим партию! Кругом взрывались газопроводы, сходили с рельсов поезда, рыба в тысячекилометровых реках плавала брюхом к небу от истока до устья, сами собой падали дома, десятилетиями ждавшие ремонта… Сохраним ячейку, мы герои! А я герой, я взносы платить не буду! Красный флаг! Нет, полосатый флаг! Снесем памятник! Восстановим памятник!
Та же самая комноменклатура в Китае, когда пришло время менять понимание, сумела это сделать. Пес с ней, с идеологией, мало мы их, что ли, у себя видали? Конфуцианство, даосизм, буддизм… ну, марксизм… Главное, чтобы подшипник крутился и капуста росла. И сдюжили-таки и народ накормить (пусть даже стандарт зажиточной жизни там куда ниже, чем у нас; но ведь и у нас он гораздо ниже, чем в Америке, а толку?), и страну не развалить. Помню, как раз пресловутым октябрьским воскресеньем прошлого года в новостях по одной телепрограмме показывали, как китайцы, даже не останавливая в городе движения, спокойно пустили тройное кольцо великолепных автострад вокруг Пекина, а по другой – как офонаревшая наша толпа метелит ментов и стекается с дрекольем к московскому Белому дому… Третье октября. Нарочно не придумаешь.
Не понадобилось китайцам в сотый раз ставить брата против брата. Не понадобилось клоунадно грозить судом партейцам и обзывать их фашистами, ничем реально им не угрожая и лишь вынуждая воровать еще безудержнее, чтобы в пожарном порядке построить для себя, раз уж мы его так желаем, капитализм – так же, как они и желанный нами коммунизм строили для себя и за наш счет, но, по крайней мере, неторопливо, без шоковой терапии. Не понадобилось по сто раз на дню выбирать все новых депутатов то туда, то сюда, ничего о них толком не зная и только радостно вскрикивая, если удавалось прочесть в предвыборных бюллетенях, что, дескать, «всю жизнь живу с семьей в коммуналке»: «О, этот наш! Этот им даст чертей! За этого голосуем!» – каким-то удивительным образом не понимая, что живущий в коммуналке человек, дорвавшись до полномочий, в первую очередь и с наибольшим пылом станет заниматься именно получением отдельной квартиры, и будет прав, ведь в коммуналках жить невозможно; но прав опять-таки по меркам нашей нынешней системы ценностей. А от кого он может получить квартиру? Да именно и только от тех, для борьбы с кем его избрали. И вот, тишком торгуясь с кем-то невидимым, он обязательно начинает изображать борьбу с кем-то видимым, как можно более видимым – с премьером, с президентом…
Другой пример. Допустим, человеку, несмотря на все усилия, не удавалось примирить непримиримое, и, увещевая до последней крайности, он этой крайности наконец достигал. То ли его начинало от жизни тошнить и днем, и ночью, то ли всех окружающих, вплоть до императора, начинало тошнить от него, то ли и то, и другое сразу. Но если сам он не пытался ухайдакать тех, от кого тошнит, – как правило, он мог не особенно опасаться за свою жизнь. Ему вполне могли просто сказать: «Уважаемый, ты совершенно гениален, и советы твои блистательны. Но то ли они не ко времени, то ли нет у нас соответствующих им по уровню исполнителей. Поехал бы ты лет на пять-десять на природу. И сам бы еще поразмышлял, и у нас при дворе ситуация, глядишь, изменилась бы…»
И человек отбывал подальше к «горам и водам», строил уединенную хижину той или иной степени удобности (но в роскоши отнюдь не усердствуя, ибо роскошествовать можно и в процессе дворцовых интриг, а слушать Дао лучше живя попросту) и пописывал там стихи, попивал винишко, почитывал классиков. И, что любопытно, вовсе не терял при этом ни квалификации, ни уважения сограждан. За двадцать веков подобные перепады карьеры стали восприниматься как явление нормальное и, более того, весьма возвышенное. Вполне вероятно было, что сей отшельник через несколько лет снова будет шуровать рычагами управления империей. А если даже и не будет, образ его от этого не потускнеет. Реализуя себя как личность крупного масштаба, он начал служить государству, и, продолжая делать то же самое, он перестал служить государству, потому что, если бы не перестал, ему пришлось бы изменить себе. Достойно уважения? Да. Достойно смертной казни? Отнюдь не обязательно. Даже устойчивое обозначение было найдено для таких людей: благородный муж, не встретивший судьбы. Модель сложилась не сразу, но в муках, духовных борениях, наветах и ухмылках недальновидных прагматиков она все-таки сложилась и впечаталась в культуру; и оказалось, что с прагматической точки зрения она выгоднее, нежели топорное (и в переносном, и в прямом смыслах) воспитание рассчитанного не больше чем на пятилетку вперед «чего изволите».