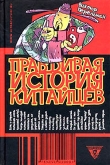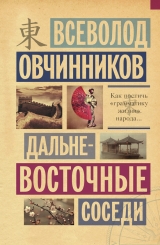
Текст книги "Дальневосточные соседи"
Автор книги: Всеволод Овчинников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В новогоднюю полночь китайцы и японцы, затаив дыхание, прислушиваются к раскатистому гулу бронзовых храмовых колоколов. Они бьют сто восемь раз. Считается, что каждый удар изгоняет одну из ста восьми возможных бед, омрачавших человеческую жизнь, и напоминает о всех ста восьми добрых пожеланиях.
Ведь для дальневосточных народов Новый год не просто праздник из праздников, а как бы общий день рождения. До недавнего времени у них не было обычая отмечать дату своего появления на свет. Сто восьмой удар новогоднего колокола как бы добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенца, родившегося накануне, наутро считают годовалым.
В новогоднюю полночь человек становится на год старше и к тому же переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Каким бы трудным ни был уходящий год, все начинается сызнова за этим порогом, все может пойти по-иному.
Праздник должен войти в каждый дом, как начало новой полосы в жизни. Поэтому входы жилищ по древней традиции украшают ветками сосны, бамбука и цветущей сливы. Вечнозеленая сосна на народном поэтическом языке олицетворяет пожелание долго жить и не стареть. Бамбук символизирует гибкость и стойкость. А слива, упрямо зацветающая в феврале, когда вокруг еще лежит снег, – жизнерадостность среди любых невзгод.
Люди желают того, что ценят. А ценят то, что им изначально присуще. Выбор новогодних пожеланий наводит на раздумья о народной душе. Пожалуй, именно мой репортаж «Сосна, бамбук и слива», где я в 1963 году первым написал о двенадцати животных дальневосточного календаря, стал зародышем замысла создать психологический портрет зарубежного народа, который я потом осуществил в своих книгах «Ветка сакуры» и «Корни дуба».
В Китае и Японии, как странах с иероглифической письменностью, новогодние праздники дают повод украшать жилища изречениями древних философов и поэтов. В них часто упоминаются три ипостаси счастья в представлении дальневосточных народов. Это прежде всего «фу» – благополучие в семье, «лу» – удача за порогом дома, то есть успех в карьере, и, наконец, «шоу» – долголетие, предполагающее крепкое здоровье.
А самое распространенное пожелание выражается четырьмя иероглифами: «Вань-Ши-Жу-И» («Пусть десять тысяч дел завершатся по вашему желанию»). Примечательно также, что излюбленным новогодним сувениром считается азиатский вариант ваньки-встаньки. Это Бодхидхарма, который пришел из Индии в Китай проповедовать буддизм и неподвижно просидел в монастыре Шаолинь девять лет лицом к стене.
После столь длительной медитации патриарх, которого китайцы зовут Дамо, а японцы – Дарума, лишился рук и ног. Его символической фигурой стала голова с густыми индийскими бровями – как бы шар, олицетворяющий собой девиз ваньки-встаньки: «Семь раз упасть и семь раз подняться». В этом, наверное, и состоит суть жизненной философии народов Дальнего Востока, которым вечно угрожают землетрясения и извержения, тайфуны и цунами.
Транспортный авралИностранцу, попавшему в предпраздничные дни в Китай, может показаться, что огромную страну охватила паника. Не тысячи, даже не сотни тысяч, а десятки миллионов людей уже целый месяц штурмуют билетные кассы всех видов транспорта, работающего в авральном режиме. Причина лихорадки – Новый год по лунному календарю.
Хотя он теперь официально переименован в Праздник весны (Чуньцзе), для миллиарда трехсот миллионов жителей Поднебесной именно эти две недели остаются порой новогодних праздников, которые каждая семья непременно должна встречать вместе, под одной крышей.
Возвращаются в родные места двести миллионов сезонников, ежегодно отправляющихся на заработки в города. Едут на побывку домой сотни тысяч военнослужащих. Спешат к своим семьям десятки тысяч бродячих торговцев и ремесленников.
Но прежде всего традиция требует, чтобы на праздничный сезон непременно воссоединились супруги, которые по каким-то причинам были разлучены. Согласно укоренившимся у китайцев представлениям, в природе для всего есть своя пора. В двадцати четырех двухнедельных сезонах традиционного лунного календаря воплощен многовековой опыт поколений – это, по существу, оптимальный график полевых работ, подсобных промыслов, а также народных праздников.
Издавна принято считать, что есть своя пора и для активной супружеской жизни: две недели Праздника весны, от первого новолуния до первого полнолуния. Стало быть, десятки миллионов людей устремляются к домашним очагам именно ради того, чтобы своевременно выполнить супружеский долг. Выходит, что если кто и следует библейскому завету: «Время обнимать и время уклоняться от объятий», так это китайцы.
Не следует понимать сказанное буквально. Современное поколение, особенно в городах, не признает сезонности в супружеских отношениях. Но инерция многовековых обычаев все-таки дает о себе знать. В сельской глубинке почти все дети рождаются одновременно, в сентябре – октябре. Стало быть, все они были зачаты на лунный Новый год. А после Праздника весны китайские супруги могут спокойно расстаться на несколько месяцев, а то и на год.
Тещина бутыльВ китайском фольклоре, на удивление нам, начисто отсутствует тема тещи. Дочь после замужества становится членом другой семьи. Она переходит в полное подчинение свекрови и свекра. Своих же родителей видит лишь по праздникам пару раз в году. Немного контактов и у тещи с зятем.
Есть лишь одно исключение. Чтобы муж дочери выдержал двухнедельный марафон на Праздник весны, теща дарит ему бутыль с заспиртованной гадюкой, корнем женьшеня и ягодами дерезы. Такая настойка повышает мужскую силу.
Меня умилило, что тещина бутыль имеет полую пробку, которая вмещает хорошую стопку целебного зелья на опохмелку. Опорожнил бутылку – а утром опохмелился из пробки. О такой трогательной заботе наши зятья могут только мечтать.
Вместе со свекровью теща руководит приготовлением пельменей. Они пришли к китайцам и японцам, как и к нам, от кочевых степных народов еще во времена Чингисхана. Как и другие кушанья новогоднего стола, пельмени должны сообща лепить все члены семьи. Праздник весны воплощает ее единение. Не случайно график школьных и студенческих каникул ежегодно смещается в соответствии с лунным календарем.
Всей семьей готовят и клейкие лепешки, которые полагается класть на алтарь предков в Праздник фонарей, завершающий собой две новогодние недели. Они предназначены для Духа очага. Данный персонаж, которого китайцы зовут Цзаошэн, играет в их новогодней мифологии такую же роль, как на Западе Дед Мороз или Санта-Клаус. После праздников Цзаошэн отправляется на небеса, дабы проинформировать души предков о том, как прожили очередной год их потомки.
Так вот, чтобы Цзаошэн не болтал лишнего, вся семья толчет в деревянных ступах клейкий рис и лепит из него лепешки, которые должны склеить духу рот. Кладут их и на праздничный стол. Традиционное лакомство порой оказывается роковым. Если поперхнуться липким кусочком такой лепешки, от удушья может спасти только экстренное хирургическое вмешательство. В Японии по этой причине ежегодно гибнет больше людей, чем любителей смертельно ядовитой рыбы фугу.
Оптимальное сочетание возрастовО двенадцати календарных животных китайцы и японцы вспоминают чаще всего при выборе спутников жизни. Восточная медицина придает большое значение физиологической совместимости партнеров, которая во многом зависит от оптимального сочетания их возрастов. По традиционной на Дальнем Востоке формуле считается, что возраст мужчины нужно разделить пополам и прибавить восемь.
Двадцатилетнему мужчине лучше всего соответствует партнерша восемнадцати лет, тридцатилетнему – двадцати трех, сорокалетнему – двадцати восьми, пятидесятилетнему – тридцати трех лет. Признаюсь, что с некоторых пор эти вычисления как-то перестали меня радовать. Но оказалось, что после шестидесяти лет цифру «восемь» следует не прибавлять, а вычитать. И тогда мои сомнения в разумности формулы вновь рассеялись.
Китайские и японские геронтологи полагают, что поздние браки лучше слишком ранних. После родов в шестнадцать-восемнадцать лет женщина преждевременно старится. Тогда как впервые став матерью после тридцати, она не только в наибольшей степени ощущает эффект омоложения, но и дольше живет.
Восточная медицина считает секс, в том числе и в пожилом возрасте, путем к долголетию. Однако допуская разницу в годах, китайские и японские врачи делают существенную оговорку. Интимная связь пожилого мужчины с молодой женщиной (или наоборот) благотворна лишь при искреннем взаимном влечении обоих партнеров. Если же хотя бы один из них это чувство имитирует, то свой запас жизненной силы «ци» невосполнимо сокращают оба.
Итак, хотя все страны Восточной Азии официально перешли на общепринятое григорианское летоисчисление, лунный Новый год отмечается там как традиционный народный праздник. Он всякий раз вводит в обиход имя одного из двенадцати календарных животных и пяти стихий.
Что же касается Китая, то там это событие, переименованное в Праздник весны, остается главным всенародным торжеством года. Это двухнедельная пора семейных встреч у домашнего очага, сезон активной супружеской жизни, когда для всех мужей и жен разом наступает «время обнимать».
Три ипостаси счастья
Дальневосточные секреты долголетияРаботая на Дальнем Востоке, я вновь и вновь убеждался, что новогодние ритуалы воплощают три ипостаси счастья в понимании китайцев, японцев и других народов региона.
Лейтмотивом праздничных украшений там служат три иероглифа: «фу», «лу», «шоу». «Фу» – это благополучие в семье. «Лу» – удача за порогом дома, то есть успех в карьере. И наконец «шоу» – долголетие.
Наши дальневосточные соседи любят украшать свои жилища символичными произведениями народного прикладного искусства. Среди них чаще всего видишь фигуру старца. Он держит в руке посох, к которому прикреплены свитки священных текстов. С ним обычно соседствует отличающийся верностью и долголетием журавль, а также тыква-горлянка, будто бы продлевающая жизнь. Такая трактовка счастья в системе трех координат служит лейтмотивом предназначенных для Нового года подарков. Итак, новогодние праздники на Дальнем Востоке выявляют присущий китайцам и японцам культ долголетия.
На юге Китая, в провинции Гуанси, я был поражен тем, что долгожители обитают не только в горах, как у нас на Кавказе.
Волость Бама достойна попасть в Книгу рекордов Гиннесса как место, где долгожителей больше всего на свете. При населении 238 тысяч человек там насчитывается 237 человек старше 90, и 74 – старше 100 лет.
Почти в каждом доме на самом видном месте красуется гроб. Его принято дарить отцу или матери в день их 60-летия.
Хуан Малянь, глава семьи из пяти поколений, приветствовала меня, сидя на таком гробу из толстых сандаловых досок: «Этот гроб не мой, а младшего сына. Мой же стоит в соседнем доме, у старшего сына. Уже 44 года мы храним там семенное зерно», – с улыбкой пояснила мне 104-летняя хозяйка.
Слагаемые возрастаВ чем же секрет азиатского долголетия? Связан ли он с местными традициями, с национальным менталитетом?
Специалисты восточной медицины считают важной предпосылкой долголетия хорошую наследственность. Если ваши предки жили долго, у вас больше шансов последовать их примеру. Однако хорошие гены – отнюдь не гарантия. Если с любовью ухаживать за «жигулями», то и «копейка» может оказаться долговечнее «мерседеса».
Не менее чем от генетики, азиатское долголетие зависит от образа жизни. Это:
1. Традиционное питание (его сравнивают со средиземноморской диетой): упор на овощи, фрукты, растительное масло вместо животных жиров. Протеин – главным образом не за счет мяса, а от рыбы и соевых бобов. Наконец, необработанное зерно вместо дрожжевого хлеба. Приоритет не импортным, а местным продуктам.
2. Правильный режим сна. В среднем 7 часов в сутки. Сокращают это время летом и увеличивают зимой, чтобы вставать и ложиться если не вместе с солнцем, то ближе к ритму природы. При этом считается, что находиться в постели 9 – 10 часов хуже, чем недосыпать. Ибо это ведет к депрессии, снижает общий тонус организма.
3. Режим подвижности, ходьба и домашние дела. Женщины живут дольше мужчин именно потому, что им легче находить для себя в преклонном возрасте посильные нагрузки и тренировать брюшные мышцы. А восточная медицина считает, что человек с ослабевшим животом умирает раньше.
4. Здоровая половая жизнь. Исследования геронтологов подтвердили, что поздние браки лучше ранних. После родов в 16–18 лет женщина преждевременно старится. Тогда как впервые став матерью после 30, она не только в наибольшей степени ощущает эффект омоложения, но и дольше живет.
Даосские монахи считают секс (в том числе и в пожилом возрасте) путем к мужскому долголетию. Но это не означает, что холостяки-плейбои имеют преимущество перед женатыми сверстниками. Наоборот, благодаря домашней пище и заботливому уходу семейные мужчины живут дольше.
По древнекитайской формуле оптимальное сочетание возраста супругов таково: возраст мужчины нужно разделить пополам и прибавить 8.
40-летнему мужчине лучше всего соответствует партнерша 28 лет, 50-летнему – 33 лет. Ну а после того как дети подарили отцу гроб, то есть после 60, цифру 8 надо не прибавлять, а вычитать. (Меня это уточнение порадовало.)
Однако, одобряя разницу в возрасте, даосы делают существенную оговорку. Интимная связь пожилого мужчины с молодой женщиной благотворна лишь при искреннем взаимном влечении обоих партнеров. Если же хотя бы один из них это чувство имитирует, то свой запас жизненной силы непоправимо теряют оба.
5. Оптимистический взгляд на мир, порождаемый любовью и уважением близких. По мнению китайских геронтологов, в старости психическое здоровье даже важнее физического.
Все больше семей, где сверх завещанных Конфуцием «трех поколений под одной крышей» теперь живут 4, а то и 5 поколений. Старики там имеют не только лучшую комнату и главное место за столом, но и окружены всеобщим почитанием.
Именно востребованность их жизненного опыта рождает то мироощущение, которым отличаются китайские и японские долгожители, родившиеся еще в XIX веке.
Именно обостренное чувство родовой солидарности служит причиной того, что в нашей стране больше всего долгожителей среди народов Кавказа, где клановые связи до сих пор не утратили своей роли.
Отражение религиозной философииКульт долголетия, присущий дальневосточным народам, отражает их религиозную философию. Конфуцианцы видят основной сыновний долг в том, чтобы обеспечить достойную старость родителям. Именно вследствие этого 30-летняя политика жесткого ограничения рождаемости в Китае по принципу «одна семья – один ребенок» привела к обостряющемуся дефициту невест. Поскольку каждой семье прежде всего требовался сын как гарант старости родителей, китаянки прерывали беременность, как только узнавали, что им предстоит родить дочь.
У буддистов, верящих в причинно-следственные связи, забота о родителях тоже считается залогом того, что так же будут относиться к ним их собственные дети.
В целом отношение китайцев и японцев к истокам долголетия отражает присущий этим народам религиозный рационализм, инстинктивную уверенность в принципе, что «как аукнется – так и откликнется».
Итак, конфуцианство призывает уважать старину и почитать старших, дабы дети ответили родителям тем же. Буддизм проповедует «колесо причинности»: сегодняшний день – «следствие дня вчерашнего и причина дня завтрашнего». Японский синтоизм тоже близок к подобной логике. Словом, делай добро другим, и оно вернется к тебе.
От Великой стены к Великому каналу
Китайцы – гидротехники от природыСмело шагнув в будущее, Поднебесная по-новому показала миру и величие своего прошлого. Подобно Великой Китайской стене, Великий Китайский канал является одним из наиболее грандиозных сооружений древности. Это самый ранний по времени и самый длинный по протяженности искусственный водный путь в современной истории.
Объединитель Китая император Цинь Шихуан больше всего известен тем, что начал строить Великую Китайскую стену. Однако куда меньше людей знают, что по его повелению еще в 214 году до новой эры был проложен канал, который соединил Великую Янцзы, пересекающую Китай с запада на восток, и реку Чжуцзян – главную водную артерию юга страны.
Для первого объединителя Китая такой замысел имел прежде всего военное значение. Надо было подвозить рис и стрелы для воинов, которые расширяли империю в южном направлении. Канал, получивший название Линцюй, служит людям уже более двух тысячелетий. Караваны джонок поднимаются по реке Чжуцзян (Жемчужной) до этого канала, потом спускаются к озеру Дунтинху и оттуда по Янцзы доходят до Уханя.
Другой древнейший отрезок великого канала – от Янцзы на север до Хуанхэ – начали прокладывать в 485 году до новой эры. Но строительство главной части продолжалось до времени императора Суй Янди. Несколько миллионов землекопов, согнанных по его повелению, прорыли канал сначала на север, к Лояну, а затем на юг, вплоть до Ханчжоу.
По свидетельству летописцев, канал имел в ширину десять шагов. По обоим берегам его были проложены тропы для бурлаков и рядами высажены ивы.
В 1292 году, когда Лоян уже перестал быть столицей Поднебесной, великий водный путь был выпрямлен и доведен до Пекина, и до сих пор люди пользуются этой водной артерией.
18 флотов по 53 джонкиОднажды после нескольких засушливых лет в Великом канале не оказалось воды. И вот, дабы Сын неба мог совершить свой ежегодный выезд в южные провинции, пересохший ров доверху засыпали рисом и по нему волокли императорские ладьи.
Так в народном воображении слились оба назначения Великого канала. Согнав миллионы людей на его строительство, императоры думали не только о доставке налогов в столицу. В те далекие времена передвигаться по пыльным дорогам, даже в паланкине, было делом незавидным. Куда приятнее было обозревать окрестности с палубы собственной ладьи!
Впрочем, основная цель прокладки Великого канала созвучна с его названием – «Река податей». Зерно для казны, то есть для выплаты жалованья государевым людям, поступало в древние столицы Сиань и Лоян, а позднее – в Пекин главным образом через равнины, лежащие в низовьях Янцзы и Хуанхэ. В Янчжоу, городе, выросшем на перекрестье Великого канала с Янцзы, мне удалось разыскать потомков лодочников, которые когда-то возили податное зерно ко двору Сына неба.
Каждый год, рассказывали они, на второй день второго лунного месяца на берегах канала раздавался грохот гонгов. Это был сигнал о погрузке зерна, которое свозилось еще с осени. Неободранный рис ссыпали прямо в дощатые трюмы джонок.
В столицу ежегодно отправлялось восемнадцать флотов по 53 джонки в каждом. Когда в сумерках на их мачтах зажигались бумажные фонарики, караван казался бесконечным. Долог и труден был лежащий впереди путь. Проходило полгода, а то и больше, пока лодки причаливали к императорским складам в Восточном Пекине.
Нельзя не восхищаться мудростью и упорством народа, который умудрялся несколько столетий ежегодно проводить почти по тысяче груженых джонок по каналу без шлюзов, да к тому же со сложным рельефом дна. Ведь надо было пересекать Хуанхэ, на берегах которой высились паводкозащитные дамбы. Так что приходилось тянуть джонки бичевой, а иногда наматывать буксирный трос на закопанный в землю столб. Так что лодочникам приходилось тянуть свой груз по нескольку месяцев.
Хиросимская трагедия в Средние векаЛюдям, селившимся на берегах грозной Хуанхэ, совладать с причудами повелителя вод Дракона было труднее всего. Но летописи хранят память и о рукотворном бедствии. В 1128 году на Китай с севера наседали конные полчища чжурчжэней. И перед тем как оставить свою летнюю столицу Кайфэн и бежать на юг, император Гаоцзун повелел разрушить паводкозащитную дамбу на Хуанхэ, «дабы водами заменить войска».
В 1938 году бесчеловечный поступок средневекового владыки повторил гоминьдановский лидер Чан Кайши. Под предлогом готовящегося наступления японцев он отдал приказ взорвать дамбу на Хуанхэ в районе Хуаюанькоу.
Чан Кайши знал, что мутные воды Хуанхэ хлынут на юго-восток. Там, на стыке провинций Хэнань – Аньхой – Цзянсу, находилась главная база красных партизан. Это была опора Народно-освободительной армии Китая, которая под руководством Компартии давала героический отпор японским агрессорам.
Вот туда-то, по «красному поясу», и нацелил Чан Кайши свой предательский удар. Желтая река выплеснулась на густонаселенный район. В ее мутных водах утонуло тогда около девятисот тысяч человек. Это была гуманитарная катастрофа, сопоставимая с четырьмя хиросимскими взрывами. Почти двадцать пять миллионов жителей остались без крова. Было затоплено 54 тысячи квадратных километров.
Если представить себе, что под водой вдруг окажется целая Голландия, то и это было бы несравнимо с трагедией Хуаюанькоу.
Когда в 1128 году император Гаоцзун вздумал «водами заменить войска», Хуанхэ в течение семи веков загрязняла русло другой китайской реки – Хуайхэ. Когда в 1938 году Чан Кайши вновь взорвал защитную дамбу, воды Хуанхэ ворвались в Хуайхэ уже не в среднем, а в верхнем течении. И последствия этого оказались еще губительнее. Ведь наносы Желтой реки загромоздили не только русло Хуайхэ, но и ее многочисленных притоков. Лишь первый китайский «Днепрострой» – гидроузел Саньмэнься на Хуанхэ, свидетелем строительства которого мне довелось быть в Китае в 50-х годах, – совершил коренной поворот в истории Желтой реки, некогда прозванной горем Китая.
Мечта китайцев о том, чтобы взять в одну упряжку главные реки, зародилась у жителей Поднебесной еще в глубокой древности.