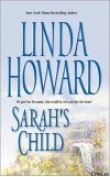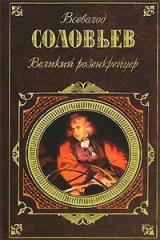
Текст книги "Волхвы"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XVIII
Еще несколько минут Захарьев-Овинов держал свою руку над головой отца, и черты старого князя принимали все более и более спокойное, какое-то даже блаженное выражение. Вот слабая улыбка мелькнула на старческих губах, вот желтые, иссохшие щеки покрылись легким румянцем. Старик сделал во сне движение и положил руку себе на сердце. Он прошептал что-то, но что – того нельзя было расслышать.
А в это время перед мысленным взором сына ясно и отчетливо рисовались картины… Ясные летние дни… вековые клены и липы… воды широкой, быстрой реки… таинственная душистая глубина темного соснового бора… бледные вечера, полные неизъяснимой тишины, завораживающей душу… Свет и сиянье юной, доверчивой красоты… молодая любовь – земная, горячая, безумная и могучая, как вся эта природа…
«Переживай былое свое опьянение – оно все же было самым сладким из всех твоих опьянений, переживай его снова и отдыхай от страданий бедной, износившейся плоти… вот тебе дар мой! – и он для тебя во сто крат драгоценнее, чем для меня все то, что ты теперь дашь мне!»
Так подумал Захарьев-Овинов и, еще раз устремив свой холодный, властный взгляд на спящего отца, вышел из комнаты. Он снова прошел пустыми парадными покоями и спустился с лестницы в нижний этаж, в занимаемое им помещение. По приезде из-за границы в отцовский дом он сам себе выбрал эти три комнаты, небольшие и довольно темные, выходившие окнами в маленький, но густо заросший садик. Эти комнаты чуть ли не с самого основания дома никогда не были жилыми и всегда предназначались для приезжающих. Захарьев-Овинов выбрал их именно оттого, что они не были жилыми. Да и то он их три дня проветривал, держа окна настежь и приказав хорошенько топить печи, несмотря на теплую весеннюю погоду. Затем он сам по нескольку раз в день окуривал каждую комнату каким-то очень ароматическим курением и опрыскивал все стены и всю мебель какой-то душистой зеленого цвета жидкостью. Теперь, несмотря на открытые окна, в комнатах стоял пропитавший все несколько одуряющий и странный запах, очевидно, приятный и привычный хозяину. Захарьев-Овинов, придя к себе, снял в спальне свое нарядное одеяние и надел черный бархатный кафтан, бывший его любимой домашней одеждой. Затем он вышел в первую комнату, более обширную, чем две другие, и служившую ему для занятий, которым он с первого дня своего приезда посвящал немало времени. Здесь стоял большой дубовый стол; на столе несколько книг, шкатулка чудесной мозаичной работы, чернильница и пенал с гусиными перьями.
Захарьев-Овинов присел к столу, отпер шкатулку, вынул из нее объемистую тетрадь и принялся писать.
Но не пришлось ему исписать и полстраницы, как в дверь раздался стук. Он поднял голову, прислушался, досадливое чувство мелькнуло на его лице, но оно тотчас же и пропало. Он взял свою рукопись и спрятал снова в шкатулку. За дверью вместе с повторенным стуком раздался голос:
– Князь, ваш слуга не виноват, я не допустил его докладывать… Коли заняты – скажите прямо, а коли можете – впустите меня к себе без церемонии… Узнаете мой голос?
– Узнаю, милости просим, граф! – ответил Захарьев-Овинов, подходя к двери и отпирая ее.
Пред ним в золоте и регалиях, сиявший довольством, стоял граф Александр Сергеевич Сомонов. Они поздоровались. Граф поспешно вошел, будто боясь, что хозяин не впустит к себе, а попросит в парадные комнаты, тогда как он именно, даже не думая о своей назойливости, вовсе не бывшей в его характере, постарался проникнуть сюда. Быстрым любопытным взглядом в одно мгновение граф оглядел всю комнату. Но этот первый осмотр не мог удовлетворить его. Он не увидал ровно ничего необыкновенного и особенного, чего, по-видимому, ожидал.
Комната «нового князя» была самой обыкновенной комнатой с тяжелой кожаной мебелью, большим книжным шкафом и несколькими картинами по стенам. Вся эта обстановка, очевидно, была здесь и прежде, до приезда нового хозяина, и ровно ни о чем не говорила.
Захарьев-Овинов предложил своему гостю кресло.
– Зачем же вы меня обманули, князь? – начал граф Сомонов. – Обещались приехать ко мне третьего дня обедать, да и не пожаловали.
– Я сам очень жалел о том, – отвечал Захарьев-Овинов, – но в письме моем я изложил причины невозможности быть у вас: неотложные дела, связанные с моим новым положением, а также здоровье отца… Он с утра чувствовал себя очень дурно и просил меня не выезжать; весь день меня задерживали.
– Да, конечно, – протянул Сомонов, – я все это понимаю и не претендую, только жаль, я так ждал вас… да и не я один.
Захарьев-Овинов улыбнулся.
– Вы чересчур любезны! Мое присутствие, пожалуй, бы только испортило настроение и ваше, и ваших гостей. Потерял я, а не вы.
– Однако, князь, – перебил его Сомонов, – дело вовсе не в комплиментах. Мне и моим друзьям вы крайне нужны – и сами знаете почему.
Захарьев-Овинов еще раз улыбнулся.
– В этом-то и дело, граф, что я не знаю, или, вернее, я знаю, что вы возлагаете на меня такие ожидания, каких я удовлетворить не могу.
Сомонов даже вспыхнул.
– К чему мистификации! – воскликнул он. – Ведь я не один год имел о вас известия. Да и вы же привезли мне из-за границы письма, тоже доказывающие, что я на ваш счет не заблуждался. Я знаю, что вы занимаетесь великой и единой наукой природы, которая составляет высший интерес моей жизни, и я имею все основания предполагать, что в вас мы можем и должны найти человека для нас крайне нужного, по всем данным, опытного руководителя.
Захарьев-Овинов пожал плечами.
– Уверяю вас, граф, вы заблуждаетесь… Великая наука природы! Мне незачем скрывать, что я вообще не чужд любознательности… Скитаясь по свету, я учился всему, чему мог, я искал встреч с учеными людьми, водил с ними знакомства, беседовал, поучался от них, немало с ними спорил. В числе моих знакомых и даже друзей есть франкмасоны. Я знаю, что вы всем этим интересуетесь, всякими мистическими вопросами. Слыхал, а теперь убеждаюсь, что вы занимаетесь каббалистикой и вообще древними, давно отвергнутыми науками. Я всегда буду рад случаю беседовать с вами обо всем этом, так как вопросы эти и меня в достаточной мере интересуют… Но вот и все. Я не могу принять на себя той роли, какую вам угодно придавать мне, не могу потому, что это не моя роль.
Сомонов пытливо глядел на него, но ровно ничего не мог прочесть в его холодном, неопределенно улыбающемся лице.
– Однако, – запинаясь, произнес он, – как же это? Положим, в доставленных мне письмах нет указаний… но по прежним письмам…
– Что же, граф, говорили обо мне эти прежние письма ваших заграничных корреспондентов?
Сомонов начинал волноваться. Он почувствовал себя в каком-то неловком, странном положении, «Зачем он меня дурачит, – думал он, – что нужно, чтобы заставить его быть откровенным?»
– В прежних письмах, – воскликнул он, – нас извещали о скором вашем приезде и обещали нам многое от вашего приезда. Я и небольшой кружок моих друзей, преданных общим интересам и занятиям, ждали вас, как манны небесной…
– Не меня вы ждали и не обо мне вас извещали, – совсем просто сказал Захарьев-Овинов.
– Как! – Сомонов не знал, что думать, он окончательно растерялся.
– В скором времени, действительно, должен сюда приехать тот, кого вы ждете и о ком вам писали. Согласитесь же, что мне не пристало быть самозванцем и что вы, граф, ставите меня в неловкое положение.
Сомонов едва верил ушам своим.
– Кто же это должен приехать? – прошептал он, почти бессмысленно глядя на Захарьева-Овинова.
– Кто? Великий чародей, каким его считают многие в Европе… человек, имеющий много названий, но более всего известный под именем графа Калиостро.
При звуке этого имени Сомонов вскочил с кресла, и вместо неприятного смущения, в каком он до сих пор находился, на лице его изобразилась радость, чрезмерная, восторженная.
– Возможно ли это?.. К нам едет сам божественный Калиостро! – вскрикнул он, – le divin Gagliostro!.. Dieu, quel bonheur!
Захарьев-Овинов глядел на него серьезно и спокойно, но, очевидно, не замечал его, не слышал – мысли внезапно ушли очень далеко.
– Князь, вы его знаете? Вы с ним близко знакомы?.. Князь, да что же вы?
Захарьев-Овинов очнулся.
– Да… вы про Калиостро… нет, я не знаком с ним, никогда не встречался…
– Не может того быть!.. Я не в силах понять, зачем вам надобно от меня скрываться?
– Уверяю вас, что я с ним не знаком, ни разу не пришлось встретиться… по слухам же я, конечно, его хорошо знаю.
– И он сюда едет? Это верно?..
– Не едет еще, но скоро приедет, если вы его позовете… От вас зависит… только уверены ли вы, что его приезд вам нужен и принесет какую-нибудь пользу?
Сомонов ничего не ответил, а только посмотрел на князя с сожалением.
– В таком случае пишите ему, приглашайте его, и я вам ручаюсь, что он не замедлит воспользоваться вашим приглашением… Но…
Захарьев-Овинов остановился, не докончив фразы, он видел, что всякое «но» теперь бесполезно.
– Я сегодня же, сейчас же буду писать ему… пошлю мое письмо с курьером, – взволнованно и уже сам с собою повторял Сомонов и стал поспешно прощаться.
Захарьев-Овинов проводил его, вернулся, запер дверь на ключ и снова вынул свою тетрадь из мозаичной шкатулки.
«Бабочки!.. мошки!.. – думал он, – так и летят на свечу… и опалят свои слабые крылья… и погибнут… да и свеча сгорит и исчезнет бесследно, хоть и возжена была от вечного, животворного огня мира… Вам открыть великие тайны природы!.. Для вас нарушить священный обет молчания!.. Нет, не к вам я пришел, и мне некуда вести вас… Перед вами я останусь в одежде, данной мне теперь, быть может, именно затем, чтобы вернее скрыть себя от очей ваших…»
Часть вторая
I
Огромное богатство, крепкое здоровье, привлекательная внешность, любовь к добру и красоте – всем этим благосклонная судьба в избытке наделила графа Александра Сергеевича Сомонова. С первых дней его жизни перед ним была расчищена широкая дорога всяких благополучии и наслаждений, всего, о чем бесплодно мечтают не только пасынки судьбы и природы, но иной раз и законные, истинные дети той же судьбы, той же природы.
Все сложилось так, что графу легко было не только самому жить привольно, весело и счастливо, но и разливать вокруг себя довольство и веселье. Врожденные склонности к этому его и побуждали. Придя в зрелый возраст и став обладателем огромного наследственного состояния, первые основы которого были положены не Бог знает в какой древности трудом его предка, вышедшего из русского крестьянства, граф озаботился прежде всего своим весельем и весельем своих ближних.
Ему пришло в голову выстроить на одной из окраин Петербурга роскошную дачу, окруженную огромным садом, где могли бы гулять и отдыхать не только его знакомые, но и вообще все жители Петербурга.
Граф любил искусства и был достаточно глубоким знатоком их. Он не только покупал в Европе художественные произведения, но и мечтал о русском искусстве. Присматривая русских талантливых людей и найдя человека, казавшегося ему талантливым, он всегда покровительствовал такому человеку. Так он воспитал и вывел в люди, между прочим, молодого способного архитектора, по фамилии Воронихин. Этому-то архитектору он и поручил постройку своей дачи. Работа закипела, и на удивление всем быстро воздвигался огромный дом превосходной внушительной архитектуры.
Затем граф скупил смежные земли, покрытые густым леском, спускавшимся к самой речке, и менее чем в год мечта его осуществилась – запущенный лесок превратился в прекрасный, разбитый по плану того же Воронихина, сад.
В саду этом среди беседок, киосков и всяких живописных уголков, посвященных отдохновению и мирной беседе, возвышались драгоценные скульптурные произведения, вывезенные из-за границы. Свободно пускаемая в графский сад публика могла дивоваться и любоваться на сфинксов, центавров, на огромные и грациозные мраморные вазы, наполненные душистыми цветами.
Посреди обширного пруда, окаймленного ярко-зеленым бархатистым газоном, возвышалась гигантская фигура Нептуна с трезубцем.
По сторонам графской террасы сверкали своей мраморной белизной чудной работы статуи, изображавшие Геркулеса и Флору Фарнезских.
В зимнее время графский сад бывал обыкновенно наглухо заперт. Но едва весна вступала в свои права, он отпирался и становился всем доступным. Летом граф жил вместе с двором в Царском Селе, но накануне праздников и воскресных дней он неизменно приезжал на свою дачу, и тогда здесь наступало с утра и до вечера великое пирование. Музыка всюду оглашала древесные своды. Петербургские жители стремились в графский сад и зачастую проводили со своими семействами весь день. Никакого ресторана тут не было, а между тем каждый мог получить и кушанье, и всякие крепкие напитки за самую дешевую цену. Огромная графская дворня устроила себе из продовольствия посетителей весьма выгодное занятие. И кушанья, и напитки получались даром. То есть на счет графа, и таким образом всякая, хотя бы и самая дешевая плата, взимаемая с гулявших, была чистой прибылью для графской прислуги.
Насытясь, напившись и наслушавшись музыки, каждый мог идти к самой террасе дачи и присутствовать в качестве свободного зрителя на графском пиршестве.
Граф Александр Сергеевич и его многочисленные гости нисколько не смущались, превращаясь, так сказать, в актеров и становясь средоточием бесчисленных взглядов толпы. Эти взгляды ничуть не мешали им пировать и веселиться. С террасы несмолкаемо доносился смех, шумный разговор, оживленные споры.
А весьма часто случалось и так, что по знаку добродушного хозяина вдруг раздавались звуки веселой плясовой музыки. Граф посылал всем посетителям сада приглашение потанцевать на расчищенной площадке перед террасой.
Это приглашение тотчас же принималось, устраивались танцы и, наконец, кончалось тем, что сам именитый хозяин присоединялся к танцующим, предлагал руку первой приглянувшейся ему даме или девице и начинал с нею танец.
Популярность графа Александра Сергеевича была велика. В Петербурге его почти все знали в лицо. Он приветливо отвечал на обращаемые к нему почтительные поклоны, ласково улыбался всем красивым женщинам, ласкал детей. Но в то же время никогда не терял он своего достоинства. Доброта, ласковость и простота его обращения, запанибратство с людьми самых различных классов общества нисколько не мешали каждому и каждой видеть и чувствовать в нем настоящего вельможу и уважать его. В то же время его простота и эти праздники, в которых он принимал участие, многим давали возможность обращаться к нему лично со всевозможными просьбами о помощи. Граф принимал все просьбы, и широкая его благотворительность иной раз граничила просто с расточительностью. Он помогал без всякого разбору, сыпал деньгами направо и налево.
Это, во всяком случае, давало ему возможность видеть довольные, радостные лица и знать, что он причиной этих радостей и довольства. Он находил, что не может быть жаль никаких денег, заплаченных за такие впечатления, и с добродушной улыбкой выслушивал замечания императрицы, упрекавшей его, что в конце концов даже и его громадного состояния не хватит на такие меценатовские причуды.
– Хватит, ваше величество, смею уверить вас, что хватит! – твердо повторял он и был прав: его состояния, добытого когда-то в недрах земли мозолистыми мужицкими руками, хватило не только на его век, но и на широкую жизнь его потомства…
Казалось бы, чего еще было искать графу Александру Сергеевичу, как было не довольствоваться ему такой привольной, широкой жизнью? Но оказывалось, что всего этого ему было мало. Все давалось слишком легко, стоило чего-нибудь захотеть, и оно являлось как в сказке, «по щучьему велению», И вот повлекло его неудержимо к такому, чего нельзя было купить ни за какие деньги, чего не могли дать ни имя, ни положение, ни связи. Ему недолго пришлось задумываться над тем, что это такое, чего ему так хотелось. Он много читал и был сыном своего времени. А в его время было немало умов, настроенных мистически, томившихся и скучавших среди видимой действительности. Эти умы, увлекаемые жаждой чудесного и не умевшие найти удовлетворения своей жажды в слишком для них высокой и великой чистоте и простоте христианского учения, вернулись к древним и средневековым мечтаниям, разыскивали остатки древних тайных наук и силились сдернуть покрывало с таинственного лика Изиды.
Занятия каббалистикой, магией, астрологией были в ходу. Встречались по всей Европе ученые и серьезные люди, без всяких видимых признаков помешательства, глубоко верившие в возможность найти «жизненный эликсир», посредством которого можно продлить человеческую жизнь чуть ли не до бесконечности, и «философский камень», с помощью которого можно превращать грубые металлы в чистое золото. Эти люди посвящали все свое время и все свои средства на «великое дело», то есть на алхимическую процедуру, в результате которой получались, однако, вовсе не «философский камень» и не «жизненный эликсир», а нечто другое, очень интересное, но все же не удовлетворявшее искателей.
Рядом с людьми искренними и серьезно увлеченными являлось немало шарлатанов и грубых обманщиков, эксплуатировавших доверчивых любителей таинственного и обиравших их самым глупым образом.
Одновременно с «тайными» науками начали входить в моду и животный магнетизм, или «месмеризм», названный так по имени его провозвестника, немца Месмера, заставившего говорить о себе всю Европу…
Граф Александр Сергеевич Сомонов увлекался и «тайными» науками, и месмеризмом, и всякою таинственностью. Он и кружок его друзей делали всевозможные «опыты», разыскивали лиц, способных впадать в «таинственный сон». Про них, и главным образом про графа, то и дело в петербургском обществе рассказывали всякие истории, дававшие обильную пищу насмешкам. Императрица нередко забавлялась над тем, что граф «магнетизирует» дам и девиц и «варит из камней золото». Она даже задумала писать комедию, героем которой явился бы расточительный алхимик.
Граф ничем не смущался, все больше и больше увлекался своими таинственными занятиями и только ждал руководителя, великого адепта, который бы ввел его и его друзей в храм Изиды и открыл бы для них лик богини природы.
II
Прошло около месяца с тех пор, как граф Сомонов приезжал к Захарьеву-Овинову и как тот сначала смутил его, а потом порадовал известием о скором приезде Калиостро.
Во все это время в жизни Захарьева-Овинова, по-видимому, не произошло ничего выдающегося. Он, очевидно, делал все, чтобы не обращать на себя внимания, не заставлять говорить о себе. Многие из старых друзей и родственников его отца, до сих пор едва знавших о его существовании и нисколько им не интересовавшихся, теперь очень желали знакомства и сближения. Старый князь, безнадежно больной, того и жди, умрет. Этот новый сын – единственный наследник его большого состояния, единственный узаконенный теперь носитель его старого имени. После милостивого внимания, оказанного ему государыней, не о чем более задумываться. Сразу и молчаливо, как бы по данному знаку, всеми было решено забыть прошлое, признать нового князя своим родным. Особенно женщины, и главнейшим образом молодые женщины, сильно заинтересовались молодым князем. Ему стоило только отдаться течению, и он сразу стал бы самым модным человеком в Петербурге. Но он вовсе не хотел этого и в первое время легко мог скрываться, не обращая внимания на это, не возбуждая толков. Тяжкая болезнь отца, с одной стороны, летнее затишье – с другой, позволяли ему не бывать в обществе.
Потемкин не звал его больше к себе, а государыне доложил о нем в таком духе, что это человек действительно интересный и ученый, что его, конечно, можно с большою пользою приурочить к какому-нибудь делу, но до осени, ввиду семейных обстоятельств, недавнего приезда и всяких домашних дел, надо оставить его в покое.
Императрица не возражала.
Таким образом, Захарьеву-Овинову была предоставлена полная свобода, и он пользовался ею в том смысле, что все дни проводил в своих трех комнатах или в маленьком садике за чтением и письмом. Впрочем, часа три, четыре в день он бывал с отцом. Старик дал ему все нужные объяснения, сдал ему все дела, счета и расчеты, передал ему все фамильные документы. Иногда между ними завязывался разговор, иногда сын своим металлическим голосом рассказывал отцу очень интересные вещи о своих путешествиях по разным странам. Старик слушал внимательно, с видимым интересом, задавал вопросы. Но едва эти вопросы касались личной, внутренней жизни сына, обстоятельств его личного прошлого, неизменно происходила одна и та же сцена: по едва заметному мановению сыновней руки, по первому властному сыновнему взгляду старый князь засыпал на несколько часов и пробуждался подкрепленный и оживленный, но совершенно забыв разговор, предшествовавший его внезапному сну, забыв на некоторое время свое горячее желание проникнуть в прошлое сына…
Был конец июня. Захарьев-Овинов получил от графа Сомонова приглашение на его дачу. В приглашении этом значилось, что тот, кого так ждали, приехал и временно остановился у графа. Граф заканчивал свою записку так: «Льщу себя надеждой, что уже никакие обстоятельства не помешают вам быть у меня и насладиться беседой нашего знаменитого, столь долгожданного гостя».
Захарьев-Овинов, прочтя эту записку, покачал головою, но решил, что поедет. Он даже на мгновение вышел из своего холодного спокойствия и почувствовал, что завтрашний день его несколько интересует. В назначенный час его экипаж остановился у ограды сомоновского сада. Погода стояла довольно свежая и ненадежная. С утра поднявшийся ветер наносил тучи, и вообще в воздухе чувствовалось приближавшееся ненастье; поэтому, несмотря на праздничный день, графский сад не представлял обычного оживления. Гуляющие встречались, но их было немного.
Да и сам дом не имел своего постоянного открытого, так сказать, сквозного вида. С первого взгляда можно было заметить, что в этом доме совершалось нечто исключительное и важное. Даже графская прислуга казалась довольно торжественной и важно настроенной. Многочисленные экипажи на обширном дворе указали Захарьеву-Овинову, что он будет присутствовать на очень многолюдном пиршестве и собрании.
Так оно и оказалось. В приемных комнатах он застал толпу гостей – мужчин и дам. Многие из них его уже знали, и появление его было замечено.
Он обменялся любезными приветствиями со знакомыми и спешил вперед, к ожидавшей его встрече – не с хозяином, не с «божественным Калиостро», ради которого собралась эта жадная до новых впечатлений толпа, он теперь забыл и хозяина, и Калиостро. Он ощущал, отчетливо и ясно, присутствие кого-то, кто был соединен с ним тайными и крепкими узами, быть может, гораздо более тайными и крепкими, чем это ему самому казалось.
«Она здесь! – подумал он. – Значит, пришло время нам встретиться снова… значит, именно теперь я ей нужен… Да, конечно, именно теперь, именно сегодня…»
Графиня Зонненфельд, стройная и прекрасная, шла к нему навстречу. Но она еще не заметила его, взгляд ее глубоких глаз не то задумчив, не то рассеян.
– Графиня, – проговорил он, и в его голосе прозвучали, казалось, несвойственные ему мягкость и даже ласка.
Она остановилась. Глаза ее вспыхнули. Что блеснуло в ее взгляде – испуг или радость?
– Господин Зах… князь! – с легкой улыбкой сказала она, протягивая ему руку. – Я думала, что вы уже уехали, что вас нет здесь…
– Вы этого не думали, графиня…
– Во всяком случае, я хотела так думать… Отчего я вас нигде не встречала?.. Отчего вы не навестили меня, вашу старую знакомую? Разве вы не знали, что я буду рада вас у себя видеть?
– Нет, я знал, что вы будете рады меня видеть, – спокойно отвечал он, – но до сих пор я вам не был нужен… И у меня, и у вас были свои дела… Вы должны были окончить развод, и это вас поглощало, вы только об этом и думали. Я не хотел мешать вам, а быть вам хоть сколько-нибудь полезным в таком деле не мог…
– Да, вы правы… правы, как и всегда, – задумчиво сказала графиня, – но теперь мои дела кончены… я…
– Вы свободны, – перебил ее Захарьев-Овинов, – вы можете успокоиться… хладнокровно взглянуть на прошлое и подумать о будущем… Или, быть может, вы не хотите о нем думать?
– Я еще не имела времени решить этот вопрос… Этот месяц прошел так быстро, в хлопотах… я его не видела!
Он взглянул на ее чудно прекрасное, полное какой-то особенной благородной прелести лицо, взглянул в ее глаза, из глубины которых ему виднелся заманчиво разнообразный, полный неразгаданных еще тайн мир ее томящейся души, и выражение участия, сострадания, жалости мелькнуло и исчезло на его холодных чертах.
– Да, время идет быстро, – сказал он, – быть может, даже слишком быстро для вас – и надо им пользоваться. Вы теперь как в тумане, вы сами себя не осознаете… не осознаете, что значит, какой смысл имеет эта полученная вами свобода…
– В таком случае придите ко мне и объясните. Ведь там, в Риме вы многое мне объясняли и объяснили… с тех пор у меня немало явилось вопросов и, я думаю, только вы их можете решить. Придите ко мне и взгляните, как я теперь живу… Я живу лучше, чем в Риме, спокойнее, тише…
Она остановилась и посмотрела на него с таким выражением, какого было трудно ожидать от этой светской красавицы, привыкшей встречать всеобщий восторг и поклонение. Это было то самое выражение, с каким испугавшиеся и заблудившиеся дети глядят на человека, явившегося для того, чтобы успокоить их и привести домой… Дети глядят прямо в глаза, всецело покоряясь, всецело доверяясь – и протягивают руки без слов, говоря: «Бери… веди…» И тот, кто берет и ведет, принимает на себя всю ответственность за беззаветно покорившуюся ему, передавшую ему себя детскую душу.
Так и бывшая графиня Зонненфельд протянула руку Захарьеву-Овинову, и ее глаза ему сказали: «Бери… веди!»
Он без смущения принял ее руку и проговорил:
– Я скоро теперь приду к вам.
Она отошла, и в дверях соседней комнаты он увидел заметившего его и направившегося к нему хозяина.